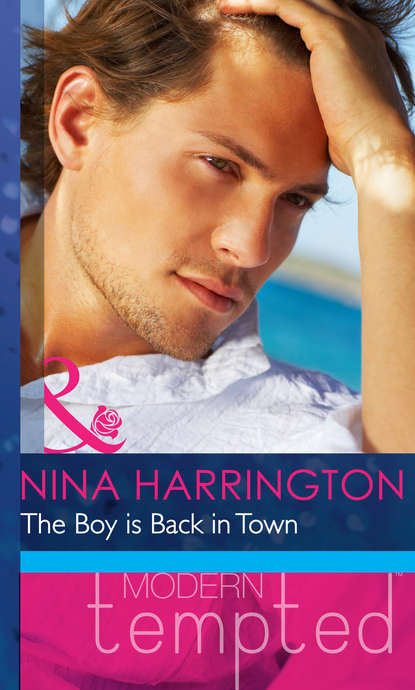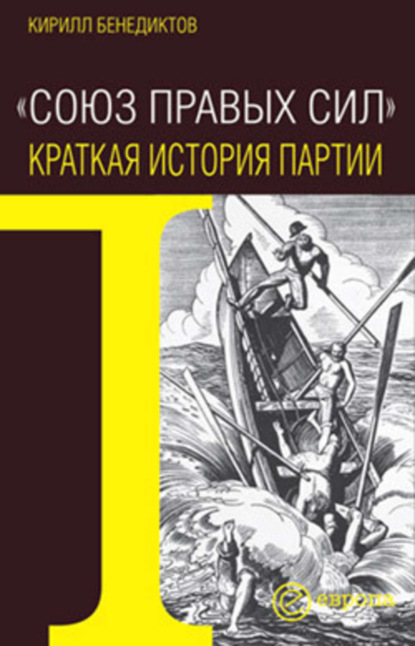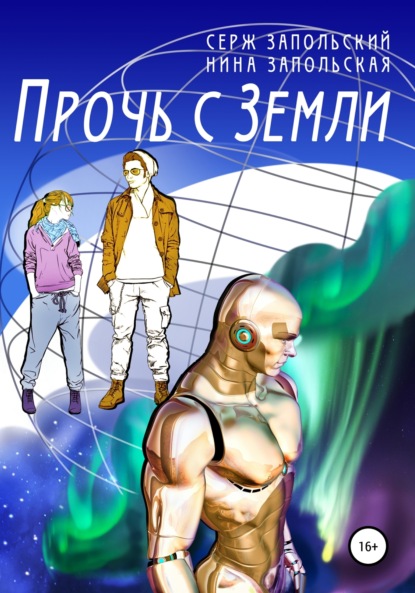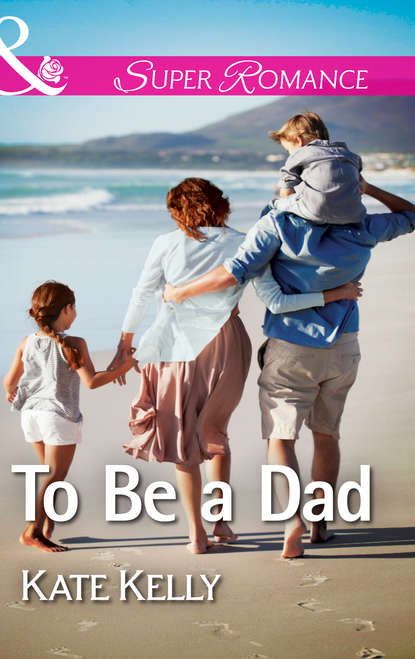Вглядываясь в пустоту. Сборник философских эссе
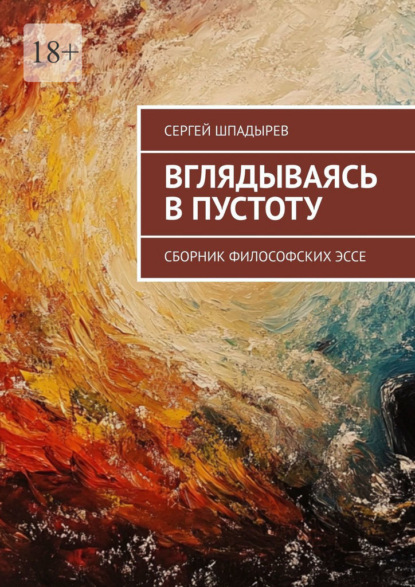
- -
- 100%
- +
Но если вы попробуете ответить на вопрос где именно находится само ваше сознание, вы придете к парадоксальному выводу. Сознание находится в вашем мозгу, ваш мозг в вашем теле, ваше тело на планете Земля, Земля в Солнечной системе, Солнце в Млечном Пути, Млечный Путь во Вселенной. Но где находится сама Вселенная? Только в вашем сознании.
Пратитья-самутпада – взаимозависимое возникновение. Будда учил, что ничто не может появиться из пустоты само по себе. Для появления любой новой вещи или явления необходимо взаимодействие двух или более частей. Чай появляется из взаимодействия горячей воды и листьев, а атом водорода из взаимодействия протона и электрона. А раз для появления любой вещи необходимо как минимум две части, то это значит, что все вещи являются составными.
Анитья – непостоянство составных вещей. Будда учил, что все составные вещи недолговечны и подвержены исчезновению. Все рождается и все умирает – растения, животные, люди, страны, религии, планеты, галактики и даже сама Вселенная проходят через этот цикл появления и исчезновения. И не существует ничего, что может обойти этот закон и существовать вечно.
Кшаникавада – мгновенность времени. Будда учил, что вне нашего сознания не существует ни прошлого, ни будущего. Прошлое – это лишь наши воспоминания, а будущее – это лишь расчет возможных вариантов развития событий. Единственное, что реально – это краткий миг между прошлым и будущем, исчезающе малое мгновение настоящего. Даже само течение времени является нашей иллюзией. Как смена 24 кадров в секунду на экране создает фильм, так и очень быстрая смена мгновений создает для наблюдателя всеобъемлющую иллюзию устойчивой и постоянной реальности.
Анатман – отсутствие собственного Я у вещей. Будда учил, что ни одна вещь не является неизменной и не имеет «души» или «самости» – чего-то, что остается у вещи с течением времени и определяет ее. Чтобы лучше понять это утверждение, давайте рассмотрим его на примере корабля Тесея. Корабль плавал по морям долгие годы, что-то в нем ломалось, гнило, и поэтому корабль часто чинили. При починке в нём постепенно заменяли доски, и так продолжалось до тех пор, пока в нем не осталось ни одной старой доски. Возникает вопрос: если все доски в корабле заменили, то является ли он тем же самым кораблем, которым был когда-то? Будда отвечает на этот вопрос отрицательно и утверждает, что ни корабль, ни какая-либо другая вещь или явление не обладает собственной ««душой», своим собственным Я. Но при этом Будда не отрицает целостности самого потока состояний, вызванного действием закона причин и следствий, и утверждает, что именно целостность этого потока и создает у нас иллюзию существования «сущности» вещей.
Доктрина анатмана может быть применена не только к другим вещам, но и к нам самим. Являюсь ли я тем самым человеком, которым я был в возрасте пяти лет? Мое тело сильно изменилось, все его клетки много раз обновились, мой ум изменился, мои знания увеличились во много раз. Единственное, что осталось во мне от меня пятилетнего – это смутные обрывки нескольких воспоминаний. Поэтому можно смело утверждать, что несмотря на целостность потока причин и следствий, сделавшего из меня пятилетнего меня сегодняшнего – это все-таки совершенно разные люди. Но если я сейчас не имею ничего общего со мной пятилетним, то то же самое можно сказать и об отсутствии единства между мной сейчас и мной секунду назад. Таким образом, целостность нашего собственного сознания, нашего «Я», является иллюзией, образованной быстрой сменой различных состояний.
Может показаться, что Будда – нигилист и отрицает реальность чего бы то ни было, ведь все вещи и явления иллюзорны, но это не совсем так. Лучше всего позицию Будды и его последователей описал известный буддийский мыслитель Нагарджуна. Он утверждает, что знание об истинном устройстве Вселенной трансцендентно, оно приходит только после Просветления, которое заключается в понимании того, что реальность неописуема, а описываемое – не реальность. Нагарджуна видит единственный способ приблизиться к точному описанию устройства мира в определении его через отрицание того, чем он не является. Таким образом Нагарджуна приходит к выводу, что наш физический мир не реален, но и не нереален…
Все известные нам теории физики обладают одним настолько очевидным свойством, что иногда бывает даже трудно заметить его существование. Формулировка этого свойства может показаться вам трюизмом, но, если вдуматься, она им отнюдь не является. Это свойство состоит в том, что если очистить любую теорию физики от словесного описания, то все что останется – это набор аксиом о неких абстрактных объектах и набор формул, по которым эти абстрактные объекты взаимодействуют. Это свойство полностью подтверждает правоту Пифагора, считавшего, что Вселенная основана на математике.
Более того, если мы опустимся глубоко вниз на уровень элементарных частиц, мы увидим, что вся наша материя не является чем-то твердым и незыблемым, а является чистой математикой, существующей в мире идей Платона. Электроны и фотоны проявляют свойства не только частиц, но и волн, то есть по сути математических функций – это явление называется корпускулярно-волновым дуализмом. Также наблюдается другое интересное явление – принцип неопределенности Гейзенберга, при котором увеличение точности измерения одной характеристики частицы уменьшает точность измерения другой – этот принцип порождается исключительно математическими ограничениями и служит отличным подтверждением того, что на квантовом уровне наш мир является скорее «идеальным», чем «материальным». Именно «идеальность» нашего мира делает возможным нарушение принципа локальности – в мире математики нет времени и вычисление значений характеристик частицы происходит мгновенно вне зависимости от разделяющего эти частицы расстояния.
Далее, если мы поднимемся высоко на верх на уровень галактик и околосветовых скоростей, мы увидим, что и там наша реальность становится все менее «материальной» и все более странной. Мы увидим, что при приближении к скорости света время для нас относительно времени для неподвижного наблюдателя замедляется. Мы обнаружим в пространстве-времени точки, названные черными дырами, которые засасывают все окружающее их вещество и даже свет, которые, тем не менее, с их собственной точки зрения падают в эту дыру бесконечно долго. Мы убедимся в том, что наш мир скорее является некой математической идеей нежели чем-то материальным.
Если же мы захотим найти в этом безумном мире что-то стабильное и определенное, на что можно опереться, то нас постигнет неудача. Любые понятия или объекты физики не несут никакого собственного смысла. Возьмем, к примеру, электрический заряд. Наличие электрического заряда никак не может быть определено у одной единственной частицы – для того, чтобы подтвердить его существование, нужно как минимум две частицы, а чтобы определить, что заряд – величина количественная нужно как минимум три частицы. То есть можно сказать, что заряд даже не существует без взаимодействия частиц. Это наблюдение подтверждает тезис Будды о взаимозависимом возникновении всех вещей и явлений.
Все вышеприведенные доводы показывают нам, как хорошо учения античных философов согласуются с самыми передовыми открытиями физики 20 века. Но что нам может предложить современная физическая и философская мысль?
Рассуждения знаменитого британского физика Стивена Хокинга дают нам интересную пищу для размышлений. Хокинг писал о том, что если даже мы завершим работу над «теорией всего» и найдем все уравнения и константы, согласно которым работает наша Вселенная, то перед нами мгновенно встанет следующий вопрос: почему именно эти уравнения? Что вдыхает в них огонь?
Самым очевидным и простым ответом на этот вопрос является, конечно, существование Бога-Творца и его промысла. Но есть и другой ответ, его дает американский физик Макс Тегмарк, профессор MIT и автор книги «Наша математическая вселенная». Тегмарк утверждает, что самый разумный ответ на данный вопрос такой: все непротиворечивые математические структуры реально существуют, и мы живем в одной из них. Эта гипотеза хороша тем, что она не плодит никаких лишних сущностей. Используя антропный принцип, мы можем допустить, что в некоторых очень сложных математических структурах возможно появление подструктур, обладающих самосознанием и способных исследовать саму эту структуру. Такими подструктурами являемся мы – Homo Sapiens.
Логическим развитием гипотезы математической вселенной Тегмарка служит гипотеза рекурсивно-вычисляемой вселенной Стивена Вольфрама. Ее главная идея состоит в том, что математическая структура, в которой мы живем, не финитна, а постоянно и рекурсивно самовычисляема. То есть, что настоящее – краткий миг между прошлым и будущем – это конкретное состояние нашей структуры, а физические законы Вселенной – это некая функция, и следующее состояние структуры является результатом применения функции к ее предыдущему состоянию. В пользу гипотезы рекурсивно-вычисляемой математической Вселенной говорят некоторые факты.
Первым аргументом является существование нескольких осей времени, то есть таких явлений, в которых состояние системы в прошлом и будущем не симметрично относительно настоящего. Причинно-следственная ось: причины порождают следствия, а не наоборот. Психологическая ось: мы помним прошлое, но не знаем ничего о будущем. Термодинамическая ось: энтропия в замкнутой системе только растет.
И если с первыми двумя утверждениями еще можно поспорить и заявить, что причинно-следственная связь – это лишь иллюзия, порожденная нашим умом, то поспорить со вторым законом термодинамики так просто не получится.
Эти и другие оси времени очень хорошо объясняются рекурсивным вычислением Вселенной. Текущее состояние – это входные данные функции, а следующее состояние – это выходные данные функции. Выходные данные зависят от входных, следующее состояние памяти зависит от текущего, а сложность и разнообразие получаемых состояний со временем может только расти.
Вторым аргументом в пользу гипотезы может послужить сильное сходство строения нашей Вселенной и многих объектов, существующих в ней, со строением фракталов, порождаемых рекурсивными функциями. Фрактал – это множество, обладающее самоподобием – объект, в точности или приближённо совпадающий с частью самого себя. Именно так устроена наша Вселенная. Планетарные системы похожи на атомы, звездные системы похожи на планетарные, а устройство галактик похоже на устройство звездных систем. Но при том, каждый из уровней имеет свою собственную неповторимую структуру. Посмотрите, насколько изображение множества Мандельброта напоминает фотографии далеких галактик.
Гипотеза о рекурсивно-вычисляемой Вселенной неизбежно наводит на мысли о том, что весь наш мир может быть лишь симуляцией, работающей на каком-то мощном компьютере во внешней «настоящей» реальности, а все мы – лишь персонажами игры Sims. Такую возможность нельзя отрицать, но она никак не противоречит нашей гипотезе. Если мы действительно живем в симуляции, то компьютер, на котором вычисляется наша Вселенная точно так же должен быть устроен на принципах математики, ведь математика живет в мире платоновских идей и не является частью нашей реальности. Чтобы создание такого компьютера было возможно, внешняя «настоящая» Вселенная тоже должна быть основана на строгих математических законах. А следовательно к ней точно так же может быть применена гипотеза симуляции, и существа, живущие во внешней Вселенной, не могут точно быть уверены в том, что их мир не является симуляцией. Но как бы далеко в бесконечность ни уходила вложенность симуляций друг в друга, в конце концов на самом верху должна будет существовать «самая настоящая» Вселенная, и она тоже должна быть основана на законах математики.
Как это ни странно, но именно основание нашего мира на математике оставляет в нем место для Бога. Чтобы понять, как это возможно, стоит мысленно отправиться в начало 20 века. В те времена среди математиков и философов была очень популярна идея о том, что вся математика может быть сведена к некоему компактному ядру, состоящему из аксиом и методов доказательства теорем. Знаменитый британский философ и математик Бертран Рассел, более всего известный по названному в его честь летающему в космосе чайнику, считал, что это ядро будет основано на логике – это направление поиска оснований математики называлось логицизмом. Великий немецкий математик Давид Гильберт, который кроме своих блестящих успехов в математике также внес значительный вклад в физику, оказав Альберту Эйнштейну помощь в создании уравнений гравитационного поля для общей теории относительности и заложив основы математического аппарата квантовой механики, считал, что это ядро будет основано на формальных системах – это направление называлось формализмом.
Все мечты Рассела и Гильберта были разрушены 7 сентября 1930 года в Кёнинсберге (нынешнем российском Калининграде). В этот день молодой австрийский математик Курт Гёдель представил доказательство того, что в любой непротиворечивой формальной арифметике существует недоказуемая и неопровержимая формула. Это значит, что даже если наша Вселенная основана на законах математики, сводимых к некоторым базовым аксиомам, то существуют утверждения, которые даже теоретически невозможно будет ни доказать, ни опровергнуть. В математике такие недоказуемые и неопровержимые в рамках некоторой аксиоматики утверждения обычно называют абсурдными. Одним из таких абсурдных утверждений является гипотеза о существовании Бога-Творца. Поэтому для верующих в его существование людей всегда останется лазейка даже в математической Вселенной – верую, ибо абсурдно.
Как древние шумеры повлияли на значение скорости света, и почему Великая Французская Революция не смогла им помешать
Из учебников физики нам известно, что скорость света в вакууме равна 299792458 метрам в секунду. Вы никогда не задумывались, почему такая фундаментальная физическая константа как скорость света имеет такое странное значение? Почему она равна приблизительно тремстам миллионам метров в секунду? Почему ни больше и ни меньше? В чем сакральный смысл этого числа?
Никакого сакрального смысла в этом числе, ясное дело, нет. Все дело в том, что мы получаем такое бессмысленное значение скорости света исключительно из-за полной бессмысленности выбранной нами системы мер. Ведь что такое секунда и метр?
Чтобы понять это, давайте представим себе инопланетянина, изучающего людскую цивилизацию. Он узнает, что для измерения времени мы используем единицы, равные времени полного обращения нашей планеты вокруг собственной оси, деленное на некоторое число. Если мы поделим время полного обращения Земли на двадцать четыре, то получим час. Если час мы поделим на шестьдесят, то получим минуту. А если и минуту мы поделим на шестьдесят, то получим секунду. И при этом именно секунда выбрана в качестве основной единицы в международной системе стандартных единиц. Что за бессмыслица? – подумает инопланетянин.
Ладно, взять астрономические сутки в качестве основы – абсолютно логично. Это естественный для любого живого существа на планете цикл смены дня и ночи. Кроме того, точно отмерить сутки не составляет никакого труда – сутки примерно равны времени, проходящему между двумя рассветами или двумя закатами. Но зачем, черт возьми, мы делим их сначала на двадцать четыре, а потом два раза на шестьдесят? Почему именно на двадцать четыре и на шестьдесят, а не на десять и двенадцать? Виноваты в этом, как это ни парадоксально, шумеры.
Древние жители Месопотамии использовали для счета пятеричную и двенадцатеричную системы счисления, которые при совместном использовании породили особую шестидесятеричную систему счисления. Именно от них нам в наследство достались триста шестьдесят градусов в окружности, шестьдесят минут в часе и шестьдесят секунд в минуте. Сутки неудобно было делить на шестьдесят частей, поэтому они ограничились лишь двенадцатью. Но в дальнейшем оказалось, что, как бы комично это не звучало, двенадцати часов в сутках маловато для повседневных нужд и они разбили каждый час еще на два.
Еще больше наш инопланетянин-ученый удивился бы, если бы посмотрел в словаре на значение самих слов минута и секунда. Слово «минута» на латыни означает «маленькая», что роднит его со словом «миниатюрная». А слово «секунда» переводится как «вторая» – именно поэтому в английском языке слова second «секунда» и second «второй/вторая» – это одно и то же слово. Но почему вторая? Все дело в том, что изначально минута называлась pars minuta prima, то есть первая маленькая часть часа, а секунда – pars minuta secunda, то есть вторая маленькая часть часа. Со временем pars minuta prima сократилось до minuta, а pars minuta secunda до secunda.
Секунды и минуты – не единственные «случайные» единицы измерения времени. Например, мы с самого раннего детства настолько привыкли разбивать год на месяцы, а последовательность дней на недели, что считаем это само собой разумеющимся и не задумываемся, что в природе не существует вторников и февралей. Среди единиц, которыми мы измеряем время, есть только две относительно естественные астрономические величины. Это сутки и год. Сутки, как я уже говорил, это время оборота нашей планеты вокруг собственной оси, что с поверхности самой планеты мы ощущаем как смену дня и ночи. А год – это время оборота Земли вокруг Солнца, что с поверхности планеты мы ощущаем как смену времен года. Сутки древними людьми измерялись как время между двумя рассветами, а год как количество суток, которое проходит до того, как Солнце опять встает в точно том же самом месте горизонта, что и прежде.
Но для удобства людям нужны были гораздо меньшие, чем год, но большие, чем сутки, единицы времени. На помощь пришла Луна – она делает полный оборот вокруг Земли примерно за двадцать девять с половиной суток. Это время и назвали месяцем – именно поэтому в русском языке слове месяц обозначает как часть года, так и фазу Луны, а в английском слово Month образовано от корня Moon. Но как разбить год на месяцы? В году примерно 365 суток, а в лунном месяце примерно двадцать девять с половиной суток, и триста шестьдесят пять не делится на двадцать девять без остатка. В разных цивилизациях древности к решению этой проблемы подходили по-разному, но в привычных нам юлианском (созданном при Юлие Цезаре) и григорианском (созданном на основе юлианского при папе Григории XIII) календарях год разделен на двенадцать месяцев. Некоторым из них досталось по тридцать дней, а другим по тридцать одному дню, и для баланса один из них, февраль, недогрузили и сделали равным двадцати восьми дням. Но на этом злоключения февраля не закончились. Так как в году не ровно триста шестьдесят пять суток, а примерно триста шестьдесят пять с четвертью, то за четыре года накапливаются целые лишние сутки расхождения между календарем и реальностью. Волевым решением эти лишние сутки было решено включить в февраль каждого четвертого года, которому до этого при делении недодали несколько дней. Такие календарные годы назвали високосными.
Но и это еще не все. Месяцы оказались тоже слишком длинными, людям нужна была еще меньшая единица измерения последовательного количества суток. На помощь опять пришла Луна. За один лунный месяц Луна видна в четырех разных фазах: от почти невидимого месяца она растет до полной луны, а затем уменьшается обратно, дважды находясь в состоянии, когда видна только левая или правая половина Луны. Если двадцать девять суток в месяце разделить на четыре фазы Луны, то получится, что каждая фаза длится примерно по семь дней. Такой легко измеримый по Луне отрезок времени оказался очень удобен для организации циклически повторяемых работ и ритуалов – уже в Древнем Египте религиозные обряды проводились периодами по семь дней. В Древнем Риме семидневная неделя была перенята от египтян в ходе календарной реформы Гая Юлия Цезаря и введении юлианского календаря, после чего распространилась во все остальные владения Римской Империи. Окончательно же семидневная неделя стала стандартом благодаря распространению христианства и Библии, в Ветхом Завете которой семидневный цикл религиозных ритуалов был закреплен в виде количества дней, затраченных Богом на сотворение мира.
В истории проводилось несколько попыток ввести новый календарь. После победы Великой Французской Революции пришедшие к власти революционеры решили провести дехристианизацию календаря и ввели так называемый французский республиканский календарь. В нем год делился на двенадцать месяцев по тридцать дней в каждом и дополнительные пять или шесть дней предновогодних праздников. Месяц в свою очередь делился не на недели, а на три декады по десять дней каждая. Летоисчисление велось от года победы революции. Просуществовал этот календарь недолго – пришедший к власти в ходе переворота восемнадцатого брюмера (второго месяца осени) восьмого года Наполеон Бонапарт вскоре отменил этот во всех смыслах революционный календарь.
Кроме того, во времена Первой Французской Республики происходили попытки реформировать системы измерения времени в сутках и вводилась система десятичного времени, в которой в сутках было десять часов, в часе десять минут, а в минуте десять секунд. Однако эта система не снискала популярности, так как оказалась крайне неудобной по сравнению с классическими часами – новые величины были слишком большими, чтобы мерить ими промежутки времени, затрачиваемые людьми на какие-то мелкие дела.
Что ж, с секундой разобрались. Теперь сделаем тоже самое и с метром. Это невероятно, но история метра также тесно связана с Великой Французской Революцией. Но сначала давайте перенесемся в средние века и узнаем, чем же тогда измеряли длину. В те времена не существовало стандартных мер длины. Более того, в каждом городе был свой набор особых единиц измерения длины и веса. Кстати, именно потому, что золото и серебро в средневековье служило деньгами и измерялось на вес, почти все современные названия денежных единиц, такие как фунт, шекель, гривна и даже рубль (отрубленная четверть гривны) изначально являлись названиями мер веса, а не ценности.
Но давайте все же вернемся к метру. Как я уже сказал, в средневековье не существовало стандартных единиц измерения расстояния, и в каждой юрисдикции использовались свои собственные изобретения. Но идея универсальной меры (а слово metro на латыни и означает «мера»), зависящей лишь от законов природы, а не от повеления государей, витала в воздухе и лишь политические причины мешали ее появлению. Первое удачное определение метру дал английский священник и философ Джон Уилкинс – он определил метр как длину маятника, полупериод колебаний которого равнялся одной секунде. Таким образом, значение универсальной единицы измерения расстояния оказалось основано на шумерской единице измерения времени.
Конечно, с определением Уилкинса возникли проблемы, так как на разных широтах длина маятника с полупериодом колебаний в одну секунду оказывалась немножечко разной. Поэтому окончательное определение метру было дано академией наук Первой Французской Республики, которая определила метр как одну сорокамиллионную длины Парижского меридиана – это значение примерно равнялось изначальному метру Уилкинса, но задавалось с гораздо большей точностью. Французские ученые измерили расстояние от Дюнкерка до Барселоны – эти два города как раз лежат на Парижском меридиане. Зная разницу географических координат этих городов они рассчитали точное значение метра и выплавили из латуни эталонный образец, чьи копии они разослали по всему миру, а оригинал оставили храниться в парижской палате мер и весов.
Таким образом, обе наших основных единицы измерения пространства и времени – секунда и выведенный с ее помощью метр – являются абсолютно случайными величинами, на чьи значения повлияли физические характеристики нашей планеты и система счисления, использовавшаяся древними шумерами. Но существует ли идеальная система измерительных единиц, лишенная подобных недостатков?
Теоретически, существует. Она называется планковскими единицами – в честь предложившего ее использование знаменитого немецкого физика Макса Планка. В основе планковской системы единиц лежат четыре фундаментальных константы физики – скорость света c, постоянная Дирака ħ, гравитационная постоянная G и постоянная Больцмана k. Значение всех четырех констант принято за единицу. Получается система единиц, в которой планковская масса является верхним пределом для масс элементарных частиц и нижним пределом для масс черных дыр, планковская длина является минимально возможным квантом пространства – хотя дискретность пространства не подтверждена и является лишь гипотезой, а планковское время является временем, за которое свет преодолевает планковскую длину, то есть тем самым мимолетным «моментом», тиком Вселенского компьютера.