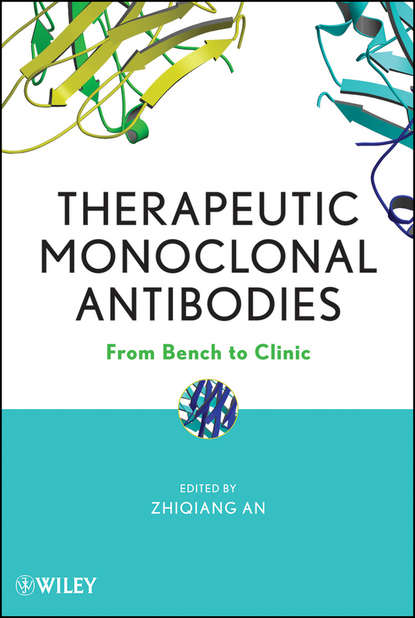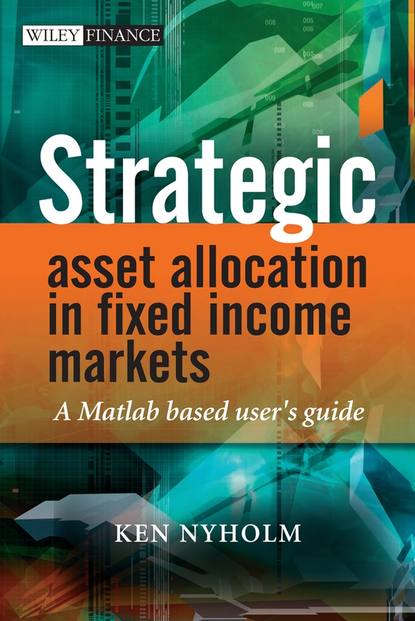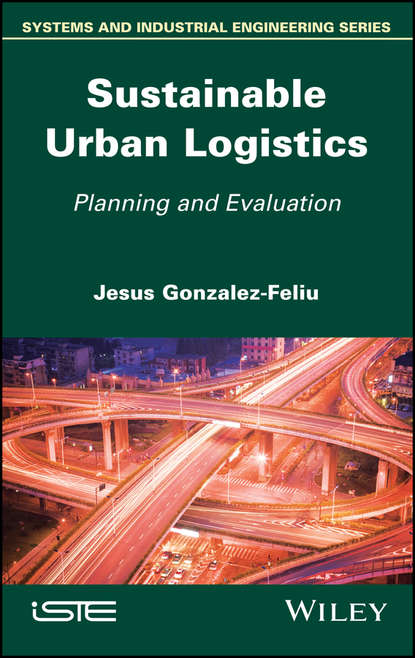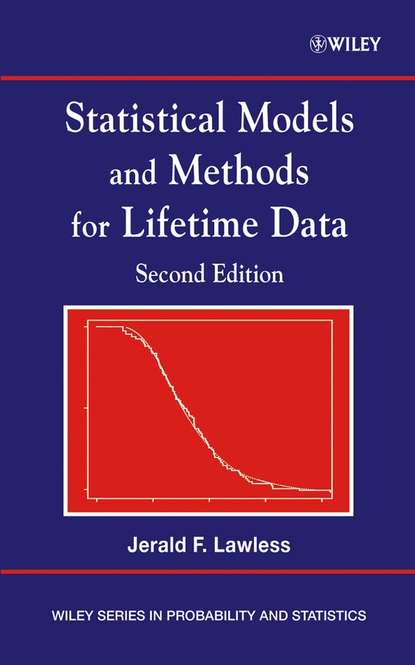Хроники Угасающего Света

- -
- 100%
- +
Мысль, давно зревшая в глубине его израненной души, как черная плесень во влажном углу, поднялась снова, черная и неумолимая, как прилив в мертвом море. Что если…? Что если здесь, в этом мире с его жесткими, негнущимися законами смерти, как стальными прутьями решетки, он сможет сделать то, что было невозможно в Элидоре? Вернуть Лорика? По-настоящему? Не жалкую пародию, не симулякр, как этих бедолаг вроде Николая, а его мальчика? Его свет? Его единственную причину не сдаться окончательно Тьме, которая манила его с каждым днем все сильнее, суля забвение от этой вечной, тошной боли?
Безумие? Да. Но разве его нынешняя жизнь не была высшей степенью безумия? Хождение по краю пропасти ради жалких бумажек? Он копил деньги не только на еду и крышу… Он копил на это. На последний, самый страшный ритуал. На поиск иглы в стоге вселенского небытия… Каждый жалкий грош, вырванный у отчаяния вдов и наследников, давал ему доступ к редким, чудовищно дорогим материалам, которые могли сработать как проводники или источники энергии в этом безмагическом мире. Каждая капля жизненной силы, выжатая из себя во время мерзких ритуалов, каждый надрыв души – это была капля в чашу его собственной силы, которую он отчаянно копил, как скупой рыцарь, для главного прыжка. Каждый мерзкий ритуал – шагом в бездну, где, возможно, ждал его свет.
На следующий день пришел новый клиент. Молодой человек в дорогом, но помятом костюме, словно он спал в нем несколько дней. Глаза лихорадочно блестели, как у загнанного зверя. Его отец, влиятельный бизнесмен, умер внезапно – сердце. Оставил завещание… которое никто не мог найти. А акулы бизнеса, конкуренты, уже стервятниками кружили над компанией, чуя слабину. Нужно было узнать, где документ, любой ценой. Цена? Любая. Ардис смотрел на него, а видел только кирпичик в фундаменте своего будущего чуда. Кирпичик, оплаченный чужой смертью, чужой памятью, чужой болью. Еще один шаг к Лорику.
«Хорошо, – сказал Ардис своим безжизненным, как шелест сухих листьев, голосом. – Подготовьте место. Тишина. Холод. И… внесите предоплату. Пятьдесят процентов». Деньги были теплыми от нервного пота.
Прошли недели. Ардис стал призраком на темных, дождливых улицах Петербурга, тенью, скользящей между мирами живых и мертвых. Его «услуги» пользовались спросом в определенных, очень отчаянных или очень алчных кругах. Слухи о «Черном Воскрешателе» ползли, как подвальные слизни, обрастая ужасающими подробностями, которые часто были недалеки от леденящей кровь истины. Он брался за все более сложные, все более рискованные случаи. За тела, пролежавшие недели, уже начавшие свое необратимое путешествие в тлен. За тех, чья смерть была насильственной и травматичной – выстрелы, ножи, падения, где душа отлетела в шоке и боли. Каждый раз ритуал был мучительнее, отдача – страшнее. Каждый раз возвращенные «к жизни» были больше похожи на оживших кошмаров, на пародии из плоти: они мычали нечленораздельными звуками, их конечности двигались с жуткой, роботической резкостью или дергались в бесконтрольных судорогах, глаза отражали только пустоту или нечеловеческий, первобытный ужас. Черная кровь, пенящаяся у рта, судороги, выворачивающие суставы, невыносимый, сладковато-гнилостный запах, усиливавшийся после ритуала в разы, стали его неизменными спутниками. Ардис худел, его кожа приобрела землистый, полупрозрачный оттенок, как у глубокого старика или давно болеющего чахоткой, а в глазах поселилось что-то нечеловеческое, холодное и голодное – взгляд хищника, высматривающего добычу не в этом мире. Он жил, лишь подпитываясь своей маниакальной мечтой, как наркотиком, заглушающим боль и отчаяние.
Он нашел старый, заброшенный склеп на одном из дальних, забытых кладбищ. Место силы, в своем извращенном роде. Место, пропитанное смертью до кирпичей, пропитанное тишиной, которая звенела в ушах. Здесь, среди праха чужих предков, он готовил главный ритуал. Стены были исписаны сложными, переплетающимися символами – смесью древних знаков Элидора, взывающих к Теням, и холодных, рациональных схем, подсмотренных в украденных учебниках по биоэнергетике и квантовой физике – его отчаянная, безумная попытка понять законы этого чужого мира и обойти их, найти лазейку в Цитадели Смерти. Посреди склепа, под сводами, отбрасывающими зловещие тени, стоял пустой саркофаг из дешевого, шершавого гранита. Для Лорика. Гроб для воскрешения.
Денег почти хватало. Почти. Оставалось последнее дело. Самое рискованное. Клиентка – пожилая женщина, аристократических кровей… Она предлагала состояние. Родовые драгоценности… То, что нужно Ардису для завершения подготовки – последние, самые редкие «ингредиенты», купленные за баснословные деньги в подпольных лабораториях и у коллекционеров запретного. И еще – огромный заряд витальной силы, который могла дать столь сильная, отчаянная привязанность. Она жила в полуразрушенном особняке на Петроградской. Пыль веков лежала на роскоши. Ее брат-близнец, ее вторая половина, ее отражение в зеркале души, умер месяц назад. Она не могла жить без него. Хотела поговорить. Один раз. Последний раз. Она предлагала состояние. Родовые драгоценности, хранящие холод поколений. То, что нужно Ардису для завершения подготовки – последние, самые редкие «ингредиенты», купленные за баснословные деньги в подпольных лабораториях и у коллекционеров запретного.
Ритуал проходил в огромной, промозглой гостиной особняка, среди покрытых паутиной, как вуалью, портретов строгих предков, чьи глаза, казалось, следили из темноты. Тело брата, Эдуарда, лежало на массивном дубовом столе, похожем на эшафот. Оно уже начало изменяться, несмотря на дорогое бальзамирование – кожа приобрела серо-зеленый оттенок, черты лица поплыли. Ардис чувствовал сопротивление Небытия, как толстую, вязкую паутину, окутавшую тело, пытающуюся затянуть его обратно в небытие. Он использовал все, что знал: и последние крохи своей силы, выжатые до капли, и мощные стимуляторы, купленные у того же «аптекаря», от которых сердце колотилось, как бешеное, а мир плыл перед глазами, и драгоценный порошок из толченого аметиста (в этом мире он обладал слабыми резонирующими свойствами, откликался на напряжение мысли). Иглой компаса – последней, самой мощной, – он прочертил сложную, мерцающую слабым светом диаграмму прямо на холодной, липкой коже груди покойного. Диаграмма горела холодным огнем.
Началось. Тело Эдуарда задергалось, как марионетка на невидимых нитях, дергаемых судорогой. Кости трещали, издавая сухие, чудовищные звуки. Изо рта хлынула та самая черная, густая, маслянистая жидкость, запах которой ударил в нос – смесь разложения и озона. Глаза открылись – и это были не глаза человека. Это были черные, бездонные дыры, в которых мерцал ледяной, чужой, нездешний свет, как далекие, враждебные звезды. Голос, когда он заговорил, был не голосом. Это был голос самой Пустоты, голос холода между звездами, голос бесконечного падения в никуда, голос, от которого замерзала кровь в жилах.
«СЕСТРА…» – проревело нечто из горла Эдуарда. Звук ударил по старинным витражам, заставив их дребезжать и трескаться. «…ТЫ ПРИЗВАЛА… НЕ ТОГО… Я НЕ ТВОЙ ПЕС… Я ВРАТА… Я… ПРОСЫПАЮСЬ…»
Женщина вскрикнула, отшатнулась, лицо ее исказилось чистейшим, животным ужасом, стирая все следы аристократизма. Ардис почувствовал, как что-то ломается. Не в ритуале. В мире. В самой ткани реальности вокруг стола возникла рябь, как над раскаленным асфальтом в зной. Воздух затрепетал. Предметы начали двоиться, терять четкость. Из черных глаз-бездн Эдуарда потянулись тонкие, как паутина, но невероятно плотные щупальца чистых теней, устремившиеся к сестре, к ее груди, к голове.
«НЕТ!» – закричал Ардис, понимая с ледяной ясностью, что потерял контроль. Он не призвал тень брата. Он прорвал заслон. Выпустил что-то извне. Из той самой Пустоты, через которую провалился сам, из бездны между мирами. Он бросился вперед, инстинктивно пытаясь выдернуть свою иглу-компас, вонзенную в центр диаграммы – единственную нить, связывающую его с этим кошмаром. Его рука коснулась холодной, липкой кожи Эдуарда, покрытой черной жижей…
И мир взорвался болью. Абсолютной. Вселенской. Болью разрывающейся ткани бытия.
Он очнулся в своем склепе. Не помнил, как добрался. В ушах стоял тот нечеловеческий рев Пустоты, заглушавший все. Перед глазами плясали черные, пульсирующие пятна. Рука, коснувшаяся Эдуарда, была обожжена, но не огнем, а холодом – кожа покрылась струпьями цвета воронова крыла и сочилась желтовато-черным, зловонным илом. Он чувствовал, как чужая, ледяная, чудовищная энергия пульсирует внутри него, отравляя кровь, замораживая душу. Но… деньги были при нем. Драгоценности тоже, холодные и тяжелые в кармане. Он заплатил за них частью своей души, частью рассудка, частью плоти. Но у него было все, что нужно для Лорика. Цена уже не имела значения. Точка невозврата пройдена. Он чувствовал, как холодная, чужая энергия, полученная от прикосновения к «Вратам» в Эдуарде, пульсирует в обожженной руке, смешиваясь с его собственной иссохшей силой. Она была ядовита, но сильна. Возможно, она станет последним толчком.
Дни слились в кошмар лихорадки и боли. Он готовился, превозмогая слабость, глотая обезболивающие горстями, но не останавливаясь. Он начертил сложнейший, многослойный круг на каменном полу склепа – из чистейшей соли, толченого аметиста и… своей собственной крови, смешанной с темным, живым илом, сочившимся из ожога. В центр круга он поместил сосуд с накопленной витальной силой – сгущенной энергией отчаяния и боли, вытянутой из всех его «клиентов», хранящейся в специально обработанном кристалле аметиста. Над этим мини-алтарем висела последняя, самая мощная игла его старого компаса Элидора (проводниковая, не обломок Лорика) и – отдельно – теплившийся в кармане обломок Иглы Лорика, сердце ритуала. Ардис сосредоточился на обломке Иглы Лорика, вкладывая в него всю свою волю, всю свою иссохшую тоску, всю накопленную жизненную силу – свою, уже почти исчерпанную, и чужую, сжатую в аметисте, квинтэссенцию страха, боли и отчаяния. Он чувствовал, как его тело стареет на глазах, волосы седеют и выпадают клочьями, кожа сморщивается, как печеная яблока, ногти слоятся. Он не щадил себя. Это было всё. Последний бросок.
Лорик, я иду.
Он начал ритуал. Не шепотом, а полным, дрожащим от нечеловеческого напряжения голосом, он произносил древние, запретные Имена Собирателей Теней, моля не о возвращении души – он знал, что это невозможно здесь, – а о ее поиске в бескрайних, ледяных пустотах между мирами. Он звал Лорика. Его мальчика. Его свет. Его утраченное солнце. Игла компаса раскалилась докрасна, загудела, как рой разъяренных ос, вибрируя в воздухе. Воздух в склепе сгустился, стал вязким, как сироп, тяжело дышать. Тени зашевелились, оторвались от стен, потянулись к кругу, как железные опилки к магниту. Начали формировать знакомый силуэт… маленький, хрупкий… очертания головы, плеч…
Ардис вливал в ритуал последние капли своей жизни, своей души, своего безумия. Он видел! Видел смутные очертания! Слышал слабое эхо детского смеха, звенящее, как колокольчик в тумане! Сердце, изношенное до дыр, готово было разорваться от предвкушения и леденящего ужаса. Он схватил проводниковую иглу и с силой своей воли, всем огнем отчаяния, направил ее, как стрелу, сквозь формирующийся силуэт, пытаясь пронзить его и привязать к реальности, крикнув имя сына на языке предков… В последний миг его свободная рука сжала обломок Иглы Лорика, чувствуя его ледяную связь с Пустотой…
Раздался звук, похожий на лопнувшую струну гитары размером с небоскреб… Проводниковая игла компаса взорвалась… В центре круга… лежал… предмет.
Ардис, обессиленный… подполз… Это была кукла. Тряпичная кукла… Она была страшно, до мурашек, похожа на Лорика. Точнее, на злую, дешевую пародию на него… Жуткая, мертвая подделка жизни. Но в ее груди, вместо сердца, торчал крошечный, почерневший осколочек – словно отколовшийся кусочек того самого обломка Иглы Лорика, который Ардис сжимал в момент провала ритуала.
Ардис остолбенел… Он протянул дрожащую… руку, коснулся грубой ткани куклы… И его сознание накрыло волной образов… Он понял все. Не просто то, что его ритуалы были пародией. Он понял, ЧТО именно он делал. Он не воскрешал. Он насильно привязывал к мертвой плоти клочья хаотичной эфирной материи из Пустоты между мирами. Эти сгустки были не душами, а нестабильными, голодными паразитами, пожирающими эмоции и жизненную силу живых и медленно замещающими реальность вокруг себя своей "пустотной" природой. И он, своими руками, создал этих чудовищ. Анна Петровна, Дмитрий, Лида, Миша… Они были заражены. И эта кукла…
Жестокая истина обрушилась на него… Эта кукла была кристаллизацией всего этого кошмара. Она сплелась из его безумной тоски по сыну, его искаженной магии, его связи с обломком Иглы Лорика в Пустоте и – главное – из квинтэссенции той самой "пустотной" заразы, которую он влил в своих жертв и которую выжал из них для этого ритуала. Она была узлом. Центром паутины. И она вибрировала. Слабо, но отчетливо. Он чувствовал не просто ее мерзкую пустоту. Он чувствовал тонкие, как паутина, нити, тянущиеся от нее в темноту, сквозь толщу камня склепа и пространства. К Анне Петровне и ее сдавленному сгустку. К Дмитрию и его бурлящему, ненавидящему паразиту. К Лиде. И к Мише. К его маленькому, затянутому тьмой пламени. Кукла была антенной, настроенной на его собственную искаженную душу, на Иглу Лорика в Пустоте и на выпущенную им заразу. Репитером, усиливающим связь между ним, его жертвами и самой Пустотой, откуда он черпал силу для своих кощунств. Через нее, через эту жуткую пародию на его любовь, он мог чувствовать их всех…И его сознание накрыло волной образов, не его воспоминаний, а… чужих. Горячих, влажных, пропитанных болью и ужасом. Он увидел Анну Петровну. Она стояла перед открытым сейфом под полом кладовки, в пыльном полумраке. Внутри лежали не золотые монеты царской чеканки, о которых бормотал ее «воскрешенный» муж, а пачка истлевших, никому не нужных облигаций какого-то давнего военного займа и пожелтевшая, потрепанная фотография той самой Маши – молодой, улыбающейся. Анна Петровна смотрела на фото, и в ее глазах не было прощения. Только пустота, глубже кладбищенской ямы, и горькое, всеразъедающее понимание, что последние слова ее мужа были бессмысленным бредом умирающего мозга, пропитанного ужасом Пустоты. Что она заплатила состояние, последние гроши, за ложь. За кошмар, который теперь жил с ней в квартире, шурша в углах по ночам.
Он увидел молодого бизнесмена. Он вскрывал потайной сейф в кабинете отца, пользуясь «указаниями» из загробного мира, вырванными сквозь пену и хрип. Внутри лежало не завещание, а пачка пожелтевших любовных писем к другой женщине и детские рисунки, подписанные именем, которого сын не знал – именем сводного брата, о котором он и не подозревал. Завещание, как выяснилось позже, было у нотариуса. Наследство ушло конкурентам. Молодой человек запил, затопил свою боль в дешевом спирте.
Он увидел старую аристократку в полуразрушенном особняке. Она сидела в темноте огромной гостиной. Ее лицо было мертвенно-спокойным, как маска. На столе перед ней лежал старый, но ухоженный револьвер. Она смотрела в пустоту, туда, где несколько дней назад ревело нечто из тела ее брата, где висели черные щупальца. Ардис почувствовал ее последнюю, кристально ясную мысль, как удар ножом: «Оно сказало правду. Я призвала не того. Я открыла Врата… для себя». Палец нажал на спуск.
И поток образов становился все гуще, все ужаснее, захлестывая, как цунами горя и безумия. Он увидел всех. Всех, кого он «воскрешал». Не как они были в момент его чудовищного ритуала, а после. Мужчину, «вернувшегося» по просьбе жены сказать, где спрятаны ключи от машины, который потом, оставшись один в комнате, начал методично, с тупым упорством, рвать зубами собственные пальцы, хрустя костями. Старушку, «попрощавшуюся» с плачущим внуком, которая потом ночами ходила по дому, как сомнамбула, стуча головой о стены, монотонно повторяя на том же чужом, гортанном языке, что звучал у Николая, одно слово: «Боль… Боль… Боль…». Молодую женщину, узнавшую у «воскрешенного» отца пароль от банковского счета (это была дата смерти ее матери), а потом, через неделю, обнаружившую, что ее собственный новорожденный ребенок перестал плакать, сосать, а лишь смотрел на нее теми же пустыми, мертвыми глазами, что и ее отец в момент «возвращения»…
Их не просто «вернули». Их заполнили. Заполнили тем, что Ардис выдергивал из Небытия – не душами, а ошметками. Осколками чужих, мучительных смертей, эхом чужих агоний, клочьями иной, враждебной реальности, плавающими в Пустоте. Он не возвращал души. Он создавал ходячие гробницы, наполненные радиоактивным мусором Вечности. И этот мусор, эта чужая смерть, была заразна. Она просачивалась в живых, прикасавшихся к нему, дышавших одним воздухом. Как чума. Как проклятие, разъедающее реальность изнутри. Он был разносчиком.
Ардис отдернул руку от куклы, как от раскаленного железа. Его стошнило прямо на ритуальный круг, оскверняя священные (теперь – оскверненные вдвойне) символы. Не едой. Черной, густой, зловонной жижей, пахнущей мертвой плотью, озоном после грозы и чем-то бесконечно холодным и чужим. Он смотрел сквозь слезы боли и отвращения на жуткую тряпичную куклу, лежащую среди кошмарного месива. Его Лорик. Его надежда. Его свет.
Ардис засмеялся. Звук был ужасен – хриплый, надрывный, как предсмертный хрип, смешанный с рыданиями и бульканьем черной жижи в горле. Он смеялся над собой. Над своей слепотой, своей глупостью, своей маниакальной надеждой. Над чудовищной, невообразимой ценой своих действий, которую он так яростно отказывался видеть. Он смеялся, а из его глаз, сухих и горящих, не текли слезы. Текла та самая черная, густая жижа, как слезы Пустоты
Он поднял тряпичную куклу. Она была легкой. Пустой. Страшно легкой. Он прижал ее к своей груди… Кукла в его руках была ключом. Страшным, извращенным ключом к контролю над кошмарной паутиной, которую он породил. Она вибрировала слабо, но отчетливо. Через нее он ощущал тонкие, как паутина, нити, тянущиеся в темноту… К Анне Петровне… К Дмитрию… К Лиде… К Мише… Кукла была фокусом, антенной, настроенной на его собственную искаженную душу, на след Лорика в Пустоте и на выпущенную им заразу. Но теперь он чувствовал не только связь. Он чувствовал слабый ток той самой "пустотной" силы, текущий по этим нитям. Силы, которой был пропитан и он сам после прикосновения к "Вратам". И в этой силе была… возможность давления. Контроля. Репитером, усиливающим связь. Через нее… он мог чувствовать их всех… и, возможно, влиять? Сжимать сгустки? Ослаблять их хватку? Это был единственный рычаг в кошмаре, который он создал.
Ардис посмотрел на куклу. На ее пуговичные глаза – черные, бездонные. И в них… он увидел инструмент. Жуткий, извращенный, оскверняющий саму память, но… инструмент. Он ощутил холодный узел чужой силы в груди – яд и дар, полученный от прикосновения к Эдуарду, к "Вратам". Эта сила Пустоты пульсировала в такт его отчаянию, смешиваясь с жалкими остатками его некромантии Элидора. Кукла была пропитана его силой, его тоской, его болью, его грехом. И его связью с той самой Пустотой. Она была узлом в паутине заразы, центром, через который он мог… чувствовать. И, используя силу "Врат" в себе как источник, а куклу как фокус и усилитель – влиять на сгустки в его жертвах.
Тихий, ледяной шепот, не его голосом, а словно сквозняком из открытой могилы, прошелестел в его измученном сознании: «Врата… открываются… Ты… ключ… Страж…»
Он поднялся. Острая боль ушла, сменившись странной, ледяной, почти металлической ясностью… Он чувствовал холодный, черный узел чужой силы в груди – яд и дар, полученный от прикосновения к Эдуарду, к "Вратам". Эта сила Пустоты пульсировала в такт его отчаянию, смешиваясь с жалкими остатками его некромантии Элидора, усиливаясь и фокусируясь через мерзкую куклу в его руках. Он посмотрел на свой ритуальный круг… На куклу… На стены, где тени начали шевелиться.
Он не вернул сына. Он создал нечто другое. Монстра из лоскутов и боли. Он сам стал монстром. Но этот монстр, эта кукла, эта паутина заразы… она была его орудием. Его единственным шансом сдержать то, что он выпустил в мир. Его сила теперь была ядовитой смесью: остатки дара Элидора, холод Пустоты, впущенной Эдуардом, его собственная безумная воля и резонанс страданий, усиленный куклой-антенной.
Он мог быть не Воскрешающим, не разносчиком чумы, а Стражем Порога. Тюремщиком собственного апокалипсиса…Жестокий катарсис, смешанный с новой, чудовищной догадкой, пронзил его. Он уронил куклу. Она упала в центр круга, прямо в лужу черной жижи, забрызгав тряпичное лицо. Пуговицы-глаза блеснули тускло в полумраке, словно подмигнув.
Ардис повернулся и заковылял к выходу из склепа. Его походка была неуверенной, тело слабым, но в ней появилась новая, железная решимость. Не светлая. Темная, холодная, как сама бездна, принявшая его в себя. Он должен был найти их. Всех. Анну Петровну. Бизнесмена, если тот еще не допил себя до дна. Ту женщину с ребенком, Лиду и Мишу. Всю цепь зараженных – звенья в ожерелье его вины. Он выпустил чуму. Теперь он должен ее… контролировать? Или уничтожить, выжигая каленым железом? Или… использовать? Стать ее повелителем? Пауком в центре черной паутины?
Дверь склепа со скрипом, похожим на стон, закрылась за ним. Внутри, в центре оскверненного круга, тряпичная кукла Лорика лежала лицом вверх. Одна из пуговиц-глаз треснула. Из тонкой трещины сочилась медленно, капля за каплей, та же черная, густая жижа, как черная кровь. А тени на стенах, казалось, потянулись к ней, как к центру притяжения, обволакивая, лаская. Готовые служить. Готовые выйти. По первому зову нового Хозяина. Стража Порога.
Дождь за окном коммуналки монотонно стучал в стекло, словно пытаясь войти. Ардис стоял у подоконника, глядя на серый, унылый двор, залитый грязными лужами. В кармане его пальто, пахнущего сыростью, смертью и чем-то новым – резким холодом межзвездной пустоты, – лежала толстая пачка денег. Последний гонорар. Деньги Анны Петровны. Деньги за ложь. За начало конца. За его новое начало.
Он достал их. Купюры были мятые, липкие, пропитанные запахом ладана, отчаяния и формалина. Он смотрел на них, а видел лицо старухи в полуразрушенном особняке. Видел ее мертвенно-спокойные глаза за секунду до того, как палец нажал на спуск револьвера. Видел черные, как ночь без звезд, щупальца, тянущиеся из глаз ее брата, Эдуарда, к ее груди. Слышал голос Пустоты:
«Ты призвала не того… Я Врата…»
Слова эхом отдавались в его черепе, холодные и безжалостные, как удары молота. Он был ключом. Непроизвольно, по глупости, по слепой любви, но он повернул его в замке. И дверь приоткрылась. Немного. Достаточно, чтобы Оно почуяло выход. Чтобы почуяло его.
Ардис разжал пальцы. Пачка денег упала в раковину, забитую грязной посудой, плавающей в жирной воде. Он повернул кран, не глядя. Холодная вода хлынула мощной струей, смывая черноту с его обожженной руки, смывая остатки рвоты, заливая мятые купюры. Они размокали, теряя форму, превращаясь в серую, бесформенную кашу. Символично. Его старые цели, его старые надежды – на воскрешение, на искупление, на свет – смывались в канализацию, уносясь в темноту труб. Оставалось только новое. Темное. Неизбежное. Служба Стража. Он вышел из коммуналки, не оглядываясь. Первой была Анна Петровна.
Он нашел ее адрес легко – она сама дала его при расчете, на случай «если понадобится еще помощь», голосом, в котором тогда звучала истерическая благодарность. Теперь Ардис стоял под ее окнами в промозглом дворе-колодце, где воздух был густым от влаги и запаха мокрого камня, смешанного с кислым душком переполненных мусорных баков. Квартира была на третьем этаже старого, облупленного дома, чьи окна смотрели на соседнюю стену такого же здания. Свет горел за запотевшим стеклом, желтый и унылый, как свет лампочки в холодильнике мертвеца.
Ардис закрыл глаза, отключив физическое зрение, которое в последнее время все чаще подводило, затягивая мир серой пеленой. Внутри него открылось другое зрение – зрение некроманта, видящего не предметы, а энергии, потоки, нити жизни и смерти, здорового свечения и гнилостного разложения. Мир предстал перед его внутренним взором как сложная, пульсирующая паутина из света и тьмы.
Он увидел ее. Анна Петровна сидела за кухонным столом, освещенная единственной лампой под абажуром из потрескавшейся пластмассы. Перед ней стояла кружка с остывшим чаем – темное пятно в ауре усталости. Рядом – пачка истлевших, пожелтевших облигаций, излучавших запах тщетности и времени, который Ардис ощущал даже на таком расстоянии. И фотография. Молодая, улыбающаяся Маша. Снимок был маленьким ядром горечи, приправленной черным перцем предательства.
Женщина не плакала. Она просто сидела, сгорбившись, и смотрела в одну точку на скатерти, заляпанной чайными кругами. Ее аура, и без того потускневшая и иссохшая от горя после смерти мужа, теперь была почти черной. Не просто темной, а густой. Липкой. Как вар, как нефтяная лужа на поверхности души. Эта чернота не была статичной. От нее тянулись тончайшие, невидимые обычному глазу нити – словно корни плесени или паутина – вглубь квартиры, в темный угол за шкафом в коридоре. Там, в углу, Ардис ощутил сгусток. Небольшой, размером с кочан капусты, но невероятно плотный, тяжелый. Как гнойник на теле реальности, как клубок спящих змей. Это было эхо ее «воскрешенного» мужа. Клочок той чужой Пустоты, что Ардис в него впустил, та самая «память», выдернутая из Небытия. Оно не просто развеялось после ритуала. Оно осталось. Закрепилось в этом месте силы отчаяния. Как вирус, как паразит. И оно питалось. Питалось ее тоской, ее разрушенной верой, ее медленно угасающей жизненной силой. Ардис видел, как серые, больные щупальца этого сгустка обвивали ее астральное тело, проникали в энергетические каналы, высасывая последние искры тепла, оставляя лишь ледяную пустоту и шепот чужих агоний в подсознании. Он слышал этот шепот – отдаленный, как скрип несмазанных дверей в заброшенном доме: «…боль… ошибка… Маша…»