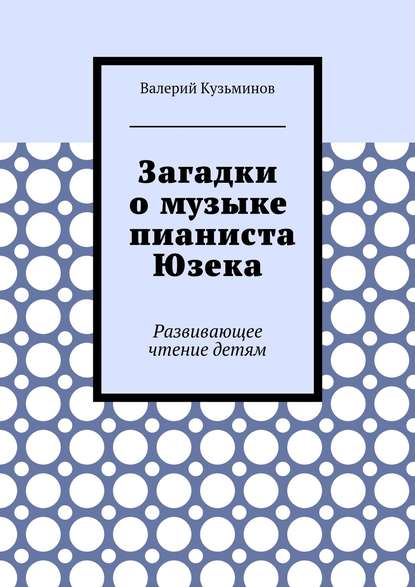Хроники Угасающего Света

- -
- 100%
- +
Ардис поднял руку. Не для жеста приветствия или угрозы. Для фокуса. Он собрал остатки своей силы – не жизненной, она была почти исчерпана, а именно некромантической, той темной, холодной энергии, что связывала его с Тенями, с самой Пустотой, в которую он так глубоко погрузил свои пальцы. Он сосредоточился на том сгустке в углу квартиры Анны Петровны. Не на уничтожении – он инстинктивно чувствовал, что это сейчас невозможно, да и опасно. Резкое воздействие могло разорвать хрупкие покровы реальности здесь и сейчас. На… подавлении. На изоляции. Он представил цепи. Не железные, а сплетенные из мрака и его собственной воли, ледяные, тихие, невидимые. Он мысленно обернул ими сгусток, сжимая, но не раздавливая, создавая барьер между паразитом и его жертвой.
Сгусток в углу дернулся. Словно почуяв угрозу, незримое давление. Он сжался, стал плотнее, чернее. Нити, тянущиеся к Анне Петровне, ослабли на мгновение, стали тоньше, прозрачнее. Женщина за столом вздрогнула всем телом, как от удара током. Она глубоко, судорожно вдохнула, как человек, вынырнувший из ледяной воды после долгого утопления. Рука ее непроизвольно потянулась к горлу. Она подняла голову, оглядела кухню с выражением глубокого, животного недоумения, словно впервые за долгие дни или даже недели увидела мир вокруг – облупившиеся обои, грязную посуду в раковине, чайные пятна. Потом, медленно, будто скрипя всеми суставами, она подошла к окну, отодвинула занавеску и выглянула во двор. Ардис отпрянул глубже в тень арки, сливаясь с сырой тьмой. Он все еще видел ее лицо в освещенном квадрате окна. На нем все еще лежала печать неисчислимого горя, морщины страдания, но чернота отчаяния, та всепоглощающая тьма, немного отступила. Растворилась? Нет. Сжалась. Появилась усталость. Не та, что ведет к могиле, а почти… нормальная человеческая усталость после долгого горя. Усталость, в которой уже могло быть место не только боли, но и, возможно, позже, сну. Или даже слезам, не отравленным ядом Пустоты.
Он не вылечил ее. Не снял проклятие, которое сам и навел. Он лишь… отсрочил неизбежное. Затолкал паразита обратно в его нору, купил ей время. Месяц? Неделю? День? Он не знал. Но это было все, что он мог сделать сейчас. Это был первый шаг его искупления. Или… первый шаг его новой, ужасной роли? Стража? Тюремщика над своими же жертвами и собственными кошмарами? Горечь подступила к горлу, смешанная с привкусом озона и тления. Он отвернулся от окна и растворился в сырых сумерках питерского вечера.
Следующим был молодой бизнесмен. Его имя всплыло в памяти Ардиса – Дмитрий. Найти его оказалось сложнее. Адрес отцовской квартиры был пуст и звенел ледяным эхом недавней смерти и разорения. Потребовалось несколько дней блужданий по темным уголкам города, где торгуют информацией и забвением, чтобы узнать: Дмитрия видели в дешевых мотелях у вокзалов. Он стал призраком собственной жизни.
Ардис нашел его в номере, пахнущем дезинфекцией, дешевым табаком и перегаром. Дверь была приоткрыта – плохой знак. Внутри царил хаос: перевернутый стул, пустые бутылки из-под водки, валявшиеся на линолеуме с неизвестными пятнами, смятые пачки сигарет. Дмитрий лежал на неубранной кровати, одетый в помятый костюм, который теперь висел на нем, как на вешалке. Он спал беспокойным, пьяным сном, бормоча что-то невнятное. На тумбочке рядом, в луже пролитой жидкости, лежал старый, но грозный револьвер системы «Наган».
Аура Дмитрия была похожа на разбитое зеркало, разлетевшееся острыми, болезненными осколками. Осколки ненависти – к отцу (за письма к другой женщине, за неизвестного брата, за потерянное наследство), к себе (за слабость, за пьянство, за проигрыш), ко всему миру (за несправедливость, за холод, за эту липкую тошноту, что не проходила). Но главное – его ауру опутывала та же черная паутина, что и Анну Петровну, только гораздо более густая, агрессивная, живая. Она пульсировала, впитывая его ярость и страх, как губка. Источник – сгусток, висевший прямо над кроватью, как грозовая туча, готовый разразиться молнией безумия. Он был больше и темнее, чем у Анны. И он чувствовал Ардиса.
Едва некромант переступил порог, сгусток сжался, стал плотнее, приобрел угловатые, колючие очертания. От него потянулись новые, более толстые щупальца к вискам спящего Дмитрия, который застонал и задергался. Ардис почувствовал волну враждебности, холодной и целенаправленной. Этот сгусток не просто питался – он защищал свою территорию, свою «пищу».
Подавить его было сложнее. Во много раз сложнее. Отчаяние Анны Петровны было пассивным, истощающим. Ненависть Дмитрия – это активная, разрушительная сила, отличное топливо для заразы. Она придавала сгустку силу и агрессию. Ардис ощутил сопротивление, как будто он пытался сжать руками раскаленную, скользкую болванку из чугуна. Он сосредоточился, вкладывая в воображаемые ледяные цепи не только волю, но и часть той холодной силы, что пульсировала в нем после прикосновения к Эдуарду. Цепи сомкнулись туже. Но сгусток не сдавался. Он дергался, пытаясь разорвать оковы. Ардис почувствовал, как нужно больше. Гораздо больше.
Сжав зубы, игнорируя нарастающую боль в висках и тошноту, Ардис сделал то, что раньше показалось бы кощунством. Он не просто обернул сгусток цепями. Он вонзил в него острие своей воли, как кинжал, выкованный из мрака и отчаяния самого Элидора. Воображаемый клинок из льда и тьмы.
Сгусток завизжал. Не звуком, а вибрацией на уровне иных измерений, от которой задрожали стекла в грязном окне номера. Он сжался в комок, отступил к потолку, как раненый паук. Нити, связывающие его с Дмитрием, истончились, стали почти прозрачными, но… не порвались. Спящий бизнесмен застонал громче, забился в коротких, резких конвульсиях, но не проснулся. Его лицо покрылось испариной, дыхание стало хриплым.
Ардис почувствовал резкую, сверлящую боль в виске и теплый, металлический привкус крови во рту. Он переусердствовал. Его собственные ресурсы, подкрепленные силой Пустоты, все равно таяли, как снег на раскаленной плите. Он шагнул назад, к двери, чувствуя слабость в ногах. Сгусток на потолке медленно расправлялся, его чернота снова сгущалась, наполняясь ненавистью спящего человека. Подавление было временным. Очень временным.
Он вышел из номера, шатаясь. Город вокруг, залитый желтым светом уличных фонарей, казался чужим, враждебным, декорацией к чужому кошмару. Свет фонарей не рассеивал тьму, а лишь подчеркивал ее глубину в подворотнях и арках. И в этих тенях ему мерещилось движение – не крыс, не бродяг, а чего-то большего, бесформенного, но наблюдающего. Темные пятна сливались и распадались, шепча беззвучно на языке скрипа и ветра. Оно знало о нем. Оно чувствовало его вмешательство. Охотилось? Или просто… ждало, когда он окончательно ослабнет? Ардис втянул голову в плечи, глубже засунул руки в карманы пальто, пропитанного запахом кладбища и космического холода, и заковылял прочь, стараясь не смотреть в темные углы, где тени казались слишком густыми.
Самым страшным была женщина с ребенком. Лида. Ее адрес он нашел через контору, оформлявшую похороны ее отца, подкупив хмурого клерка пачкой купюр, от которых у того задрожали руки. Скромная квартира в безликом спальном районе, в панельном доме, похожем на гигантский склеп для живых. Ардис подошел к нужной двери, но не стал звонить. Колокольчик казался кощунством здесь. Он прислонился лбом к холодной, обшарпанной поверхности двери, закрыл глаза и попытался «увидеть» сквозь нее, как он делал это у Анны Петровны.
И его пронзил ледяной ужас. Острый, как игла его компаса, вонзившаяся прямо в мозг.
Внутри было два источника заразы. Один – знакомый, слабый, но ядовитый, как очаг радиации, в комнате, где, видимо, умер и был «воскрешен» отец Лиды. Он пульсировал тусклым, больным светом, как гнилушка. Но второй… второй был в маленькой комнатке, которую Ардис интуитивно определил как детскую. И он был связан не с отчаянием или ненавистью, а с крошечным, хрупким, чистым пламенем жизни – ее сыном, Мишей. Но пламя это было не просто окутано черной паутиной. Оно было опутано, как муха в паутине, затянуто в липкий, пульсирующий кокон из чистейшей тьмы. Паутина не просто окружала детскую ауру – она проникала в нее, сплеталась с ее светом, заменяя его чистые, золотые нити на свои, черные и холодные. И паутина эта питалась. Питалась чистой, невинной, неосознанной энергией ребенка, высасывая ее капля за каплей, подменяя жизненную силу силой Пустоты. Ардис ощутил связь – черные нити тянулись от детского кокона к сгустку в комнате отца, как пуповина, по которой передавалась отрава.
И ребенок… ребенок не плакал. Он… молчал. Слишком тихо для младенца. Слишком неподвижно. Внутри кокона Ардис почувствовал не крик, не смех, а… холодное любопытство к темноте. И сон. Не здоровый сон, а сон куколки в коконе, из которой должно выйти нечто иное.
Ардис пошатнулся, прислонился к холодной, бетонной стене подъезда. Его сердце бешено колотилось, ледяные иглы пронзали грудь. Он не мог войти. Не мог. Физически не мог заставить себя повернуть ручку. Подавить сгусток в ребенке? Его собственная сила, его темная некромантия, искаженная законами этого мира, была слишком грубой, слишком разрушительной. Он боялся, что попытка «выжечь» паутину убьет хрупкое пламя жизни Миши мгновенно. Или, что еще страшнее, сделает что-то непоправимое – окончательно сольет ребенка с заразой, превратив его в нечто новое и ужасное. Он чувствовал, как черная паутина внутри Миши уже меняла его не на физическом уровне (пока), а на уровне души, сущности. Закладывая семена чего-то чужого, нечеловеческого, холодного и вечного.
В этот момент он услышал шаги из-за двери. Механические, усталые. Защелкал замок. Дверь открылась. На пороге стояла Лида. Она постарела не на годы – на десятилетия за те несколько месяцев, что прошли с «воскрешения» ее отца. Лицо осунулось, глаза глубоко запали в темные круги и горели лихорадочным, нездоровым блеском – смесью безумия, непомерной усталости и запредельного отчаяния. Она несла мусорный пакет. Увидев Ардиса, замерла. Просто замерла. И в ее расширившихся зрачках мелькнуло не столько удивление, сколько… леденящее узнавание. И странная, ужасающая догадка, кристаллизующаяся в ее измученном мозгу.
«Вы…» – прошептала она. Голос был хриплым, лишенным силы, как шелест сухих листьев. В нем не было страха. Была пустота. Бездонная. И та самая догадка. – «Это вы… С ним? С отцом? Тогда?»
Ардис молчал. Он не мог найти слов. Он смотрел на нее, а видел не просто женщину – он видел черные, липкие нити, тянущиеся от ее истерзанной ауры к квартире, к двум сгусткам заразы внутри. К отцовскому и к… детскому. Она была не просто жертвой. Она была связующим звеном. Живым проводником чумы, мостом, по которому зараза переползла от старого трупа к новорожденной жизни. Ее отчаяние, ее связь с отцом, ее материнство – все это сделало ее идеальным каналом.
«Миша…» – ее голос дрогнул, в нем пробилась трещина. – «Он… не плачет. Никогда. Уже… давно. Он смотрит. Этими… глазами. Пустыми. Как тогда… как тогда папа… в тот день…» Она вдруг бросила мусорный пакет. Он упал с глухим шлепком. Ее руки вцепились в собственные волосы, сжимая их в кулаки до побеления костяшек. «Что вы сделали?!» – ее шепот внезапно сорвался в вопль, дикий, разрывающий тишину подъезда, полный такой боли и обвинения, что Ардис физически отшатнулся. – «Что вы СДЕЛАЛИ С НАМИ?!»
Она бросилась на него. Не как женщина, а как загнанный в угол зверь, потерявший последнее. Царапалась, била кулаками в грудь, пыталась укусить. Ардис не сопротивлялся. Не отстранялся. Он принял ее удары, ее истерику, ее немую ярость. Он заслужил это. Каждый удар, каждый царапина на его уже мертвенно-бледной коже была ничтожна по сравнению с тем ударом истины, который обрушился на него при виде зараженного ребенка. Боль от ее ногтей была физической, понятной. Боль от осознания своей роли в судьбе этого младенца – была вселенской.
Он невольно поднял руки, пытаясь удержать ее безумный натиск, смягчить удары. Его пальцы в грубых перчатках коснулись ее рук, ее запястий. И в момент прикосновения его сознание провалилось. Не в воспоминание. В черный, ледяной вихрь ее кошмара.
Он увидел ее отца в момент своего «воскрешения» в этой самой квартире. Не со стороны, а ее глазами. Увидел, как его тело неестественно дергалось на столе, как изо рта текла та самая черная, густая, маслянистая жижа, пахнущая грозой и могилой. Увидел, как его глаза, прежде просто мертвые, превратились в бездонные черные колодцы, в которых мерцал нездешний, ледяной свет звезд в пустоте. И как этот жуткий, нечеловеческий взгляд, полный немого ужаса и абсолютной пустоты, медленно, неизбежно повернулся и упал на маленького Мишу, лежащего в своей кроватке в соседней комнате. Дверь была приоткрыта. И в тот миг, в этот миг встречи взглядов живого мертвеца и невинного младенца, что-то перешло. Невидимая спора. Тень Тени. Черная нить, протянувшаяся через пространство комнаты и мгновенно вплетенная в светлую ауру ребенка.
Он увидел, как Лида, получив пароль (который оказался не номером счета, а датой смерти ее любимой матери – последняя, жестокая шутка отца или самой Пустоты?), попыталась прикоснуться к «воскрешенному» отцу, обнять его в порыве жалкой надежды. И как он отшатнулся с тем же нечеловеческим, булькающим хрипом, что был у Николая, у Эдуарда. Как он потом, оставшись один в комнате, начал биться головой о стену, содрогаясь в судорогах, монотонно повторяя на том же чужом, гортанном языке, что звучал у всех: «Ошибка… Заражение… Открыто…»
Он увидел Мишу. Не просто его тело. Его чистую, светлую, только начавшую разгораться душу, окутанную теперь черной, липкой, живой паутиной заразы. Паутина пульсировала, с каждым ударом вплетаясь глубже в его ауру, подменяя чистые, яркие эмоции ребенка – любопытство к миру, безудержную радость, здоровый страх – на холодное безразличие, на странное, недетское любопытство к темноте, к тишине, к… пустоте. На желание не света, а покоя небытия.
Ардис с силой оттолкнул Лиду. Не от злости, а от ужаса, от невозможности вынести этот поток чужой боли и собственной вины. Она упала на холодный пол подъезда, ударившись локтем, и разразилась рыданиями – не плачем, а воем затравленного животного, в котором смешались горе, бессилие и проклятие. Ардис не видел, не слышал больше ничего. Он повернулся и побежал. Бежал по серым, бесконечным улицам спального района, не разбирая дороги, сжимая голову руками, пытаясь заглушить ее вопли, заткнуть уши от леденящего шепота в своей собственной душе: «Ты ключ… Врата открыты… Тьма распространяется… Тьма…» Шепот звучал голосом Пустоты, голосом того, что смотрело на Мишу глазами ее отца.
Он бежал, пока не уперся в знакомую, покрытую мхом и граффити, чугунную ограду кладбища. Перелез через нее, падая в мокрую траву, и побрел между могилами, спотыкаясь о камни, к своему склепу. Его крепости. Его ловушке. Его единственному убежищу в мире, который он сам превратил в кошмар.
Дверь склепа со скрипом открылась. Холод и запах сырости, камня и чего-то еще – острого, чуждого – ударили ему в лицо. Кукла Лорика все еще лежала в центре оскверненного ритуального круга, где смешались соль, аметист, его кровь и черная жижа. Черная жижа из треснувшей пуговицы растеклась маленьким, маслянистым пятном, впитываясь в камень. Тени на стенах не просто шевелились. Они сгустились. Обрели почти осязаемую плотность. Они ждали. Молча. Внимательно.
Ардис упал на колени перед куклой. Не в мольбе о прощении. В наблюдении. В изучении. Он смотрел на это уродливое подобие сына – на грубые швы, на черные пуговицы вместо глаз, на выгоревшие нитки волос – и видел не пародию. Он видел… карту. Карту заражения. Чувствовал слабые, но отчетливые вибрации, тонкие, как паутина, нити, тянущиеся от куклы в темноту, за пределы склепа, сквозь толщу камня и пространства. К Анне Петровне и ее сдавленному сгустку. К Дмитрию и его бурлящему, ненавидящему паразиту. К Лиде. И к Мише. К его маленькому, затянутому тьмой пламени. Кукла была центром паутины. Антенной, настроенной на его собственную искаженную душу. Репитером, усиливающим связь. Через нее, через эту жуткую пародию на его любовь, он мог чувствовать их всех. Чувствовать сгустки заразы, пульсирующие в их искалеченных жизнях. Чувствовать, как Оно – та самая Пустота, живая и голодная – через эти сгустки прощупывает реальность, ищет слабые места, тонкие места, чтобы прорваться окончательно, широко распахнуть Врата, которые он, Ардис, так глупо приоткрыл.
Идея, чудовищная и неотвратимая, как падение в бездонный колодец, оформилась в его сознании. Он не мог уничтожить заразу. Она была частью него самого теперь, частью его изуродованного дара, искаженного законами этого мира, частью той силы, что вошла в него при прикосновении к Эдуарду. Он не мог вылечить зараженных, вырвать сгустки, не убив их или не превратив в нечто худшее. Он мог лишь сдерживать, как он сделал с Анной и Дмитрием, покупая им время ценой собственных сил.
Но… что если он сможет контролировать? Не сами сгустки, а саму связь? Сделать себя не просто ключом, а… шлюзом? Фильтром? Если он не может закрыть Врата, может быть, он сможет решать, что и в каких количествах просачивается через них? Использовать куклу не как маяк для Пустоты, а как… пульт управления?
Он посмотрел на свои руки. Кожа на обожженной правой руке почернела еще больше, стала похожей на кору мертвого дерева, потрескалась, из трещин сочился желтовато-черный, зловонный ил – физическое проявление заразы внутри него. Он чувствовал холодную, чужеродную силу, пульсирующую под кожей, в венах, замещающую его кровь. Силу Пустоты. Силу самой заразы. Но это была его сила теперь. Купленная страшной ценой его сына, его души, его человечности. Сила Стража Порога.
Ардис медленно, преодолевая отвращение и остатки любви, которые теперь казались лишь слабостью, протянул руку к кукле. Не для того, чтобы поднять ее. Чтобы… соединиться. Укрепить связь. Он коснулся тряпичной головы пальцем… И ощутил удар. Не электрический. Ледяной. Ток чужеродной энергии, темной и мощной, прошел по его руке… Больно. Очень больно… Но вместе с болью пришла… ясность. Усиленная. Кукла была фокусом, направляющей его искаженную волю.
Он ощутил Анну Петровну. Ее сгусток, сдавленный его ледяными цепями. Он ощутил его спящую, но голодную злобу… Ардис мысленно сконцентрировал свою волю, усиленную связью через куклу и холод Пустоты внутри него, на сдавленном паразите. Он сжал воображаемые ледяные цепи сильнее. Не просто сдавил, а вонзил в сгусток ледяные шипы своей воли.
Каждое усилие контроля выжимало из него капли его собственной, уже отравленной силы. Он чувствовал, как холодный узел в груди пульсирует сильнее, а кожа на обожженной руке чернеет и трескается. Цена контроля была его плотью, его рассудком, его медленным превращением в нечто иное. Но он купил мгновение. Мгновение детского плача Миши. И в его душе… впервые за долгое время… была не только отчаяние. Была чудовищная тяжесть ответственности. И ледяная надежда Стража. Он переключил свое внимание, как поворотом незримого тумблера. На Дмитрия. Тот метался в пьяном бреду на кровати в номере мотеля. Его сгусток бушевал, раздуваясь от ненависти и страха, щупальца впивались в виски спящего, вытягивая энергию кошмаров. Ардис сконцентрировался, представив не цепи, а кинжал из абсолютного мрака и льда. Он мысленно вонзил его в центр сгустка. Сгусток завизжал – вибрацией, от которой задребезжали стаканы на тумбочке. Он сжался, отступил к потолку, его чернота стала менее плотной, более рассеянной. Дмитрий затих, его конвульсии прекратились, дыхание выровнялось, погружая его в глубокий, истощенный сон. Еще один крошечный прилив ледяной силы влился в Ардиса. Сильнее, чем от Анны. Потому что сгусток был сильнее, а подавление – жестче.
И тогда он рискнул. Рискнул всем. Он направил свое усиленное куклой восприятие на самое страшное. На Мишу. На черный кокон, опутавший его детскую душу. Он не стал атаковать. Не стал пытаться рвать паутину. Он… коснулся. Осторожно. Тонко. Как хирург скальпелем касается нерва. Как дипломат вступает в переговоры с чудовищем. Он ощутил чистый, но ослабленный, задыхающийся свет детской сущности, дрожащий под гнетом липкой тьмы. И саму паутину – живую, хищную, связанную мощным канатом с отцовским сгустком в соседней комнате. Ардис собрал всю свою волю. Всю накопленную холодную силу Пустоты, прошедшую через фильтр его отчаяния и куклы. Он не стал рвать. Он… заморозил ее. Не уничтожил. Превратил на мгновение в хрупкий иней, приостановил ее пульсацию, ее питание, ее проникновение.
Внутри кокона, на уровне, недоступном физическим чувствам, послышался тонкий, чистый звук. Как звоночек. Как первый крик новорожденного. И… плач. Слабый, жалобный, но настоящий детский плач. Не крик боли, а крик жизни, протестующей против тьмы.
Из соседней комнаты донесся сдавленный крик Лиды, полный невероятной, почти болезненной надежды: «Мишенька? Сынок? Ты… ты плачешь?»
Ардис резко, как от удара током, отдернул руку от куклы. Связь оборвалась. Он тяжело, хрипло дышал, опираясь руками о холодный камень пола. По его лицу, смешиваясь с потом, текли струйки черной жижи из уголков глаз. Он чувствовал себя опустошенным до дна. Выжженным. Но… впервые за долгое время, за все время в этом проклятом мире, в его душе не было только отчаяния и ужаса. Было что-то еще. Чудовищная тяжесть. Ужасающая ответственность за каждую искорку жизни, которую он едва не погасил. Знание цены своего нового «дара». И странная, извращенная, ледяная надежда. Не на спасение. На отсрочку. На контроль. На возможность быть не просто разрушителем, а… смотрителем ада, который он сам создал.
Он не вернул сына. Он создал монстра из лоскутов и боли. Он сам стал монстром. Но этот монстр, эта кукла, эта паутина заразы… она была его орудием. Его единственным шансом сдержать то, что он выпустил в мир. Он не мог закрыть Врата. Но, быть может, он мог контролировать, сколько и чего просачивается через них. Он мог быть не Воскрешающим, не разносчиком чумы, а Стражем Порога. Тюремщиком собственного апокалипсиса. Вечным солдатом на границе между бытием и небытием, которую он сам же и разрушил.
С тихим стоном, больше похожим на скрип ржавых петель, Ардис поднял куклу. Она была холодной и неживой в его руке. Пуговица-глаз с трещиной смотрела на него бездонной пустотой, в которой мерцали отражения далеких, чужих звезд. Ардис прижал тряпичное подобие к груди, туда, где когда-то билось живое сердце, а теперь пульсировал холодный, черный узел чужой силы – его новый центр, его якорь в море тьмы.
«Хорошо, Лорик, – прошептал он в ледяную, звенящую тишину склепа, и его голос звучал чужим, как скрежет камней. – Начинаем нашу службу. Стражей. На Той Стороне Порога.»
Тени на стенах замерли. Казалось, они склонились в немом поклоне. Готовые. Готовые к приказу. Готовые к новой, вечной войне в серых сумерках мира, где магия была не сказкой, а самой страшной, самой реальной из всех возможных реальностей. А за его спиной, в глубине склепа, в том самом месте, где упали капли черной жижи из его руки, смешавшись с прахом мертвых и пылью Элидора, на холодном, веками немом камне пола, пробился тонкий, черный, как вороново крыло, росток. Он был гибким и влажным, как щупальце. Он тянулся кверху, к сырому мраку сводов, жадно впитывая холод и отчаяние. Первый цветок новой, чужой жизни в мире, который уже никогда не будет прежним. Плод Пустоты. И знак правления нового Стража.
Эпизод 2 "Холст"
Дождь в Петербурге был не водой, а прокисшей тканью, которой небо пыталось стереть город. Он размазывал фасады домов на Лиговке в грязные акварельные пятна, стекал по витринам комиссионок, смывая с вещей остатки чужих жизней, и въедался в кости Алисы, стоявшей под карнизом старого дома. Влажность пропитала ее до мозга костей, превратив одежду в холодный компресс. Капли, сочащиеся с ржавого водостока над головой, падали ей за воротник, стекая ледяными червями по позвоночнику. Она не помнила, сколько времени провела здесь, глядя на запертую дверь антикварной лавки «Диковинка». Каждый прохожий, зонт которого резал серую пелену дождя, казался потенциальным посланником Ардиса или же самой Той Стороны, наблюдающей за ее отчаянием. Один старик в пропитанном влагой плаще остановился, его мутные, как вареный лук, глаза скользнули по ее лицу, задержались на свертке в ее руках. Он что-то пробормотал, звук похожий на шорох крыс под половицами, и растворился во влажной мгле, оставив после себя шлейф запаха заплесневелого хлеба и чего-то кислого. Алиса сжала сверток сильнее. В руке она сжимала завернутое в промасленную холстину нечто тяжелое, угловатое и бесконечно дорогое. Последняя надежда. Или последнее безумие. Ткань холстины впитывала влагу из воздуха, становясь скользкой, живой на ощупь, словно кожа какого-то речного тваря.
Ее сына не стало полгода назад. Не болезнь, не несчастный случай. Просто… не стало. Утром он смеялся, размазывая по щекам манную кашу, его смех был похож на звон крошечных колокольчиков, а к вечеру его маленькое тельце остыло в кроватке, как внезапно потухшая свеча. Она помнила этот леденящий ужас, когда ее пальцы, тщетно ища пульс на тонкой шейке, наткнулись на холод, более глубокий, чем зимний ветер. Помнила белые стены морга, где его положили на металлический стол, такой маленький и потерянный. Помнила, как врач, избегая ее глаз, произнес: «Синдром внезапной детской смерти». Бессмысленная, безликая формула, которая ничего не объясняла, лишь выжигала в Алисе дотла все, кроме одной навязчивой мысли, пульсирующей в такт собственному сердцебиению: Он не мог просто уйти. Он здесь. Где-то рядом. Забытый. Застрявший. Мир после этого стал прозрачным, хрупким, как старое стекло, готовое рассыпаться от неосторожного прикосновения. Звуки доносились приглушенно, сквозь вату, цвета поблекли до оттенков грязного льда и запекшейся крови. Запахи исказились: хлеб пах сырой землей, детская присыпка – озоном после грозы, а свежий воздух – формалином, наполняя легкие предчувствием вечного холода.