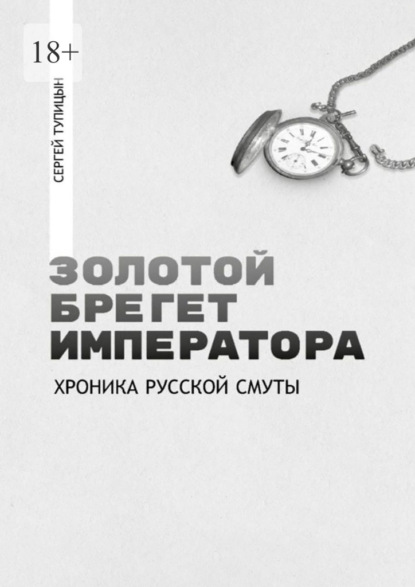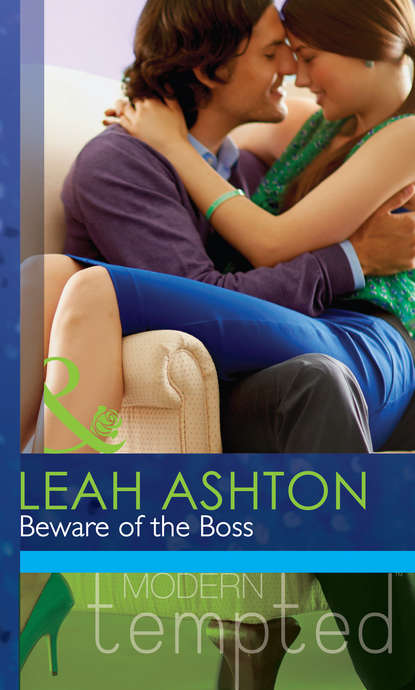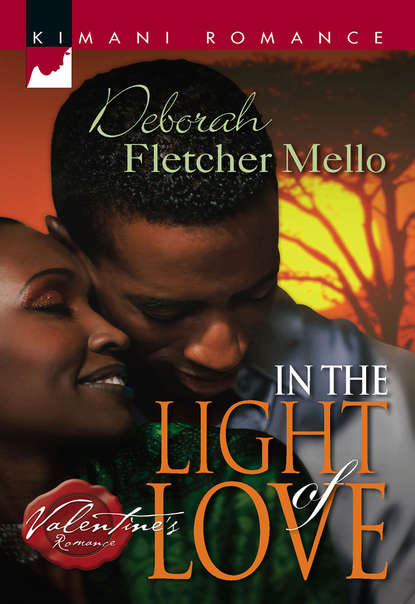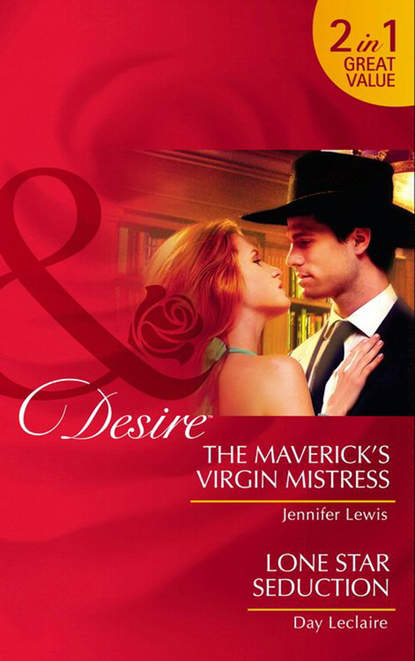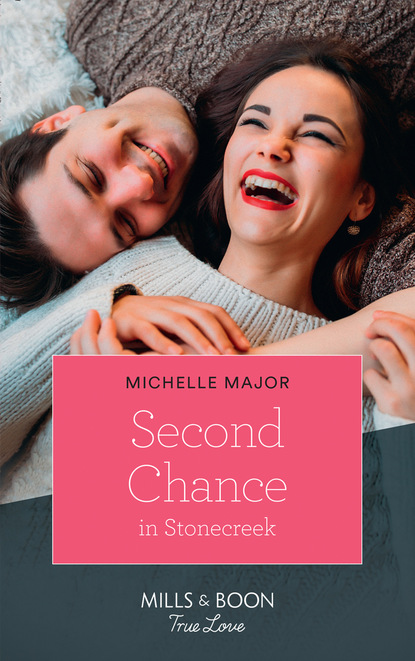- -
- 100%
- +
Вот и Годунов отправился за советом к самой известной в то время пророчице Елене Юродивой, живущей в окружении преданных монахинь в подземелье подле часовни. Все юродивые наделены незаурядным даром актёрства. Первый раз Елена царя не приняла – выдержала паузу. Во второе посещение встретила Бориса постановочным пророчеством: велела своим приспешникам принести бревно, вокруг которого, размахивая кадилами, начали кружить четверо священников, совершая обряд отпевания. Следует ли говорить, что сцена сия не добавила царю оптимизма?
Над главным делом его жизни – строительством собственной династии – явственно нависла угроза краха. А ведь он так долго, так исподволь, но в то же время так упорно двигался к намеченной цели!
В своё время Борис перспективно женился на Марии, дочери самого влиятельного при дворе Ивана Грозного временщика Малюты Скуратова, родившей ему двоих прекрасных детей. Годунов был чадолюбивым отцом. Поднявшись из грязи, не в князи даже, а в цари, сделал всё для того, чтобы вырастить сына и дочь наделёнными его достоинствами, но избавленными от присущих ему пороков.
Сын Фёдор, пошедший статью в отца, а чистотой души в мать, отличался не только красотой необычайной, но и искренним благочестием. Органически не принимал зла и бесчестия. Был ревностен в вере и вместе с тем глубоко образован. Лучшего царя Руси невозможно было бы и желать. Но грехи отцов нередко падают проклятиями на их детей.
Дочь Ксения принадлежала к тому типу русских красавиц, привлекательность которых готовы признавать даже недоброжелатели. Но красота не стала почвой для гордыни. Юная Годунова отличалась кротостью характера, охотно присоединяла свой глубокий голос к хору певческой артели, была прилежна в рукоделии. Отец страстно желал выдать её замуж за представителя одного из европейских монарших домов, и такая королевна сделала бы честь лучшим из них. Но и здесь злой рок преследовал семью Годунова.
Помолвка с сыном шведского короля Эрика ХIV не заладилась оттого, что юный принц Густав не захотел принимать православие. А это являлось непременным условием, выдвинутым царём Борисом. Брат датского короля, принц Иоанн, изъявлял готовность поменять веру, собирался приехать в Москву, но внезапно заболел горячкой и умер.
Телесные недуги, неизбежно нагоняющие душевные, начали одолевать самого царя Бориса. Поползли слухи о его скорой кончине.
Утром 13 апреля 1605 года Борис почувствовал себя значительно лучше. Он сам встал с постели и заторопился в Кремль, где его ожидала важная встреча: переговоры с послами герцогства Шлезвиг, в то время принадлежавшего Дании, представителями принца Филиппа – ещё одного кандидата в супруги Ксении. Переговоры прошли удачно, и пребывающий в добром расположении духа царь пригласил послов в Золотую палату к уставленному яствами столу.
Когда обед подходил к концу, царь вдруг резко поднялся с кресла и словно окаменел. Из носа, ушей и рта хлынула кровь, забрызгивая расставленные на столе блюда и камзолы послов. Борис начал тяжело оседать на руки набежавшей челяди.
Срочно вызванные врачи бестолково суетились подле тела теряющего сознание царя. Прибежавший одним из первых, верный патриарх Иов едва успел совершить над умирающим обряд пострижения, нарёк его Боголепом, и под этим именем царь Борис отправился на суд к Всевышнему.
Опасаясь надвигавшейся смуты, боярство вкупе с духовенством поспешило венчать на царство сына Годунова Фёдора, дав тем самым передышку себе и подписав смертный приговор невинному юноше.
Прекраснодушный Фёдор не имел ни опыта дворцовых интриг, ни поддержки боярских кланов. Удушающую опеку над ним принял Семён Годунов. Юный царь был обречён. Царствование его стало самым недолгим в истории России: продлилось оно всего лишь месяц.
Тем временем Шуйский замыслил длинную комбинацию. Когда к нему прибыли послы первого самозванца, Василий Иванович, уверявший ранее, что царевич Дмитрий мёртв, прозрел и взошёл на лобное место, чтобы заявить:
– Борис послал убить царевича Дмитрия, но царевича спасли, а вместо него погребён попов сын!
Растерявшийся было народ обрёл цель – мочить Годуновых! Во все времена толпу несложно поднять на погром. Толпа хлынула в Кремль. Царица Мария и царевна Ксения обречённо шептали молитвы, прикрываясь иконами как щитами. Но не иконы, а бояре на этот раз оберегли их от безумства черни. Пока было неясно, как сложится дело с новоявленным царевичем Дмитрием, и Фёдора следовало попридержать, как джокер в рукаве. Его, превратившегося в одночасье из царя в «вора Федьку», подвергли домашнему аресту, а к Лжедмитрию отправилась делегация с повинной грамотой от всей столицы: просить прощения у «законного царя».
Одним из первых дел вступившего в Москву Самозванца стала расправа над родственниками царя Бориса. Фёдора и его мать он повелел убить. Исполнять приказ отправились стрельцы. Мать и сына развели по разным комнатам. Марию удавили тотчас, а не по годам рослый и крепкий восемнадцатилетний Фёдор оказал убийцам яростное сопротивление. Он успешно оборонялся от четырёх наседавших стрельцов, пока один из них, повергнутый на пол, не впился пятернёй в его мошонку. Нестерпимая боль на мгновенье парализовала юношу, и убийцы повисли на нём, как свора собак на затравленном медведе. Тяжестью своею опрокинули юношу на пол, жадными руками отыскивая горло.
Даже тела Годуновых были подвергнуты поруганию. Мать и сына повелели закопать без отпевания и вне погоста, как самоубийц. Тело же самого Бориса было вынесено из Архангельского собора, где он, как оказалось, на очень короткий срок обрёл упокоение, и выставлено на общее обозрение. Делалось это в назидание власти, якобы самозваной, от якобы законного царя.
Пощадил Лжедмитрий только Ксению. Но этот жест был продиктован отнюдь не человеколюбием. Писаную красавицу и несостоявшуюся королевну, для которой отец так разборчиво подбирал жениха, Самозванец бросил в омут самого разнузданного блуда, которому предался в дни своего пьяного торжества, забыв на время, что на встречу с ним уже спешит горячо любимая невеста Марина Мнишек.
Возможно, у Самозванца, помимо похоти, был в отношении дочери Годунова и дальний расчёт: как там ещё сложится со строптивой полячкой, а на крайний случай под рукой есть дочь хотя и бывшего, но всё-таки царя. А поменять настроение общества, даже в те лишённые телевидения и интернета времена, было весьма несложно.
Пресытившись безропотной жертвой, вор отправил Ксению в монастырь. Но и в дальнейшем дочь Годунова, в иночестве Ольга, не единожды подвергалась тяжёлым испытаниям. Приехав в 1608 году на престольный праздник
Сергия Радонежского в Троице-Сергиеву лавру, она вместе с братией, мужественно оборонявшей святыню, попала в шестимесячную польскую осаду. А перебравшись затем в Новодевичий монастырь, пережила атаки его полками Прокопия Ляпунова и была дочиста ограблена шайками Заруцкого, ставшего впоследствии последним любовником и подельником Марины Мнишек, чьей соперницей Ксения на короткое время стала по воле Самозванца.
Поразительно, но об этой несчастной, но чистой, несмотря на поругания тела, душе осталась рукотворная память: две вышивки её рукоделия поныне хранятся в ризнице Троице-Сергиевой лавры. Там же находится остроносая, очень маленького размера кожаная туфелька царевны.
А вот тела царя Бориса и остальной его семьи так и не нашли успокоения. Минуло триста с лишним лет, и прах их вновь подвергся поруганию. На сей раз со стороны жестоких от неразумности загорских мальчишек. Они прокопали ход к усыпальнице Годуновых в бесхозной во времена торжества атеизма Троице-Сергиевой лавре. Пионеры и комсомольцы играли в футбол найденными черепами.
Расправившись с женой и сыном Годунова, прочих его родственников стрельцы, несмотря на ненастное время года, раздели донага, сковали цепями, посадили в навозные телеги и вывезли в различные города, побросав в темницы. Злой гений семьи Семён Годунов, автор средневекового «дела врачей», был сослан в Переславль-Залесский и заточён в темничный погреб, где и сгинул от голода. Когда Семён Никитич просил есть, не лишённые чёрного юмора охранники приносили ему камень. Кончина последнего из Годуновых удивительным образом схожа с судьбой одной из жертв сфабрикованного им дела отравителей Михаила Никитича Захарьина-Юрьева, ставшего Романовым посмертно.
Глава 4.
На краю земли пермской
Чердынь. В период становления государства Российского она по праву носила звание Великой. Именно Пермь Великая – Чердынь стала главным пограничным форпостом молодой России на пути в неизведанную Сибирь, успешно решая три главные задачи формирования государственности: развитие экономики, укрепление обороноспособности и единство идеологии, проводником которой в те времена была церковь.
Одна из уникальных особенностей пермских земель заключается в том, что россияне – сначала новгородские ушкуйники, а вслед за ними московиты – начали обживать их с самой отдалённой, самой дикой глубинки, выйдя – где по воде, где волоком – на Чердынь с севера. И только потом, от Чердыни, через Соль Камскую, Кунгур, а затем и саму Пермь, начали искать более короткий обратный путь к центру России, к Москве.
В Чердыни поднялся первый на Урале Иоанно-Богословский монастырь. Историки православия всегда особо выделяли роль Чердыни в том, что отсюда на «Великопермскую землю первоначально излилось Христово учение». Хотя, если говорить о Пермском крае в его сегодняшних границах, первыми христианами здесь стали коми-пермяки – жители камского левобережья, которое сегодня входит в состав Коми-Пермяцкого округа. Малочисленное население этих мест исторически тяготело к соплеменникам, населяющим земли нынешней Республики Коми. Обращение в православие живущих здесь народов произошло задолго до образования Чердыни, и заслуга в том принадлежит знаменитому крестителю Стефану, прозванному Пермским, или же Великопермским. Если взглянуть на историю православия в Прикамье под этим углом зрения, становится несостоятельным общепринятое убеждение в том, что Стефан Пермский на землях собственно Пермского края никогда не был. Подтверждение ошибочности этой точки зрения находим… в коми-пермяцком фольклоре!
Одним из первых коми-пермяков, обращённых в православие, стал герой национального эпоса Пера-богатырь, выходец как раз из левобережной деревеньки Лупья нынешнего Гайнского района Коми-Пермяцкого округа. И кто возьмётся утверждать, что крестил его не сам Стефан Великопермский?
Ассимиляция русских колонистов с коми-пермяками проходила весьма мирно. Сказывался заложенный в сознание коми-пермяцкого народа патернализм, сохранившийся по сегодняшний день. Однако, когда возникала необходимость оказать сопротивление внешней угрозе, коми-пермяки, наряду с добродушно принятыми ими русичами, проявляли удивительную стойкость.
Наглядным примером мужества первых российских пермяков стала неравная битва 85 ратников, охранявших чердынскую заставу, с отрядами пришедших из Сибири ногайцев.
Сражение состоялось на льду реки Колвы в январе 1547 года – как раз в то время, когда первый русский государь Иван Васильевич венчался на царство!
Все ратники заставы, а среди них были как русичи, так и коми-пермяки, погибли, но отстояли Чердынь – ногайцы повернули назад.
Воины, положившие за Пермь Великую жизнь, были впоследствии канонизированы как защитники христианства. Но защитили они не только веру. Павшие в том «ледовом побоище» отстояли северную границу молодого Русского государства!
Икона с их изображением и сегодня хранится в Чердынском музее.
Чердынь, подобно собирательнице земель русских Москве, поднялась на семи холмах, каждый из которых увенчан православным храмом. Этот городок словно застыл во времени, представляя собой уникальный музей под открытым небом. На севере земли Перми Великой заканчивались Ныробом. За этим поселением жизни человека и тогда практически не было, нет её и сегодня.
Выросший из деревни Ныробка посёлок известен как одна большая лагерная зона, куда свозили зэков со всей Руси и до, и после советской власти. Самым именитым среди них был сосланный сюда в 1913 году Климент Ефремович Ворошилов – будущий «первый красный офицер». А счёт заключённых Ныроба начался с боярина Михаила Никитича Захарьина – племянника первой русской царицы, которому так и не суждено было узнать, что в свою очередь его племянник и тёзка станет первым русским царём новой династии.
В середине XVII века деревня Ныробка состояла всего лишь из шести домов, казалось бы, бессистемно сгрудившихся на пологом склоне холма, по краю которого течёт зародившаяся в недалёких болотах речушка.
В кажущемся беспорядке расположения деревенских изб опытный взгляд улавливал мудрую крестьянскую рациональность, учитывающую рельеф местности, изгибы русла речушки и границы подпиравшей с трёх сторон деревеньку тайги.
Все шесть изб Ныробки были выстроены принятым у северян способом, носившим название «дом со связью». Завезли сей образец народного зодчества в пермские земли первые переселенцы – новгородцы да устюжане. Такой дом состоял из двух клетей – жилой и холодной, стоявших на высоком подклете. Жилая и хозяйственная части дома соединялись между собой сенями. Подклет избы использовался как погреб, а в хозяйственной части содержался скот и хранился заготовленный для него корм.
Окна, больше похожие на бойницы, были вырублены в двух смежных бревнах – на полбревна вверх и вниз – с восточной стороны избы. Дом должен смотреть на солнце. Такие окна назывались волоковыми, так как закрывались – заволакивались изнутри тесовой задвижкой.
В подклетах прорубались узкие продухи: дерево, как и человек, без свежего воздуха не живёт.
Продухами были снабжены и небольшие прямоугольные срубы, поставленные над ямами, в которых хранились запасы мяса и рыбы, – первая разновидность холодильника, в котором клеть служила морозильной камерой. Особенность таких строений была в том, что северная стена их выдвигалась значительно дальше торцевой части сруба. Делалось это для того, чтобы снега не заносили вход в погреб.
Иванко – так звали первого русака, рискнувшего поставить здесь избу, – был рослый мужик с крепкими, но пригнутыми тяжёлым трудом к земле плечами. Длинные руки его заканчивались широкими ладонями, корявые пальцы которых, подобно корням потревоженных бурей деревьев, болтались возле самой земли, всегда готовые в неё вцепиться. Нечёсаная шевелюра Иванки составляла с усами и бородой единый волосяной покров, под которым невозможно было угадать ни рта, ни глубоко посаженных глаз, один лишь крупный мясистый нос, подобно острову, торчал из волосяного моря. Этот нос вызывал почти мистическое уважение у вогулов, бродивших в этих местах вслед за стадами оленей. Именно вогулы дали имя сначала обладателю впечатляющего носа, затем и месту, где тот решил поселиться: Ныр – нос, ыб – поле. Поле, принадлежащее Носу.
Отец Иванки был одним из ратников, павших от ногайских стрел при защите северной заставы Чердыни – острожка Искор, прикрывавшего верхнекамские земли со стороны Печоры и Вычегды.
Мать, прижимая к груди новорождённого сына, вместе с другими женщинами и детьми бежала из посада, вскарабкавшись по «узкой улочке» – расщелине в скале, не раз выручавшей русаков в подобных обстоятельствах.
Сегодня по ней карабкаются туристы, желающие «сбычи мечт», которая гарантирована тем, кто доберётся до вершины.
По-разному сложилась судьба беженцев: одни, отсидевшись в парме, вернулись на обжитые места, другие сгинули, заплутав в буреломной чаще.
Матери Иванки повезло: её с сыном подобрал один из вогульских князьков и держал при себе в качестве то ли жены, то ли наложницы, что, впрочем, у кочевых племён пармы практически не имело различия. Иванка рос любимцем князя, но, видимо, гены славян-земледельцев тянули к оседлости. Когда мать, сохранившая в сыне язык и весьма смутное понимание о христианской вере, закончила земной путь, Иванка упросил князя дать ему возможность пожить по обычаю предков.
Опыт общения с соплеменниками у Иванки был весьма скудным: он ограничивался посещениями ставшего к тому времени погостом Искора для обмена добытой рухляди на необходимые в тайге и тундре товары: булатные ножи, топоры, зерно. Искорцы частенько потешались над чудным малым, внешне похожим на них, но, подобно язычникам, одетым в малицу из оленьей шкуры поверх суконной рубахи с капюшоном. Да и говорил он на нелепой смеси новгородского диалекта и вогульской тарабарщины.
Тяга к сородичам всегда боролась в Иванке с боязнью быть отвергнутым ими. Потому начать новую жизнь он предпочёл с компромиссного варианта. Немало побродив по Искорскому посаду, незаметно, но цепко присматривался к работе местных зодчих и поставил избу в семи верстах от погоста: вроде как и рядом с русаками, и всё же в отдалении от них.
Прощаясь, вогульский князь одарил Иванку женой – дочерью своею, с которой они вместе выросли. Вот так русский мужик с женой-вогулкой и начали изнуряющую борьбу за выживание, которая на Руси по сей день именуется жизнью.
К началу ХVII века, когда произошло событие, навсегда выделившее Ныроб- ку из ряда безвестных чердынских деревенек, Иванко Нос был уже древним стариком, перешагнувшим полувековой рубеж, что по тем временам было явлением редкостным. Разрослась его семья, и вместе с ней разрослась деревня. Рядом с отцовским поставил дом Якуш Черной, прозванный так за смуглость кожи да вороной окрас волос, унаследованные от матери. Русоволосую жену Якуш привёз в новый дом из Покчи.
От русаков первым к Иванке прибился охотник Микитка Ларев, низкорослый, но широкий в плечах, почти квадратный, мужик. В зимнюю пору он промышлял рухлядью, которой торговал затем на ярмарках погостов Искора, Вильгорта и даже самой столицы воеводства – Чердыни.
Микитка, сговорившись с Иванкой, взял в жёны его старшую дочь, ростом и костистостью вышедшую в отца. Выбор Микитки был сугубо прагматичным: жена отличалась трудолюбием и спокойной кротостью. Видимо, инстинктивно щадя самолюбие мужа, она пуще отца пригибалась к земле, скрадывая свой великий рост, особенно бросавшийся в глаза подле коротышки мужа.
Микитка жену жалел. Лишь изредка, после удачных торгов, в излишне хватившем зелёного вина мужике просыпалась тяга к самоутверждению. Ввалившись в избу, он забирался с ногами на полати – так назывались идущие вдоль стен избы лавки – и, как ему казалось, грозным криком подзывал жену. Та, наперёд зная, что её ждёт, бросала дела и спокойно подходила к полатям, на которых покачивался супруг. Микитка, придерживаясь одной рукой за стену, другой с размаху наносил жене удар кулаком в скулу и, успокоенный, падал на её же крепкие руки, заботливо укладывающие его спать.
Их подросший сын Ларко Микиткин поставил рядом с отцовским свой дом и по примеру старейшины Иванки взял жену из вогульского племени.
Сенька Дмитриев прибыл в Ныробку большой семьёй: жена и трое детей, к которым вскоре прибавилось ещё двое. Дмитриевы всё делали сообща: вместе разбивали огород, вместе уходили в парму на промысел грибов и ягод. Трудились споро, не деля работу на мужскую и женскую. Старый Иванко частенько замирал на пороге своего дома, подолгу наблюдая за ладной работой этой дружной семьи. Соседям, в свою очередь наблюдавшим за ним, казалось со стороны, что старейшина в этот момент о чём-то сосредоточенно думал. Но Иванко ни о чём не думал – просто стоял и смотрел.
Последним появился в деревне Ерёмка-бобыль. Он пришёл один и дом поставил на отшибе. Попробовал сговориться с Сенькой Дмитриевым о женитьбе на старшей дочери того, но получил вдруг от кроткого и доброжелательного отца семейства решительный укорот. С тем же успехом, точнее неуспехом, Ерёмка походил по другим дворам. Даже непритязательные кочевники-оленеводы отрицательно качали головами, когда он, желая мены на жену-вогулку, выкладывал перед ними товары, среди которых был и предмет особой Ерёмкиной гордости – серебряное персидское блюдо, попавшее к нему одним из тех путей, которыми не принято бахвалиться.
Бывает же такое: человек вроде бы и не отличается ничем от других, а все его сторонятся. Спроси почему, сами не смогут объяснить.
Не обзаведясь семьёй, Ерёмка не испытывал нужды в обработке земли, так и жил бобылём, промышляя охотой да рыболовством.
В эту деревушку на исходе августа, в самый канун нового 1601 года, прискакал на взмыленной лошади гонец от чердынского воеводы с приказом в срочном порядке поставить два дома для важных гостей, идущих из самой Москвы.
Каждый крестьянин – работник-универсал, ведает профессиями числом до двух десятков. Ставить дома для ныробцев было делом знакомым. Новые избы в деревнях поднимали обычно всем миром. Трудились слаженно и даже красиво, с лёгким налётом профессионального артистизма, получая удовольствие от тактично скрываемого соперничества в мастерстве.
Была лишь одна загвоздка. Лес под строения заготавливали обычно в срок от Николы зимнего до Сретенья. В это время лес спит, замирает движение сока в стволах деревьев. А ставились дома летом, после того как заготовленные брёвна хорошо просушатся.
В том году в Ныробке строительства не планировалось и делового леса в зиму не заготовили. О том и поведал Иванко Нос нечаянному гостю. Но гонец только отмахнулся:
– Рубите летний да не тяните с просушкой – сроку нет. Ненадолго строите, Бог даст, не задержатся московиты.
Гонец, брезгливо отмахнувшись от ковша браги, протянутого Иванкой, вскочил в седло.
Ранним утром другого дня ныробские мужики вышли в парму с топорами за кушаками. Были в деревне и пилы, но строительный лес нужно рубить: от ударов топора волокна древесины на срубе уплотняются и меньше впитывают влагу. Все ныробцы были крещёными, по большим праздникам ходили в Искор, молились в стоявшей в центре погоста церкви. В остальные же дни, когда к тому была необходимость, били поклоны деревянному изваянию распятого на кресте человека с печатью безысходного страдания на широкоскулом лице с азиатским разрезом глаз. Таким вырубивший его из цельного ствола дерева Иванка представлял Бога. Свою рукотворную святыню он вкопал в землю невдалеке от священной ели вогулов.
В сущности, христианство ныробцев мало отличалось от язычества местных племён. И сегодня на Руси даже в самых цивилизованных горожанах сидят немалые языческие традиции. Чего уж говорить о крестьянах русского севера, живших в тесном общении с природой, зависящих от неё, чувствующих её пуповиной.
Заготавливая лес, ныробцы обычно просили у дерева прощения, объясняли ему нужду, приведшую их в парму. Порой хитрили, убеждая зелёных исполинов, что рубить их будут не по своей воле. В тот раз это было истинной правдой. Согласно полученному от гонца распоряжению следовало на дворе для незваных гостей поставить хором две избы, да сени, да клеть, да погреб, и чтобы около двора была городьба. То есть дом предписывалось поставить старым, известным ныробцам способом – в две клети. Только на этот раз обе предназначались под жилые избы.
Свои дома ныробцы ставили прямо на землю. Для незваных дорогих гостей, учитывая неподготовленность леса, цокольные подклеты установили на плоские валуны.
Брёвна укладывали вразбежку: на комель нижнего дерева ложилась верхушка следующего. Обычно тщательно подогнанные друг к другу брёвна исключали необходимость конопатить пазы. На этот раз лес клали сырой, потому для верности стены пробили белым мхом.
Покрыли избы самцовой кровлей. Самцами самобытные русские зодчие называли горизонтальные брёвна, образующие подкровельную конструкцию, на которую кладётся тёс.
Нижние концы кровельного тёса упирали в поток – выдолбленное в виде жёлоба бревно, которое одновременно служило и опорой, и водостоком. Поток клали на курицы – укреплённые в слегах стволы молодых елей, срубленных с одним из ответвлений корня, отдалённо напоминающие клюшку для хоккея с мячом. Эти загнутые корни держали конструкцию крыши снизу, а сверху конёк кровли прижимало ещё одно выдолбленное бревно – охлупень. Такая изба строилась без гвоздей, но держалась прочно благодаря грамотно распределённой силе собственной тяжести. Так у древних деревенских зодчих, не знающих чертежей, работала инженерная мысль.
Есть на севере Коми-Пермяцкого округа деревня Марапальник, в которой сохранилось до наших времён несколько изб, поставленных по той же технологии, соблюдая которую ныробцы возвели в своей деревеньке первый гостевой дом.
Рядом с домом выкопали погреб, укрепив стены тёсом. Сверху поставили клеть, снабжённую продухами. Холодильник для гостей оставили пустым: наполнять команды не было!
К установленному гонцом сроку дом был готов, и в тот же день из Чердыни прибыл небольшой обоз: запряжённые цугом лошадёнки тащили дроги, гружённые кирпичом. Кирпич этот изготавливался на заводике при Иоанно-Богословском монастыре. Свои избы ныробцы топили по-чёрному, а этот кирпич предназначался для печей, которые сложил в новом доме печник, прибывший с обозом в сопровождении двух подмастерьев.