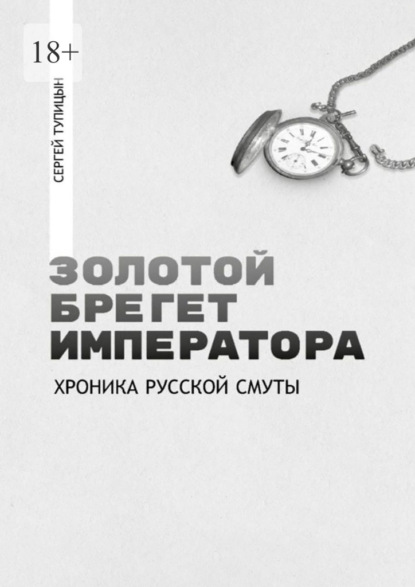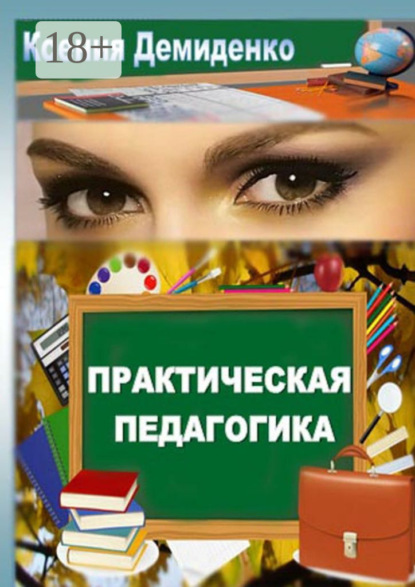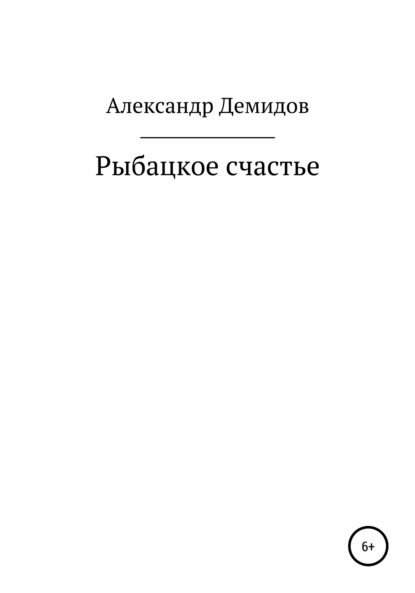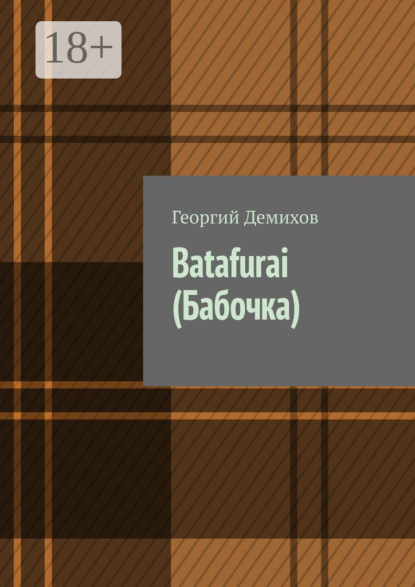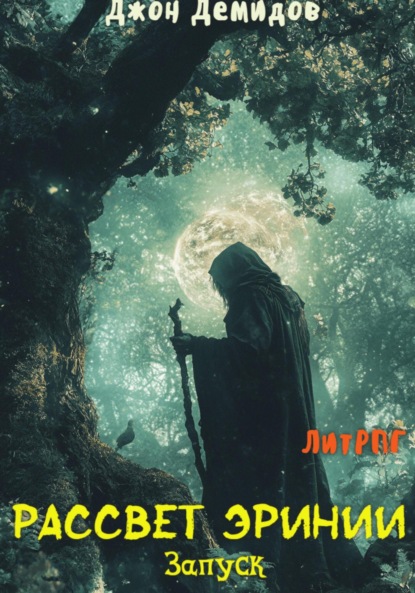- -
- 100%
- +
Кирпича хватило и на печь первой в Ныробе «белой» бани. Её поставили вплотную к сеням со стороны дома, обращённой к лесу.
Протопив печи и проверив тягу, мастер отбыл. А ныробцы погрузились в ожидание неведомого.
Зима в 1601 году пришла в Пермь Великую рано. В конце новогоднего месяца сентября упорно подул северный ветер, нагоняя тучи, набухшие снегом. Унылая серость окружающей природы усугубляла унылость настроения пристава Романа Тушина, который, сопровождаемый шестёркой стрельцов, вёз в Ныробку Михаила Захарьина.
Роман Андреевич получил от Годунова назначение воеводой в новый острог Туринск, заложенный на месте захваченного Ермаком ногайского поселения Епанчин-юрт. С открытием Бабиновской дороги в Сибирь кормление на этом остроге сулило весьма радужные перспективы. Сопровождение Михаила Никитича было для Тушина дополнительной обузой. Как говорится, не допускай порожних рейсов.
Тонкий знаток человеческой психологии, царь Борис, давая приставу строжайшее повеление содержать узника в благополучии и достатке, отлично понимал: чем дольше протянется заточение Михаила Никитича, тем больше на него, как на причину своей задержки в пермской глухомани, будет расти досада Тушина. А ну как сдадут у стражника нервы? Тут уж царь ни при чём!
Звук поддужных колокольчиков позвал ныробцев из жилищ. Деревенские сгрудились в тёмную толпу, почуяв которую лошади приезжих, захрапев, попятились.
Стрельцы спешились. Один из них распахнул дверцу крытого возка, и оттуда шагнул на свет богатырь, запястья рук и обутые в сафьяновые сапоги ноги которого охватывали кольца тяжёлых оков.
Ныробцы знали, что православный Бог умер мученической смертью, ушёл ввысь, но обещал вернуться, чтобы спасти всех, покинутых им на земле. Увидев скованного красавца, блеснувшего, словно луч солнца, расшитым золотом одеянием, они поняли, что Бог вернулся, и упали на колени.
Растерявшиеся стрельцы хлестали по согбенным спинам нагайками, понуждая дикарей встать. Тушин придирчиво осмотрел приготовленный к их приезду дом. Себе с подручным определил избу, выходящую на восточную сторону, в западной велел располагаться четырём стрельцам.
Для узника пристав определил место в просторных сенях, чтобы был под постоянным приглядом. Хотя куда мог боярин убежать, даже задумай такое?
Жить Захарьину предстояло на полатях, тянувшихся вдоль тёплой стены, той, что ближе к печи.
Двое стрельцов направились к Михаилу Никитичу. Тот стоял понуро сгорбившись. Фигура его, облепленная густо повалившим снегом, напоминала белое изваяние. Когда один из стрельцов потянулся к его кандалам, боярин резко распрямился. Снежное облако взметнулось ввысь, стрельцы отпрянули, а ныробчане вновь повалились наземь.
В сложенных местными жителями легендах, охотно повторяемых сегодняшними экскурсоводами, узник в этот момент схватил привезший его в эти гиблые места возок и отбросил далеко в сторону. Не было, да и не могло быть такого. Даже при богатырском сложении Михаила Никитича отшвырнуть возок руками, скованными трёхпудовыми кандалами, было невозможно. А лошади, что, следом полетели?
Весельчак, равного которому в кулачных боях не было по всей Москве, покорно поднялся в избу. Вот так же недалече от этих мест тремя веками позже другой богатырь, его дальний потомок и тёзка, стряхнёт с плеч убийц, чтобы проститься с секретарём, ставшим самым близким другом, но тут же покорится уготованной им обоим участи.
Вослед стрельцам прибыл в Ныробку обоз с провиантом для московских гостей: мука, крупы, вяленая и копчёная рыба, бочки с соленьями, мёдом и зелёным вином. Мясо и дичь должна была дать парма, о чём уведомил ныробцев чердынский воевода, самолично решивший проследить, ладно ли устроились московские гости.
Два дня московиты бурно справляли новоселье. На третий день воевода, не без помощи челяди погрузившись в сани, отбыл.
Для тушинцев наступило время ожидания.
Рано пришедшая зима усугубила однообразие деревенской жизни. Пристав со стрельцами взбадривали себя охотой да лихими банными днями с последующими долгими застольями. Девок деревенских, однако, не трогали – Бога не гневили. А вот к замужним бабам разгорячённые вином стрельцы порой проявляли интерес. Бабы принимали внимание власти (а москвиты для них олицетворяли центральную власть) с равнодушной покорностью, а их мужья замечать озорства стрельцов не хотели.
Поначалу Роман Андреевич пробовал пробить именитого узника на задушевность: я – бывший стольник, ты – бывший стольник, службу понимаем. Но все попытки Тушина завязать доверительное панибратство разбивались об отрешённое молчание Михаила. Уязвлённый пристав перешёл в отношении к своему подопечному к политике враждебного нейтралитета.
Подарком судьбы стало появление таинственного узника для деревенской ребятни. Присутствие за высоким частоколом загадочной фигуры будило воображение.
Сгрудившись в тесный кружок на заветном сеновале, пацаны пугали друг друга и особенно замиравших от страха девчушек на ходу придуманными байками о затворнике, наказанном далёким московским царём. За что тот наказан, в рассказах упускалось. Из подслушанных разговоров взрослых выяснить причины опалы не удавалось, собственного воображения не хватало, поэтому главный акцент в рассказах делался на мучениях, которым подвергался узник.
В детских фантазиях он сидел в холодном тёмном подклете, прикованный тяжёлыми цепями к столбу. В его истлевшей одежде и свалявшихся, давно немытых волосах копошились полчища вшей. Для достоверности рассказчики демонстрировали слушателям насекомых, извлечённых из собственных лохм.
А в ранах, натёртых тяжёлыми оковами, копошились белые черви – личинки будущих мух. Детвора называла их рощениками и с наступлением тепла набирала в помойных ямах, отправляясь на рыбалку. На такую наживку охотно шли плотва и уклейка, именуемые у местных сорожкой и щеклеёй.
Серьёзные рыбаки таким уловом брезговали, а для мелюзги походы за «кошачьей радостью» были одним из нехитрых развлечений.
А вот узнику в историях детворы не доставалось и мелкой рыбёшки. Стража морила его голодом.
Наступило время, когда фантазия рассказчиков, негласно соревнующихся меж собой в придумывании острых деталей, начала иссякать, потребовав конкретных действий.
Детвора придумала чем заняться! Она решила спасти затворника от голодной смерти. Полых стеблей засохшего пикана в заготовленном на зиму сене находилось в избытке. Тайком от взрослых детвора начала наполнять их квасом, сметаной, маслом, затыкая с обеих сторон хлебным мякишем.
Самые отчаянные пацаны через проделанный в остроге лаз крадучись пробирались к дому, в подклете которого, по их мнению, томился узник, и бросали в продухи набитые едой пиканы.
Игра в спасение затворника ребятишкам понравилась. Они продолжали украдкой набивать пищей «продуктовые контейнеры». Порой за этим занятием их заставали родители. Но на их вопросы дети отвечали: «Мы так играем».
Объяснения грешили неопределённостью, но для занятых своими заботами взрослых их было вполне достаточно.
На беду ныробчан, детишек за их тайными ходками к стрелецкому дому застал однажды Бобыль. Мучимый неутолённым сладострастием, он вечерней порой бродил по деревне и наткнулся на сгрудившуюся у лаза ребятню.
При его приближении детвора разбежалась. Но одного пацанёнка, застрявшего в лазе, Бобыль успел схватить. И тот, захлёбываясь от страха слюной и соплями, рассказал Бобылю всё об их тайном сговоре.
В пойманном пацанёнке Бобыль с нескрываемым злорадством узнал младшего сынишку Сеньки Дмитриева, не пожелавшего стать его тестем. В голове деревенского изгоя зародился план мести.
Тушин находился в недобром расположении духа, ставшем к середине зимы его обычным состоянием. Затянувшееся бездействие изматывало грудь тянущей болью. Попойки с опостылевшими соратниками, бани с равнодушно покорными деревенскими бабами успели изрядно поднадоесть.
Пристав тоскливо сидел у окна, когда дверь отворилась и один из стрельцов впихнул в избу угодливо согнувшегося перед высоким начальником Бобыля.
– Чего тебе? – Роман Андреевич ожидал услышать какую-нибудь просьбу, но мужичок срывающимся шёпотом поведал о проказах детворы, добавив, однако, что совершались они по ведению и даже попустительству местных мужиков. В доказательство Бобыль протянул пиканы, брошенные убегающей от него детворой.
Пристав посмотрел на Бобыля с плохо скрываемой ненавистью. Ему вовсе не хотелось портить отношения с местными. Да и понимал Тушин весь идиотизм поведанной истории. Но Роман Андреевич хорошо знал людей из породы доносчиков. Такой в своём мстительном рвении и до чердынского воеводы дойдёт. А там, глядишь, решат, что пристав проморгал политический заговор! Охотников выслужиться перед высокой властью всегда в избытке. Приходилось на донос реагировать.
Роман Андреевич решил превратить фантазию ребятни в реальность. Собранные по приказу стрельцы надели на узника кандалы, сволокли его в подклет и приковали к опорной свае.
Поутру пошли по домам. Ничего не понимающим мужикам вязали руки, связанных бросали в сани. Четверо стражников на двух санях повезли арестантов с сопроводительной депешей в Чердынь.
Боярин так и не узнал никогда, что свалившейся на него страшной опале обязан детской игре.
А ныробских мужиков ввиду серьёзности дела из Чердыни отправили дальше в Казань, где подвергли дознанию с большим пристрастием. Ныробские под пытками молчали, потому что действительно не знали, чего от них добиваются. Только с воцарением на московском троне Самозванца, вспомнившего об опальных «родственниках», арестанты вернутся домой. Без Иванки Носа: старик отдал Богу душу на дыбе.
Ерёмка торжествовал! Выждав некоторое время, он первым делом направился в избу Дмитриевых, где когда-то получил при сватовстве отказ. Но всё семейство оказало Бобылю столь истовый отпор, что он вынужден был вновь уйти несолоно хлебавши. И в какую бы избу Ерёмка ни пытался наведаться, бабы при активной поддержке ребятни гнали прочь доносчика. А тут ещё старая колдунья, жена Иванки, гневно потрясая руками, обрушила на Ерёмкину голову поток вогульской тарабарщины. Слова неслись непонятные, оттого нагоняли больше жути.
Ерёмка был унижен и раздавлен. Стрельцы, на чью поддержку он, как человек, проявивший высокий уровень гражданской сознательности, рассчитывал, каждую неудачную попытку Бобыля устроить личную жизнь сопровождали злорадным хохотом, улюлюканьем и даже тумаками.
После проклятий старухи к обиде Ерёмки добавился страх: а ну как её вогульские духи окажутся сильнее его православного Бога?
Горечь обманутых ожиданий душила Бобыля. Он бросился в свою пустую избу, схватил кнут, которым погонял единственную живность свою – низкорослую лошадёнку, и быстрым шагом направился в сторону леса. Униженный Бобыль решил проучить Бога так, как поступали со своими не оправдавшими ожиданий идолами вогульские шаманы.
Он подошёл к изваянию и занёс над ним кнут. Первый удар был неуверенно слабым. Но Бог молчал. Кнут свистел и обрушивался на деревянное тело всё яростнее и сильнее. Вдруг что-то больно ужалило Бобыля в шею. Ерёмка захрипел и выронил кнут. Взгляд наполнился удивлением и тоской и, перед тем как погаснуть, встретился на мгновение со взглядом Бога, тоже выражающим тоску и недоумение. Неживое тело Ерёмки упало на землю. Из шеи торчала прилетевшая из чащи тонкая вогульская стрела. Кровь из пробитых ею отверстий стекала двумя тонкими струйками, потом остановилась.
Между стрельцами и оставшимися без отцов семейства ныробчанами установилась атмосфера насторожённой враждебности. Жизнь стала и вовсе тоскливой. И стражники вымещали зло на узнике.
Хотя достаточно было одних оков, чтобы сделать существование Михаила Никитича невыносимым. Изготовлены они были с изощрённой целесообразностью: кандалы оживали с каждым движением узника, превращаясь в железного спрута, плотно обхватывающего тело. Десятифунтовый замок – голова стального чудовища – бил по ступням при малейшей попытке сделать шаг. Да и куда было шагать в тёмном подклете?
Рассудок готов был спасти затворника от страданий, покинув его. Но Михаил Никитич избрал иной путь.
Ушедшее от взора боярина небо переместилось в душу и позвало её за собой. Боярин потянулся к обретённой сознанием вечности непрестанно повторяемыми молитвами. Одни подсказывала бессвязная память, другие приходили сами.
Ныробцы, прильнув к ограде гостевого двора, вслушивались в едва доносившиеся до них непонятные, оттого более притягательные слова и со сладостным недоумением ощущали незнакомую доселе лёгкость.
Для стражников же голос из подклета означал продление ненавистной ссылки. Песнопения прерывались приступами кашля, а порой и вовсе замолкали.
Тишина вселяла в стрельцов надежду. Но голос вновь оживал!
Тем временем ожила и природа. Наступила весна, не принёсшая радости ни стрельцам, ни лишённым мужиков семьям ныробчан.
Ближе к концу лета голос окончательно затих. Боясь спугнуть удачу, стрельцы несколько дней не решались спуститься в подклет. Наконец Тушин поднял крышку и погрузился в сумрак темницы. Свеча в его руке тотчас погасла, а сам пристав едва не потерял сознание от окружившего его удушливого смрада, против которого были бессильны струи воздуха, попадавшие в подклет через узкие продухи.
Показалось или нет, что под подошвой сапога что-то шевельнулось? Тушин не дал себе время выяснить это – лишь сильнее вдавил ногу в зловонную жижу. Появившееся из темноты лицо пристава отливало зеленью. Тушин долго не мог отдышаться. Наконец сумел различить направленные на него выжидающие взгляды стрельцов и молча кивнул. Стражники истово перекрестились.
В тот же день московиты начали собираться в дорогу. Что делать с усопшим боярином, не знали. На этот счёт никаких установок не было. Разобрали пол над подклетом. Преодолевая брезгливость, тело узника вынесли на белый свет. Рыть могилу не хотелось. Некогда было рыть могилу. Не снимая с трупа кандалов, опустили его в погреб-холодильник. Яму завалили брёвнами стоявшей над нею клети.
Три дня не приближались ныробцы к покинутому московитами подворью. Потом решились. Растащили брёвна над погребом и наконец увидели вблизи тело того, кто без малого год тревожил их воображение.
Настало время проводить неведомого гостя из неведомых мест в вечно неведомое. С тела сняли оковы, не решившись лишь тронуть железные кольца, охватившие запястья и лодыжки.
Омовение совершила старуха-вогулка – жена Иванки Носа, принявшая вслед за мужем христианство. Она же велела сыновьям достать с чердака гроб, приготовленный много лет назад Иванкой для себя. Это было ложе, выдолбленное в цельной колоде из ствола лиственницы. Выдолб формой своею повторял очертание тела. Из гроба высыпали хранившееся в нём зерно.
Ложе в колоде Иванка готовил согласно своему немалому росту, и к тому же с некоторым запасом. Известно, что покойный, уходя в иной мир, распрямляется. Недаром существует присказка, что горбатого могила исправит.
Тело усопшего обрядили в чистые одежды и, словно мумию, закутали в бе- лый саван. Усопший узник был столь же высок ростом, как Иванка, – гроб пришёлся ему впору. А самому деревенскому старосте, жена знала это, ни гроб, ни собранный узелок с одеждой уже не могли пригодиться.
После омовения старуха вернула покойному нательный крест, а в руку вложила ещё один – деревянный, тоже изготовленный мужем.
Для захоронения выбрали сухое место на вершине холма. Могилу вырыли с тем расчётом, чтобы покойный лежал головой на запад, а в ноги ему на могильном холмике поставили голубец, или, как их чаще называли, голбец – изготовленный сыном Иванки Носа Игнаткой деревянный крест, покрытый сверху двускатной крышей, напоминающей крышу дома. Голбец и был символом дома усопшего.
Голбцы, или домовины, будут официальной церковью запрещены после произошедшего в ней раскола. Но в те времена православные на Руси были ещё едины в вере.
Поминальный стол всей деревней собрали в том доме, где упокоился узник. На стол поначалу поставили кутью – разваренную пшеницу с мёдом – да пироги с капустой. Позже подоспела уха. Завершили трапезу прибелочным киселём, изготовленным на овсяной закваске, и пирогами с начинкой из сушёной малины да сваренным на меду черничным вареньем.
Поминали молча. А уходя, ныробцы подожгли дом, в котором всё равно никто из них не стал бы селиться.
Глава 5.
Ранние Романовы
Романовых подняла Смута. Могло ли быть иначе?
И боярству, погрязшему в склоках, и народу, уставшему от междоусобицы, и стране, только начавшей осознавать свою государственность, необходима была точка опоры в виде правильного царя. Опыт Годуновых, Шуйского, польского королевича Владислава показал, что народ «ненастоящих» царей признавать не хочет, нужны были родственники Рюриковичей. Самыми ближайшими оказались Романовы.
Но сначала погуляли по Руси самозванцы. Как это ни парадоксально, но именно Лжедмитрий I, вернув из небытия оставшихся в живых Никитичей, способствовал воцарению династии Романовых.
Именно первый Самозванец, в благодарность за признание в нём цесаревича Дмитрия, возвёл Филарета в Ростовские митрополиты, а Ивана Никитича Захарьина ввёл в свой Государственный сенат.
Возможно, Филарет испытывал неловкость за своё лжесвидетельство. Но вскоре ему придётся «узнать» Дмитрия и во втором самозванце. Со зрением у Филарета, видимо, были проблемы.
Вычёркивая из своей да из людской памяти годы опалы, Фёдор-Филарет, руководствуясь тем, что его отец был Никита Романович, повёл свой род от новой фамилии.
Так что в пермской глуши умирал ещё не Романов, а Захарьин. Романовы пошли от третьего патриарха Московского и всея Руси – отца первого царя новой династии.
Во времена Смуты Романовы вели себя как и большинство других бояр: крутились как могли, пытаясь соблюсти свой интерес. А в том гремучем коктейле, который представляла собой Россия начала века XVII, сделать это было весьма непросто.
Первого Лжедмитрия оба брата «признали» без душевного сопротивления, восприняв снизошедшую на них «царскую» милость как вознаграждение за годы, проведённые в незаслуженной опале, и повод для торжества над ненавистным родом Годуновых.
Ко второму горе-самозванцу, оказавшемуся заложником чужих страстей, Филарет и сам попал в заложники, привезённый в его лагерь Яном Сапегой – польским рыцарем и авантюристом с душою Д’Артаньяна и телом Портоса.
Лжедмитрий II, хватавшийся за каждую соломинку для доказательства своей легитимности, сразу же провозгласил Филарета патриархом! Правда, самозванство этого горького шута было столь очевидно, что Филарет оказанную ему столь сомнительную честь предпочитал не афишировать. Но и выступать с разоблачением самозванца не спешил.
Ивана Никитича вернуть из ссылки распорядился ещё Годунов, посчитавший, видимо, что парализованный калека, который и обидное прозвище своё, Каша, получил за невнятицу речи, не может представлять серьёзной опасности. Но вот ведь как бывает: по мере приближения к Москве состояние здоровья отходящего вроде бы в лучший мир узника всё больше убеждало, что он собирается на земле задержаться. Пристав Некрасов, сопровождавший Ивана Никитича, с удивлением замечал: «…везучи, язык у него появился, рукою стал владеть.., а сказывает сердце здорово, ест довольно».
Видимо, инвалид в достаточной мере обладал свойственной некоторым представителям фауны способностью к мимикрии, помогающей им в минуты опасности прикидываться мёртвыми.
Обласканный Лжедмитрием, Иван Никитич почувствовал себя настолько хорошо, что в период короткого царствования Василия Шуйского стал одним из военачальников, возглавивших поход против тушинского сидельца, в чьём лагере необременительно томился его старший брат.
После свержения поляками Шуйского оба брата приняли активное участие в избирательной кампании на русский престол королевича Владислава. Именно Семибоярщина, в которую входил и Иван Романов, больше всего опасаясь бунта черни, распахнула перед интервентами ворота Кремля.
Правильным ли был такой выбор? Есть в истории русской смуты пример принятого в схожей ситуации иного решения. Временное правительство – Семибоярщина 1917 года, чтобы остановить поход на Петроград им же избранного главнокомандующего генерала Корнилова, по инициативе Александра Керенского решилось раздать народу винтовки… Результат известен.
Временное правительство 1610 года поступило иначе. Бандам тушинцев, которые уже гуляли под стенами Москвы, бояре предпочли польскую шляхту. Доводы Ивана Романова, самого ревностного сторонника королевича Владислава, смогли развеять сомнения даже истинного патриота, ставшего позже духовным знаменем нижегородского ополчения, патриарха Гермогена.
Один Романов убедил Боярскую думу, другой – митрополит Филарет – возглавил посольство к королю Сигизмунду. Правда, переговоры зашли в тупик, и послы надолго задержались в Польше. Филарет остановился в доме канцлера Льва Сапеги, предъявив ему рекомендательное письмо от племянника – лихого шляхтича Яна Сапеги, известного долгой, но неудачной осадой Троице-Сергиевой лавры.
В почётном плену Филарет будет находиться до середины 1619 года и, возвратившись в Москву, падёт в объятия сына, уже шестой год занимавшего российский престол. Тут же митрополит будет официально посвящён в Московские патриархи бывшим тогда проездом в России патриархом Иерусалимским Феофаном.
С той поры и до собственной кончины (а он по тем временам прожил удивительно долго – почти 80 лет) патриарх Филарет станет фактическим правителем России при своём болезненном и слабохарактерном сыне.
Лжедмитрий I способствовал возвращению в Москву всех ссыльных Захарьиных, не только живых, но и мёртвых. Тела Александра, Василия и Михаила нашли упокоение в Новоспасском монастыре.
В канун 1606 года в Ныробку воротились из Казани отпущенные по указу нового царя мужики, а в разгар зимы в деревню вновь нагрянули московиты. Теперь для того, чтобы доставить в столицу останки Михаила Никитича. Только сейчас ныробцы узнали, кем был таинственный узник.
Московским гостям пермяки и на этот раз не обрадовались: расставаться с обретённой святыней им не хотелось. Понукаемые стрельцами мужики неохотно взяли в руки заступы и кирки. Промёрзшая земля поддавалась трудно.
Когда с погребальной колоды сняли крышку, окружающие замерли. Притихли даже стрельцы. Стенки гроба местами прихватила гниль, а тело узника оказалось неподвластно тлену. Земля взяла лишь фалангу пальца той руки, в которую старая вогулка вложила деревянный крест.
Игнатка Нос, избранный после гибели отца деревенским старостой, вознёс к небу такие же длинные, как у Иванки, руки, попытался что-то сказать – не получилось. Но словам здесь и не было места.
Истово осеняя себя крестным знамением, ныробцы повалились на колени.
Московиты поспешно засобирались в обратный путь.
В год воцарения Михаила Романова у деревни Ныробка, где принял мученическую смерть его дядя Михаил, как-то очень кстати проезжим купцам явилась икона Николая Чудотворца. Образ стоял на пне, из-под которого, как утверждали очевидцы, именно в этот момент забил никогда не замерзающий ключ. Дважды пытались чердынцы увезти икону в Ивано-Богословский монастырь, но она упорно возвращалась на облюбованный пень.
Естественно, что и пень, и бьющий из-под него родник были признаны чудотворными, и к святому месту потянулись толпы богомольцев, желающих прощения грехов и исцеления недугов.
Чудо сие дало повод чердынскому воеводе напомнить царю о существовании Ныробки. И Михаил I отправил в Чердынь грамоту, в которой повелел: «…в том Ныробском погосте, у чудотворного образа Николая Чудотворца, устроить храм древян во имя Чудотворца Николая», и, что было не менее важно для жителей теперь уж села, «с погоста Ныроба впредь до царского указа никаких податей не править». На строительство храма казной были выделены средства из, как сегодня бы сказали, федерального бюджета. А потомки невинно пострадавших ныробских мужиков получали полный пакет льгот и привилегий, сохранявшихся вплоть до реформ, затеянных в 1720 году Петром Великим. Царь Пётр грамотой своею льготы ограничил, приказав взыскивать с ныробцев подушные и рекрутские сборы. В 1856 году состоялось коронование Александра II, ознаменованное многими милостями, а вот особые привилегии ныробцам в том же году были полностью отменены.
Деревянная церковь во имя святителя Николая сгорала трижды. Строят – сгорает, строят – сгорает… Поднимая храм в четвёртый раз, ныробцы решили схитрить: было громогласно объявлено, что церковь возводится во имя другого святого – Алексия, человека Божия.
Кого они пытались обмануть? Новый храм сгорел, едва в трапезной начался праздничный обед, завершавший обряд освящения.
XVIII век начался в Ныробе со строительства новой, теперь уже каменной церкви. Строили её люди пришлые, с местными в контакт не вступавшие, что и породило множество легенд. По одной из них храм строили, а он уходил под землю. Строили – и уходил. Потом вдруг во всей красе сам поднялся из-под земли.