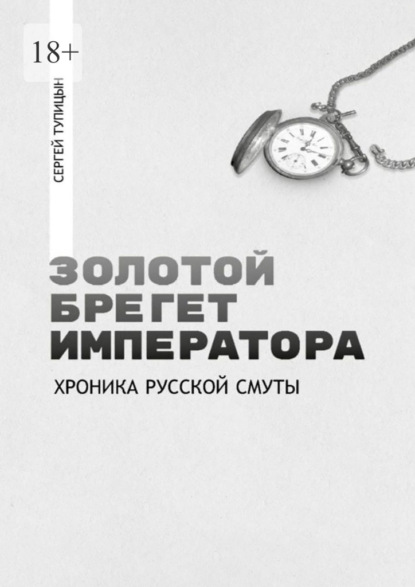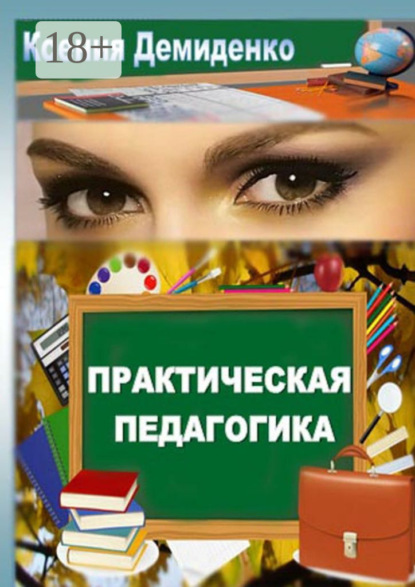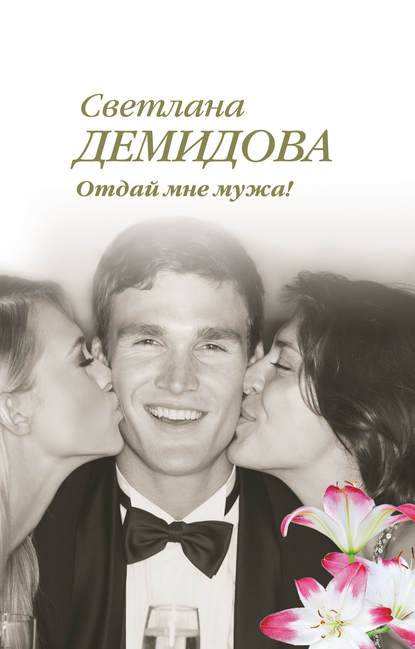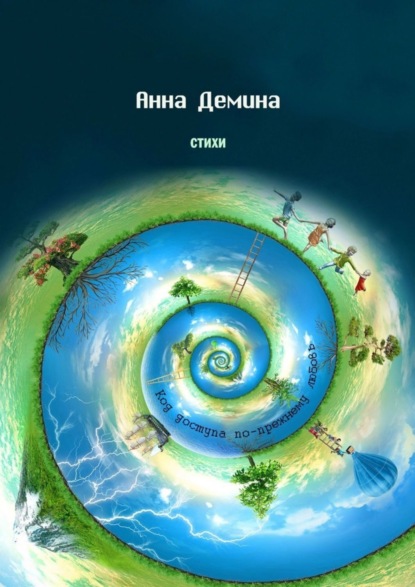- -
- 100%
- +
Когда душа первого ополчения Прокопий Ляпунов, преданный Заруцким и Трубецким, стоял один перед казацким кругом, приведённым в ярость клеветой, изложенной в подмётном письме, тоже нашёлся человек, не убоявшийся рискнуть собой в защиту справедливости. Иван Ржевский, чей потомок в звании поручика прочно войдёт в анекдоты, был настроен к Ляпунову враждебно, но, поверив в его искренность, с криком: «Прокопий не виноват!» – встал плечом к плечу с обречённым человеком и вместе с ним принял смерть.
29 марта 2010 года на двух станциях московского метрополитена прогремели взрывы. Нашлось немало добровольцев, готовых бескорыстно вывозить раненых на своих автомобилях. Но их, как ненужных конкурентов, начали избивать таксисты, враз взвинтившие цены на свои услуги.
Такие противостояния неподвластны времени, они были и будут. Главное, сохранять равновесие.
Прознав о приближении кортежа «супруги», самозванец и в этот раз проявил малодушие: сказался больным. А может быть, ему было приказано не высовываться, пока не прояснится обстановка.
Царица встала лагерем невдалеке от Тушино, на встречу с дублёром супруга отправился её папа. Впрочем, самозванец на этих переговорах исполнял роль статиста. Торг с сандомирским воеводой, возведённым в звание гетмана Лжедмитрием I, вёл князь Рожинский, самочинно ставший гетманом при Лжедмитрии II. Торговались три дня.
Наконец сошлись на том, что честь пана Мнишека (а именно ею гетман должен был поклясться в том, что сидевший тут же зять его – подлинный) стоит миллион злотых, к чему прилагались северские земли с четырнадцатью городами. Выгодно сторговав свою честь, папа не забыл и о чести дочурки.
Юрий Мнишек особо оговорил, что новый Лжедмитрий может начать полноценную брачную жизнь с супругой только после официального восхождения на московский трон и выплаты чадолюбящему папаше всей суммы взноса за пользование дочерью.
Стороны ударили по рукам, и в ближайшую же ночь в лагере царицы состоялась тайная презентация новоявленного супруга. Конечно, и первого Лжедмитрия трудно было назвать красавцем, но недостатки внешности его компенсировало обаяние незаурядной личности. Новый самозванец отталкивал исходящим от него ощущением ущербности. Как только он покинул шатёр, Марина разрыдалась от досады на судьбу и жалости к себе.
Вновь на авансцену вышло окружение. Старый Мнишек будил в дочери честолюбивые замыслы, гетман Рожинский, сам лишь пару лет назад принявший католичество (с детства он рос в православии), напоминал о Родине и вере. Ему вторил появившийся, как чёрт из табакерки, инквизитор, сопровождавший Марину во время триумфального въезда в Россию.
Впрочем, спектакль разыгрывался без особого энтузиазма. Все, и прежде всего сама Марина, знали, что она согласится.
Торжественный въезд царицы в Тушино был обставлен с большой помпой: празднично разодетая свита, разукрашенная карета, пёстрая толпа зрителей. Ян Сапега с развевающимся знаменем в руке встал во главе почётного эскорта кавалеристов. Из шатра выплыла Марина, блистающая драгоценностями, присланными загодя вновь обретённым супругом.
– Досточтимая пани, – богатырь склонился к луке седла в почтительном поклоне, но глаза его озорно блеснули, – потрудимся ещё раз своими чреслами во славу католичества и Польши!
От хохота Сапега чуть не свалился с коня.
В глазах Марины блеснула злоба, но она сумела её погасить. С надменно горделивым видом, который умеют напускать на себя падшие женщины, царица прошла к карете.
Царица великолепно разыграла сцену воссоединения с горячо любимым мужем: одарила самозванца взором, выражающим кротость и смирение, даже скатила на щёку слезу. Стараясь не причинить ущерба дорогому наряду, царица сделала вид, что готова припасть к ногам повелителя.
Тушинский лагерь облегчённо вздохнул: царь и верно настоящий – царицу не обманешь!
Негодовал один человек – Юрий Мнишек, получивший пока лишь треть оговорённой суммы. Помня о печальном опыте самозванства первого зятя, гетман здраво рассудил, что лучше гарантированная синица в руке, чем призрачный журавль в небе, и поспешил отбыть на родину с тем, что удалось урвать. С той поры Мнишек начал воспринимать дочь как отрезанный ломоть и совершенно потерял к ней интерес.
Поначалу признание Мариною в тушинском самозванце своего мужа благотворно повлияло на его имидж. Города охотно открывали ворота правильному царю.
Дело портили поляки. Откровенное пренебрежение к «русскому быдлу», глумление над простыми людьми, осквернение храмов – всё это высекало искорки народного гнева, ставшие предвестницами большого пожара.
Подступила к тушинцам опасность и с тыла. Король Сигизмунд посчитал, что настало время для того, чтобы то ли самому взойти на русский престол, то ли посадить на него сына. Осенью 1609 года польские войска подошли к Смоленску, а король направил в лагерь тушинцев агитаторов – призывать польские отряды на свою сторону.
Гордые паны колебались: с одной стороны, Сигизмунд вроде как более свой – польский, с другой – сдерживали присяга, данная тушинскому самозванцу, и двадцать миллионов злотых, обещанных им после взятия Москвы.
Вот если бы Сигизмунд дал те же деньги, тогда конечно – можно постоять за Родину!
Патриотизм русской знати, кучковавшейся подле самозванца, был примерно на том же уровне. С чьей помощью удастся упрочить своё положение, существенной роли не играло. Мысли бояр тоже начали склоняться в сторону официальной Польши.
Почуяв, что дела и вовсе плохи, тушинский бедолага тайно бежал из лагеря, без колебания покинув глубоко беременную жену. Её-то он больше всего и боялся!
Самозванец прихватил с собой лишь одного человека – придворного шута Кошелева. Видимо, только в нём Лжедмитрий II был полностью уверен. Их бегство стало своеобразной перекличкой с написанной в те же годы трагедией Шекспира «Король Лир», с той лишь разницей, что там побрели скитаться король и шут, а здесь – два шута.
Польские эмиссары подступали к Марине, советуя отказаться от честолюбивых помыслов, и от лица короля предложили ей в качестве отступного один из уделов Московского государства.
Но Марина, чем безнадёжнее становилось её положение, тем жёстче закусывала удила! Она бросила в лицо польскому послу гордую фразу:
– Кого Бог хоть раз осиял блеском царского величия, тот не потеряет этого блеска никогда и будет сиять, как солнце, даже когда его закрывают на время тяжёлые тучи!
Это «солнышко» искренне подзабыло, что на нём несмываемые пятна оставила череда лжесвидетельств и клятвопреступлений. Кто из обуянных бесом властолюбия склонен вспоминать о подобных мелочах?
Польскому королю русская царица отправила письмо, в котором писала:
«Всё отняла у меня судьба: остались только справедливость и право на московский престол, обеспеченное коронацией, утверждённое признанием за мною титула московской царицы, укреплённое двойною присягою всех сословий Московского государства. Я уверена, что Ваше Величество, по мудрости своей, щедро вознаградите и меня, и моё семейство, которое достигало этой цели с потерею прав и большими издержками, а это неминуемо будет важною причиною к возвращению мне моего государства в союзе с Вашим Королевским Величеством».
О как! Возвращение моего государства в союзе с Вашим Королевским Величеством. И ведь формально Марина Мнишек была права. Правда, предприимчивая полячка ухитрилась взойти на русский престол, минуя обряд крещения, но к тому времени она уже превратилась в образцовую ревнительницу православной веры и, прибегнув к убедительным русским выражениям, послала подальше круживших подле неё инквизиторов.
Бегство самозванца ускорило разложение тушинского войска.
Именно в это время русские бояре снарядили в Польшу посольство во главе с митрополитом Филаретом, чтобы просить Сигизмунда направить на русский трон сына его Владислава. К чести русской знати следует сказать, что, на какие бы уступки она ни шла, торгуя Родиной, одно из условий оставалось непоколебимым: претендент на царство непременно должен был принять православную веру. Именно этот пункт стал камнем преткновения в переговорах Филарета с Сигизмундом.
Осевший в Калуге самозванец, видимо, окончательно одурев от ужаса, начал рассылать по городам и весям письма с призывами бить поляков и изменивших ему бояр.
Тем временем тушинская шляхта погрязла в междоусобных раздорах и кровавых стычках со вчерашними союзниками – казаками. В результате одной из них нелепо погиб Роман Рожинский: поскользнувшись на лестнице русского храма, зашиб бок и вскорости умер. Вот она – кара за надругательства над православными святынями!
Марина почувствовала, что в этом хаосе становится никому не нужной. Но она принадлежала к той категории женщин, которым опасность только придаёт силу. Буйством честолюбивых претензий, волей к их осуществлению и удивительной способностью к мимикрии отличаются все фурии, ввязавшиеся в политические баталии.
Марина с распущенными волосами металась по лагерю, демонстративно не скрывая свою беременность. Она напоминала воинству о верности присяге, взывала к его чести, не скупилась на обещание даров, которыми осыплет тех, кто поможет ей вернуть престол. И сработало. Часть польских рыцарей и несколько казацких атаманов пошли за нею. Путь царицы лежал в Калугу, где окопался её незадачливый супруг, которому суждено было уразуметь, что от таких женщин не уходят, если они сами не отпустят.
Польская вольница вместо погибшего Рожинского избрала гетманом Сапегу. Склонный к авантюрам, новый гетман начал свою игру, но до поры до времени прикрываясь именем царя Дмитрия Ивановича. Ян Сапега повёл свои отряды на Москву, а с другой стороны к ней подступали регулярные польские войска под предводительством гетмана Жолкевского.
Два гетмана вели к Москве две польские армии, правда, цели у них были разные: каждая хотела посадить на русский трон своего царя.
До драки дело не дошло. Начались переговоры, традиционно сопровождаемые торгом. Но тут судьба выбила из рук Сапеги главный козырь: из Калуги пришла весть, что и этот «царь Дмитрий» убит.
Человек, начавший, правда, не по своей воле, такую сложную заваруху, сам пал жертвой многоходовой интриги. Касимовский хан Ураз-Мухаммед, служивший поначалу самозванцу, решил переметнуться к полякам и поехал в Калугу убеждать присоединиться к нему сына. Но сын, искренне преданный Лжедмитрию, рассказал тому о двурушничестве отца.
Самозванец пригласил хана на охоту – поднимать из берлоги медведя. И вот там-то, в лесу, впервые совершил решительный поступок. Правда, сзади, но всё-таки сам вонзил рогатину в двуличного хана.
Тело двое приближённых царя, одним из которых был верный шут Кошелев, бросили в Оку.
Вернувшись в Калугу, самозванец сообщил, что это хан предпринял попытку убить его, но после неудачи предпочел исчезнуть. Версия была шита белыми нитками – более неподходящей ситуации для осуществления коварного плана со стороны Ураз-Мухаммеда трудно было придумать: один, в лесу, при свидетелях со стороны Лжедмитрия. Но все сделали вид, что поверили в эту нелепицу. Все, кроме одного.
Крещёный татарин Пётр Урусов, служивший при самозванце начальником стражи, был другом касимовского хана. Именно он демонстративно дал понять Лжедмитрию, что ничуть не поверил в выдвинутую им версию.
Самозванец заточил своего охранника в темницу, но не прошло и двух месяцев, как выпустил на волю, вернув ему доверие и должность. И сделал это по настоянию Марины!
То ли царице осточертел никчёмный муж, то ли самому самозванцу вконец опостылела не своя жизнь, только в один из декабрьских дней горе-государь, вновь впавший в беспробудное пьянство, выехал на конную прогулку в сопровождении стражи, состоящей из татар под предводительством Петра Урусова.
Летя сквозь белесую мглу на бешеной тройке, самозванец постоянно требовал вина, подносил которое верный Кошелев. Когда лжегосударь опрокидывал очередную чарку, к саням подскакал Урусов. Пётр взмахнул саблей, и рука самозванца отлетела прочь, забрызгивая Кошелева кровью и вином.
Младший брат Урусова спрыгнул с коня в сани и для верности отсек самозванцу голову.
Шута, однако, не тронули. Он и доставил в Калугу обезображенное тело самозванца.
После кончины Лжедмитрия II в его вещах обнаружили талмуд, а также письма и заметки, написанные на иврите, что добавляет аргументы в копилку тех прекраснодушных россиян, которые в любой смуте стремятся отыскать еврейский след.
Марина легко справилась с ролью безутешной вдовы. Нервничать ей было нельзя, да и не хотелось: со дня на день ожидалось рождение ребёнка. Хотя вряд ли сама царица могла с уверенностью назвать имя отца. Единственное, в чём Марина была убеждена, – ожидается приход на свет законного наследника русского престола.
Наступил момент, когда царице стала на руку смерть мужа. Тело самозванца было выставлено в холодной церкви на всеобщее обозрение, и потянулся в Калугу русский люд, желая взглянуть на царские останки. Особый интерес вызывала отрубленная голова самозванца.
Так же точно тремя веками позже устремится со всех концов России в Москву народ, чтобы посмотреть на тело Ленина.
Буквально в те же дни царица благополучно разрешилась от бремени младенцем, наречённым Иваном Дмитриевичем.
Рядом с Мариной тотчас появился новый гарант воплощения её честолюбивых помыслов – донской атаман Иван Заруцкий. При первом самозванце царица играла подчинённую роль, вторым откровенно помыкала, а с Иваном Мартыновичем они сошлись на равных.
Поначалу лихой атаман связывал свои перспективы с тушинским Лжедмитрием, но после его гибели обратил внимание на Марину. Заруцкий давно заточил в монастырь взятую по молодости из простонародья жену и теперь рассматривал возможность двух вариантов: стать опекуном при малолетнем царевиче или же, склонив царицу к браку, самому взойти на русский престол. Даром что вышел из самых казачьих низов, зато как мужик выгодно отличался от обоих самозванцев.
Так, с третьим мужчиной в жизни предприимчивой польки начался третий, завершающий акт её драмы.
Если Заруцкий сделал ставку на Марину Мнишек, то гетман Сапега, окончательно в ней разочаровавшись, встал под знамёна королевского войска.
Подбадриваемые боярами, москвичи присягнули польскому царевичу Владиславу и сами открыли ворота полякам. Отчётливо просматривался вариант объединения в единую унию восточных славян, поляков и примкнувших к ним литовцев.
У зарождающейся империи в идеологическом арсенале был наготове и символ – Грюнвальд, но не случилось. Задолго до ополчения Минина и Пожарского поляков победили сами поляки.
Измученный поборами и унижениями, растерянный от вереницы постоянно оживающих «царевичей Дмитриев», русский люд всё внимательнее прислушивался к призывам второго ополчения: стоять твёрдо за православную веру, очистить родную землю от поляков и литовцев и верно служить царю, коего сами же изберут всей землёю.
Собранное со всей Руси войско Пожарского и Минина взяло Москву в осаду. После того как ополчение объединилось с казаками долго торговавшегося Трубецкого и отбило попытку гетмана Ходкевича прорваться в город с обозом продовольствия, участь осаждённых была предрешена.
Однако на первое предложение сдаться поляки, помня о том, как безропотно москвичи впустили их в город, ответили высокомерно:
«Московский народ самый подлейший в свете и по храбрости подобен ослам или суркам… впредь не пишите нам ваших московских глупостей, а лучше ты, Пожарский, отпусти к сохам своих людей».
Беспредельную шляхетскую гордыню подпитывала столь же беспредельная жадность: сидя на грудах награбленных сокровищ, поляки вовсе не хотели с ними расставаться.
Однако вместо долгожданной помощи с наступлением осенних холодов в Кремль вошёл совсем нежданный голод. Чтобы избавиться от лишних ртов, поляки выпнули из Кремля русских бояр, сделавших ставку на польского королевича Владислава. С ними ушла жена Филарета Романова Марфа с сыном Михаилом.
Избавившись от лишних ртов, поляки получили лишь отсрочку неизбежного. Вся живность в городе была съедена. Когда первый снежок засыпал травку и коренья, осаждённые лишились и вегетарианской пищи. Начался мор. Исчерпав общепринятую пищу, поляки обратили внимание на духовную литературу. Они вываривали кожаные переплёты книг и съедали. В польских желудках безвозвратно исчезла знаменитая библиотека, собранная Иваном Грозным.
Книг на всех не хватило, и гордое шляхетство перешло на человечину. Первыми забили русских заключённых и пленных. Но на их костях давно уже висела только сморщенная кожа. Вот когда осаждённые пожалели об отпущенных ими упитанных русских боярах. Так польская недальновидность избавила от перспективы быть съеденным интервентами будущего первого русского царя новой династии.
Съели гулящих девок, опрометчиво оставшихся при войске. Принялись за слуг. В городе началась охота на людей. Их убивали, засаливали впрок и… торговали малосольной человечиной. Воистину, глупость и жадность – две неотступные спутницы рода человеческого.
Когда казаки Трубецкого, в отличие от ополченцев Пожарского не желавшие идти ни на какие уступки осаждённым, выбили поляков из Китай-города, те, наконец, решились на переговоры о сдаче Москвы.
Соглашением о капитуляции интервентам была гарантирована жизнь, если они сдадут в казну все награбленные ценности.
Однако не все русские были готовы блюсти условия капитуляции. Те осаждённые, что сдались Трубецкому, вопреки договору, были полностью перебиты казаками. Не поздоровилось и многим из тех, кто сдавался дружине Пожарского, хотя князь изо всех сил старался соблюсти условия капитуляции.
К слову, поляки тоже нарушили договор. Перед сдачей они всё-таки сумели спрятать часть награбленного в тайных местах, надеясь на скорое возвращение. Не получилось. И тайники русские обнаружили, и реванш сорвался.
Сигизмунд III не захотел мириться с поражением. Он вспомнил, что «семибоярщина» призвала на русский престол его сына Владислава, и сам пошёл на Русь. Но поздновато спохватился.
Русские, ободрённые освобождением Москвы, проявили недюжинную стойкость, а тут ещё подоспел их извечный союзник – зима, и польский король посчитал за благо вернуться восвояси.
Его бы благоразумие да Наполеону с Гитлером!
В феврале 1613 года произошло одно из самых эпохальных событий в истории государства Российского: выборные люди съехались на Земский собор для избрания русского царя.
Бояре усиленно продвигали кандидатуру шведского принца Карла Филиппа, но представители иных сословий, вдоволь хлебнувшие прелести интервенции, настаивали на том, что царь должен быть обязательно русским.
Началась борьба честолюбий: сразу несколько князей через близких им депутатов пытались продвинуть на трон собственные кандидатуры. В воздухе запахло новой смутой.
Тогда выборщики единодушно пришли к единственно правильному решению: избрать на царство Михаила Романова, внучатого племянника первой и единственно любимой жены Ивана Грозного Анастасии, по кровному родству самого близкого из претендентов к династии Рюриковичей.
Примечательно, что и сам юный Михаил Фёдорович не помышлял о царстве, и никто из близких Романовым людей не участвовал в продвижении его кандидатуры. Более того, единственный, кто продолжал настаивать на избрании иноземного принца и резко выступил против кандидатуры Михаила, был… его дядя Иван Никитич, во всеуслышание заявивший, что «князь Михайло Фёдорович млад ещё и не вполне в разуме».
С таким же рвением, тоже в феврале, но 1917 года, дядья другого князя Михаила Романова будут дружно выступать против того, чтобы он занял русский престол.
Примечательность Романовых состоит в том, что они и в самом начале династии не стремились к власти, и в конце её сами активно помогали себя закапывать.
В марте 1613 года делегация выборщиков прибыла в Кострому, чтобы сообщить решение Земского собора инокине Марфе и её сыну. Мать слёзно умоляла Михаила не принимать на себя столь тяжкое бремя. Была, конечно, в этих слезах и доля диктуемой традицией игры, но в целом опасения матери были искренними. Колебался и шестнадцатилетний сын её. Лишь под угрозой отлучения от церкви Михаил решил повиноваться воле народа.
Венчание на царство состоялось 11 июня 1613 года в Успенском соборе Московского кремля. Так начался трёхсотлетний путь Романовых от Ипатьевского монастыря в Костроме к Ипатьевскому дому в Екатеринбурге.
Первые годы государственными делами пыталась управлять мать юного царя Марфа Фёдоровна, а после освобождения в 1619 году из польского плена её супруга бразды правления взвалил на себя патриарх Филарет, принявший наряду с сыном титул Великого государя.
Замкнулась связь времён. А не отведи в 1598 году патриарх Филарет, в ту пору боярин Фёдор Захарьин, руку царя Фёдора Ивановича, протягивающую ему царский скипетр, может быть, и Россию не сотрясла бы великая Смута, и судьба династии сложилась иначе?
Царь был избран, а Марина с Заруцким, активно рассылавшие грамоты, призывающие русский люд присягать малолетнему царевичу Ивану Дмитриевичу, продолжали составлять реальную угрозу молодому Московскому государству продлением братоубийственной войны.
Юный царь вынужден был выслать против смутьянов регулярные войска. Царица Марина с любовником, бывшим казацким атаманом, и малолетним сыном сначала осели в Астрахани, потом бежали вверх по Яику. Их последним пристанищем стал острог на Медвежьем острове в середине реки, с которой, много позже, пойдет кроваво гулять по Руси другой казацкий атаман, объявивший себя царём.
Грязные лохмотья, свалявшиеся волосы и связанные за спиной руки – так выглядела Марина во время своего второго пути в Москву.
Изрядно побегавший Иван Мартынович Заруцкий угомонился, будучи посаженным на кол, а трёхлетнего сына Марины повесили на глазах матери.
Осознавшая, наконец, что потеряно всё, к чему так безудержно стремилась, Марина каталась по земле, изрыгая роду Романовых проклятия, предрекавшие ему не единожды обагриться собственной кровью и завершиться, как и её короткий царский род, смертью ребёнка.
Конец самой Марины подёрнут дымкой неизвестности. По официальной версии, она умерла от тоски в тюремном застенке столицы, властвовать в которой ей так хотелось.
Ходили также слухи, что и сама она была то ли повешена, то ли утоплена. А жители Коломны одну из башен своего кремля прозвали Маринкиной. Якобы именно в ней до кончины своей томилась как ни крути, а первая законная царица всея Руси. Ну, если не брать во внимание подтасовку с царём.
В народных преданиях Марина осталась злой колдуньей, умеющей, при необходимости, обращаться в сороку.
Последняя версия кажется нам наиболее убедительной. Иначе чем объяснить то, что проклятия несостоявшейся царицы сбылись с обескураживающей точностью?
Часть II.
Явление брегета
Глава 1.
Негласный комитет
Пётр Великий, развалив боярскую Русь, начал интенсивно строить Россию дворянскую. Созидатель он был способный. К способным тянутся.
Среди «птенцов гнезда Петрова» был и Василий Никитич Татищев, при усердии которого поднялись на Урале предприятия, давшие начало «заводской цивилизации» с её специфической социальной структурой, обычаями и образом жизни. На смену «государственнику» Татищеву пришли олигархи. Самые крупные из них, Демидовы и Строгановы, создали промышленные империи со своими подданными, армиями, законами.
Среди основанных Василием Татищевым заводов был и Егошихинский железоделательный, вокруг которого по указу Екатерины II полвека спустя поднимется город Пермь. Пермской губернии уготована будет печальная участь стать могилой династии Романовых, прах последнего представителя которой – несостоявшегося императора Михаила II – так и не будет найден. Дворянство пройдёт тот же путь, который прошло боярство – его неизбежно проходят все социальные элиты, «жадною толпой стоящие у трона». Им бы поумнеть, но дорвавшиеся до власти не читают книжек – некогда.
Офицеры-помещики входили в силу, подсаживая на трон нужных им Романовых. Потихоньку дворянство наглело, обрастало жирком телесным и духовным и тем настойчивее цеплялось за свои привилегии, чем меньше оставалось для того оснований.
Так, снискав поначалу заслуженную славу служением Отечеству, сословие это, постепенно деградируя, перестало замечать, что само роет могилу и себе, и опекающей его монархии.
Этот же путь пройдёт в XX веке коммунистическая партия, выродившаяся в номенклатуру. Пройдёт в ускоренном режиме, обусловленном пробелами в образовании.
Наиболее щедро осыпала дворянство привилегиями Екатерина II, обязанная гвардии восхождением на трон и напуганная к тому же пугачёвским бунтом.
Попытавшийся урезать льготы, идущие в ущерб интересам государства, Павел I получил «апоплексический» удар табакеркой в висок. Убийцы вывели перед гвардией его сына. По щекам наследника престола текли слёзы. Гвардия кричала «ура». Александр I по праву снискал в конце своего правления титул Благословенного, а служивое дворянство при нём достигло апогея воинской славы. Однако последовавшее за победоносной войной с Бонапартом самоубийственное восстание декабристов красноречиво продемонстрирует начало разложения дворянского сословия.