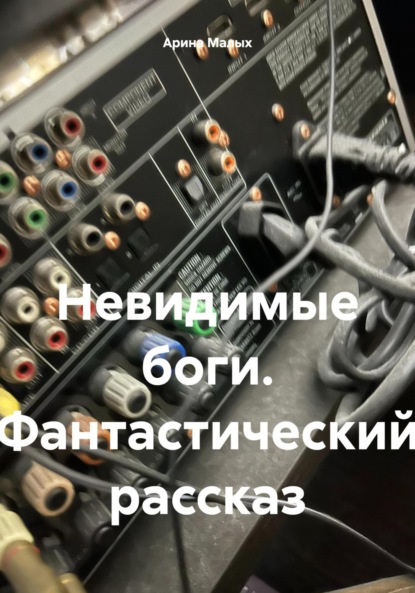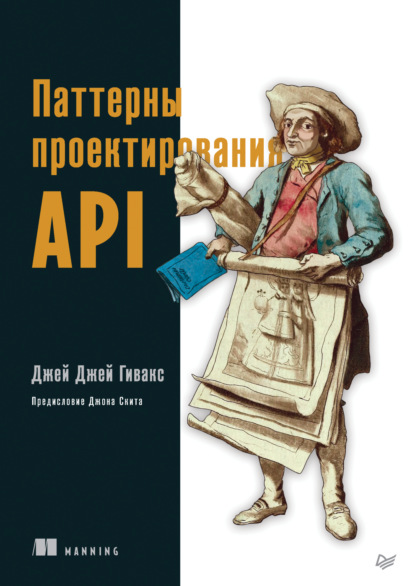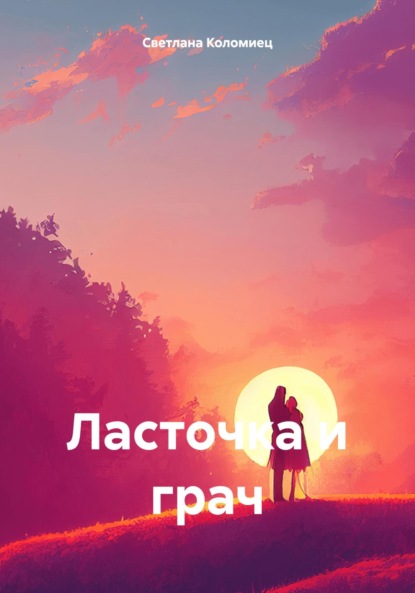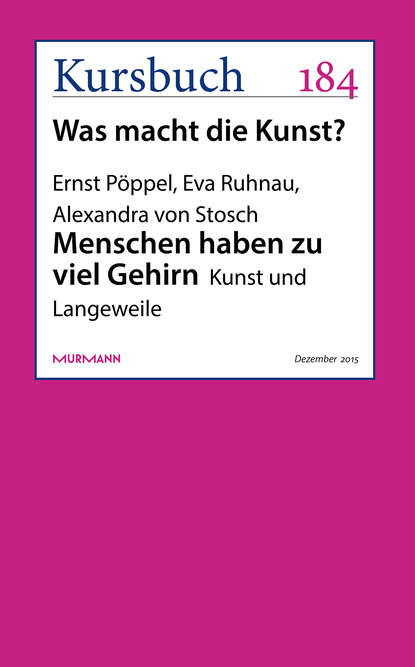Дело №9. Двадцать минут тишины

- -
- 100%
- +

Первый снег и первая ложь
Снег шел второй день. Он не падал, а будто просеивался через невидимое сито в небесах, застилая мир мелкой, сухой крупой. Служебная «Волга» не ехала, а продавливала себе путь в этой белой целине, оставляя за собой две глубокие борозды, которые тут же начинала затягивать поземка. Дворники на лобовом стекле двигались с усталым, монотонным скрипом, сгребая в стороны снежную пыль, но мир за стеклом все равно оставался размытым, лишенным четких контуров и цвета. Все было белым и серым. Небо, земля, голые ветви берез, призраками мелькавшие вдоль дороги.
Павел Нестеров смотрел на этот пейзаж невидящими глазами. Холод просачивался в салон сквозь щели в уплотнителях, пахло сырой шерстью его пальто и бензином. Водитель, молчаливый мужик в ушанке, сдвинутой на затылок, вел машину с тем сосредоточенным спокойствием, какое бывает у людей, привыкших к дурным дорогам и долгому терпению. Он не пытался заговорить, и Нестеров был ему за это благодарен. Слова сейчас казались лишними, неуместными. В голове еще звучал сухой, как треск сучьев, голос начальства из московского кабинета: «Разберись там, Павел Андреич. Тихо, без шума. Несчастный случай, и точка».
Несчастный случай. Два слова, которыми так удобно прикрывать все, что не укладывается в гладкие строки отчетов. Два слова, от которых у Нестерова сводило скулы.
Поселок Глухово возник из снежной мглы внезапно. Несколько панельных пятиэтажек, похожих на забытые на морозе куски сахара-рафинада. Длинное здание Дома культуры с выцветшим транспарантом, буквы на котором уже не читались. Магазин с лаконичной вывеской «Продукты». И над всем этим, протыкая низкое, ватное небо, возвышалась она. Радиовышка. Ажурная, металлическая, похожая на скелет доисторического ящера, вмерзшего в лед. Она была видна отовсюду, ось, вокруг которой вращалась эта сонная, замерзшая жизнь. И теперь – смерть.
Машина остановилась у приземистого кирпичного здания с табличкой «Отделение милиции». На крыльце его уже ждали. Двое. Один, постарше, в добротной цигейковой шубе и пыжиковой шапке, – лицо румяное, ухоженное, хозяйское. Второй, в милицейском тулупе, пониже ростом, суетливый, с бегающими глазками.
– Прошин, прокурор района, – представился тот, что в цигейке, протягивая пухлую, теплую ладонь. – А это наш начальник милиции, Семен Игнатьевич Семёнов. Ждем вас, Павел Андреевич. Замерзли, небось, с дороги?
– Нестеров, – он коротко пожал руку, не назвав должности. Они и так все знали. – Где объект?
– Да какой там объект, Павел Андреевич, – засуетился Семёнов, начальник милиции. – Недоразумение сплошное. Пойдемте в кабинет, я вам бумаги покажу, в двух словах обрисую…
– Сначала на место, – ровно сказал Нестеров. Его голос прозвучал глухо, безэмоционально. – Бумаги подождут.
Прошин и Семёнов переглянулись. В их взгляде читалось легкое раздражение, смешанное с подобострастием перед столичным начальством. Они явно рассчитывали на другой сценарий: быстрая подпись под готовым заключением, рюмка коньяка «за знакомство», и гость отбывает обратно в Москву, оставив их в покое. Но гость хотел на место. В холод.
Ехали уже на милицейском «уазике», который ревел мотором, но упрямо полз по заснеженным улицам. Вышка вблизи оказалась еще громаднее. Ветер гудел в ее металлических конструкциях, и этот низкий, вибрирующий звук пробирал до костей. У подножия башни стояло небольшое техническое здание из силикатного кирпича. Рядом – следы, много следов, затоптанных, неразборчивых.
Аппаратная встретила их теплом и гулом работающего оборудования. Комната была заставлена стеллажами с приборами, мигающими тусклыми лампочками. В воздухе стоял странный запах. Нестеров остановился на пороге, прикрыв глаза и втягивая носом воздух. Запах озона, как после грозы, и еще что-то – тонкий, едкий душок горелой пластмассы или изоляции.
– Вот здесь все и случилось, – бодро начал Семёнов, указывая на пол.
На линолеуме был обведен мелом силуэт лежащего человека. Неуклюжий, какой-то детский рисунок.
– Кольцов Иван Петрович, шестьдесят два года, – тарахтел начальник милиции. – Дежурил в ночную смену. По предварительной версии, произошло короткое замыкание в этом вот щитке. – Он ткнул пальцем в сторону металлического ящика на стене. – Деда, видимо, тряхнуло током. Сердце слабое, фронтовик… В общем, не выдержало. Криминалист наш уже все осмотрел. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Чистый несчастный случай.
Нестеров молчал. Он медленно прошелся по комнате. Его взгляд цеплялся за детали, которые, казалось, никого больше не интересовали. Он провел пальцем по крышке распределительного щитка. Пыль. Никаких следов недавнего вскрытия. Он присел на корточки и внимательно осмотрел сам щиток. Ни оплавленных проводов, ни копоти. Ничего, что говорило бы о серьезном замыкании, способном убить человека.
– Запах гари чувствуете? – спросил он, не оборачиваясь.
– Ну так… аппаратура, – неуверенно протянул Прошин. – Работает ведь круглосуточно. Греется.
Нестеров поднялся. Его глаза остановились на небольшом столе у стены. На столе стоял стакан с остатками чая, лежала раскрытая газета. Рядом – алюминиевая пепельница. Чистая, вытряхнутая. Почти. Внутри, прилипнув к донышку, темнели два окурка. Нестеров взял пепельницу. Окурки были от дорогих сигарет «Космос», с аккуратным фильтром.
– Покойный курил? – спросил он, поворачиваясь к местным.
Семёнов на секунду запнулся.
– Да кто ж его знает… Вроде нет. Простой мужик был, если и дымил, то махорку какую-нибудь.
– Это «Космос», – констатировал Нестеров. Он вытряхнул окурки на подвернувшийся листок бумаги и завернул. – Где его личные вещи?
– Так в отделении все. Описали, как положено. Папирос не было, точно вам говорю.
Значит, кто-то был здесь. Кто-то, кто курит «Космос» и кого не смутила смерть сторожа. Нестеров продолжил осмотр. Его взгляд скользнул по полу. Линолеум был старый, потрескавшийся, местами вытертый до основания. У самого порога, в углу, куда не доставала швабра уборщицы, скопилась пыль. И в этой пыли виднелся нечеткий, смазанный отпечаток. Нестеров присел снова. Это был след от каблука. Явный, рифленый рисунок протектора. Не валенок, который, как ему сказали, носил покойный Кольцов. След от хорошего зимнего ботинка или сапога.
Он молча поднялся, ощущая на себе настороженные взгляды прокурора и милиционера. Они начинали понимать, что быстрой и тихой процедуры не будет.
– Что это? – Нестеров кивнул на большой бобинный магнитофон, стоявший на отдельном столе. Аппарат был включен, но катушки не вращались.
– А, это… – Семёнов махнул рукой. – Запись эфира. Контрольная. Пишется постоянно, на всякий случай.
– В ту ночь он работал?
– Работал, конечно. Как всегда.
Нестеров подошел к магнитофону. На нем была установлена большая бобина с магнитной лентой. Он нажал на клавишу перемотки. Лента послушно зашуршала. Он остановил ее примерно на середине и нажал «Play». Из динамиков полилась тишина. Не просто отсутствие звука, не фоновый шум. Абсолютная, стерильная, мертвая тишина. Такая бывает только в звукозаписывающей студии с идеальной изоляцией. Нестеров перематывал ленту вперед и назад, включая воспроизведение в разных местах. Результат был один и тот же.
– Что было в эфире этой ночью? – спросил он.
– Да как обычно, – пожал плечами прокурор. – Радио «Маяк», потом технические сигналы. Ничего особенного.
– Здесь ничего нет.
– Так сбой же был, Павел Андреевич! – с облегчением воскликнул Семёнов, ухватившись за спасительную мысль. – Скачок напряжения! Кольцова убило, а на ленте запись стерлась. Аппаратура-то чувствительная.
Нестеров посмотрел на него долгим, тяжелым взглядом. Он не был великим специалистом в радиотехнике, но даже он знал, что скачок напряжения не может вот так, идеально чисто, стереть запись на магнитное ленте. Он мог сжечь усилитель, повредить двигатель, но не это. Чтобы получить такую тишину, запись нужно было стереть специальной размагничивающей головкой. Целенаправленно.
Он нажал кнопку «Стоп». На бобине, рядом с креплением, виднелся наклеенный кусочек бумажного скотча с надписью, сделанной химическим карандашом: «14.01.78. 23:00 – 07:00. Смена: Кольцов И.П.».
– Сколько длится тишина? – спросил Нестеров.
– Да кто ж ее мерил, – отмахнулся Семёнов.
– Я померяю.
Он включил воспроизведение с того места, где начиналась пустота, и посмотрел на часы. Прошин и Семёнов переминались с ноги на ногу. Тишина из динамиков давила на уши. Минута. Две. Пять. Нестеров стоял неподвижно, как изваяние, глядя на медленно вращающиеся катушки. Он чувствовал, как нарастает раздражение местных властей. Им было неуютно в этой звенящей пустоте.
Десять минут. Пятнадцать.
Наконец, ровно через двадцать минут, на ленте появился звук. Сначала тихий треск, потом – знакомые позывные радио «Маяк».
Двадцать минут. Не случайный сбой. Кто-то вырезал из эфира ровно двадцать минут. Или заменил их тишиной.
– Я забираю эту бобину, – сказал Нестеров. – И пепельницу. Оформите как вещественные доказательства.
– Павел Андреевич, да зачем? – взмолился прокурор. – Дело же ясное…
– Дело станет ясным, когда я так скажу, – отрезал Нестеров. – Вызовите начальника станции и инженера, который был на смене перед Кольцовым. Сюда.
Начальник станции Степан Игнатьевич Киселёв и инженер Алексей Громов появились через полчаса. Они вошли в аппаратную вместе, но держались порознь. Киселёв – лет пятидесяти пяти, плотный, с лицом, которое приобрело постоянное выражение озабоченной важности. Одет в приличную дубленку, пахнет хорошим одеколоном. Он держался уверенно, но глаза его цепко ощупывали Нестерова. Громов был его полной противоположностью. Сухопарый, сутулый, лет пятидесяти, с вечно испуганным выражением на лице. Он то и дело поправлял очки в дешевой оправе и нервно теребил пуговицу на своем поношенном пальто. От него пахло валокордином и страхом.
Нестеров усадил их на стулья. Прошин и Семёнов остались стоять у двери, изображая фон.
– Расскажите о вчерашней ночи, – начал Нестеров, обращаясь к обоим.
– Горе у нас, товарищ следователь, – солидно начал Киселёв. – Иван Петрович… человек заслуженный, ветеран. И такая нелепая смерть. Трагедия для всего коллектива.
– Я спрашивал о ночи, а не о трагедии, – поправил Нестеров. Его голос оставался таким же ровным.
Киселёв кашлянул.
– Ну что ночь… Все штатно. Я ушел домой в семь вечера. Громов сдал смену Кольцову в одиннадцать. Все работало как часы. А утром… утром сменщик пришел и обнаружил.
– Громов, – Нестеров перевел взгляд на инженера. Тот вздрогнул. – Вы сдавали смену. В каком состоянии была аппаратура?
– В… в полном порядке, – заикаясь, ответил Громов. – Все индикаторы в норме. Я все проверил по журналу. Расписался. И Кольцов расписался.
– Вы заметили что-нибудь необычное?
– Нет, ничего. Обычная смена. Тихо, спокойно.
– Скачки напряжения в сети в последнее время были?
Громов бросил быстрый, затравленный взгляд на Киселёва. Начальник станции едва заметно кивнул.
– Были! – тут же выпалил инженер, словно вспомнив. – Да, были. На прошлой неделе несколько раз свет мигал. И вчера днем, кажется, тоже. Сети у нас старые, перегруженные.
– И вы не сочли нужным доложить об этом? Или принять меры? Аппаратура стратегического объекта работает с перебоями, а вам все равно?
Громов сжался под его взглядом.
– Так это ж… не критично было. Мигнет и снова работает. Мы заявку подавали в энергосбыт…
– Понятно, – Нестеров сделал паузу. – Кольцов жаловался на что-нибудь? Может, беспокоился о чем-то?
– Да нет, – уверенно сказал Киселёв. – Спокойный был мужик, непьющий. Делал свою работу и все.
– Он не курил.
– Не курил, – подтвердил Киселёв.
Нестеров медленно развернул бумажку с окурками и положил на стол.
– Тогда что это делало в его пепельнице?
Киселёв уставился на окурки. Его лицо на мгновение застыло. Громов, казалось, вообще перестал дышать.
– Понятия не имею, – после паузы сказал начальник станции, возвращая себе самообладание. – Может, кто заходил к нему… из друзей.
– В одиннадцать часов ночи? На охраняемый объект? У вас тут проходной двор?
– Нет, что вы! – Киселёв даже руками всплеснул. – Порядок строжайший. Но… сами понимаете, поселок маленький, все друг друга знают. Мог и пустить кого на огонек, по старой дружбе. Старики, они такие… не всегда по инструкции действуют.
Первая ложь была неуклюжей. Вторая, про друзей, – еще хуже. Нестеров чувствовал, как они на ходу строят хлипкую стену из вранья, подпирая одну ложь другой.
Он снова подошел к магнитофону.
– Вот это, – он похлопал ладонью по корпусу аппарата, – главная странность. Двадцать минут тишины. С часу ночи до часу двадцати. Местные товарищи говорят, это из-за скачка напряжения. Вы, как инженер, Громов, можете это подтвердить?
Громов облизал пересохшие губы. Его взгляд метался между Нестеровым и Киселёвым.
– Ну… теоретически… – начал он мямлить. – Сильный импульс… мог… э-э-э… размагнитить участок ленты…
– Теоретически, – перебил Нестеров, – сильный импульс оставил бы следы на аппаратуре. Оплавленные контакты, сгоревшие предохранители. А здесь все чисто. И участок ленты не просто размагничен. На нем записана идеальная тишина. Это разные вещи. Вы, как инженер, должны это понимать.
Громов молчал, опустив голову. Было видно, как по его лбу ползет капля пота, блестя в тусклом свете ламп.
– Это был плановый технический перерыв! – вдруг громко и уверенно заявил Киселёв.
Нестеров медленно повернулся к нему.
– Какой перерыв?
– Профилактический. Мы иногда отключаем вещание для проверки систем. На короткое время. Чтобы не мешать основной сетке вещания, делаем это ночью. Кольцов, видимо, забыл сделать отметку в журнале. Старый человек, запамятовал. А потом этот скачок… все одно к одному.
Это была уже третья версия. Более продуманная, но все такая же лживая. Потому что плановые перерывы на таких объектах согласовываются за недели, и о них знает не только начальник станции.
– Громов, – Нестеров снова обратился к инженеру, его голос стал тише, почти вкрадчивым. – Это был плановый перерыв?
Громов поднял на него глаза, полные отчаяния. Он посмотрел на Киселёва, который сверлил его тяжелым взглядом.
– Да, – выдавил он. – Да… плановый.
Нестеров смотрел на этих двоих. На уверенного, нагловатого начальника и на сломленного, перепуганного инженера. Они лгали. Лгали согласованно, но неумело, создавая вокруг себя кокон из полуправды, страха и недомолвок. Они чего-то боялись, и этот страх был гораздо сильнее, чем страх перед следователем из Москвы. Они боялись того, что скрывалось в этих двадцати минутах мертвой тишины.
– Журналы дежурств, – сказал Нестеров, поворачиваясь к Семёнову. – Все журналы за последний месяц. И личное дело Кольцова. Жду все это в отделении через час.
Он кивнул водителю, показывая, что осмотр окончен. Выходя из аппаратной, он еще раз бросил взгляд на меловый контур на полу. Первый снег заметает следы, делает грязный мир обманчиво чистым. Первая ложь делает то же самое с преступлением. Но снег всегда тает. А ложь… ложь нужно растапливать самому. И работа эта, как всегда, будет долгой и холодной.
Шепот мертвой ленты
Москва встретила грязной солью под колесами и равнодушным светом фонарей, размазанным по мокрому асфальту. Обратная дорога из Глухово ощущалась как подъем из глубокого, заснеженного колодца в мир, где снег был лишь досадной помехой, быстро превращающейся в бурую кашу под ногами миллионов. Водитель, тот же молчаливый мужик в ушанке, высадил Нестерова у серого здания на Петровке и, не дожидаясь благодарности, растворился в потоке машин. В руке Нестеров сжимал казенный портфель. Внутри, завернутая в протокол осмотра, лежала бобина. Тяжелая, холодная, она казалась не просто катушкой с магнитной лентой, а каким-то странным артефактом, упрямым сгустком молчания.
Криминалистическая лаборатория располагалась в полуподвальном помещении старого здания, пропахшего нафталином архивов и вечной сыростью. Здесь не было суеты верхних этажей, только гул вентиляции и тихое потрескивание аппаратуры. Начальник звукотехнического отдела, Лев Борисович Зацепин, был человеком из той же породы, что и его оборудование: старой закалки, надежный, немногословный. Седой ежик волос, толстые линзы очков, вечно испачканные в канифоли пальцы. Они с Нестеровым знали друг друга лет десять, с тех времен, когда Нестеров еще верил, что экспертиза может дать однозначный ответ на любой вопрос.
Зацепин взял бобину в свои широкие ладони, повертел ее, словно взвешивая не граммы, а содержащуюся в ней тишину.
– Пустая, говоришь? – он посмотрел на Нестерова поверх очков. – Двадцать минут абсолютного нуля?
– Как в вакууме, – подтвердил Нестеров, ставя портфель на стул. – Местные списали на скачок напряжения. Говорят, стерло.
Зацепин хмыкнул, и этот звук был красноречивее длинной лекции по физике.
– Стереть начисто импульсом… Это нужен был бы не скачок, а удар шаровой молнии прямо в размагничивающую головку. И то остались бы следы. Принеси-ка мне чаю, Паш. Крепкого. Работа будет нудная.
Он установил бобину на массивный студийный магнитофон «МЭЗ-28А», похожий на пульт управления межпланетной станцией. Ламповые индикаторы на панели светились теплым, зеленым светом. Зацепин щелкнул несколькими тумблерами, и лента медленно поползла с катушки на катушку. Из больших динамиков, висевших по углам комнаты, не доносилось ни звука. Даже привычного шипения магнитной ленты.
Нестеров вернулся с двумя стаканами в металлических подстаканниках. Горячий, обжигающий пальцы чай пах веником. Он молча наблюдал, как Зацепин, прихлебывая из стакана, колдует над приборами. Тот подключил выход магнитофона к осциллографу. На зеленом экране прибора замерла идеально ровная горизонтальная линия. Ни всплесков, ни шумов. Смерть сигнала, зафиксированная документально.
– Идеально, – пробормотал Зацепин, снимая очки и протирая их носовым платком. – Слишком идеально. Как будто кто-то очень старался. Как отличник, который вычистил тетрадь от всех помарок перед сдачей.
– Что это значит?
– Это значит, что ее не просто стерли. Обычная размагничивающая головка оставляет остаточные поля, микроскопические флуктуации. Если выкрутить усиление на максимум, мы бы увидели на осциллографе «дрожь» этой линии. А здесь – штиль. Такое можно сделать только на специальном оборудовании. Очень хорошем оборудовании. Ленту либо подменили, либо прогнали через что-то серьезное. Промышленный демагнитизатор, например.
Он снова надел очки и склонился над пультом.
– Но мы тоже не лыком шиты. Попробуем вытащить то, что под этим штилем. Будем усиливать. По кусочкам, по децибелу. Если там хоть что-то было, хоть тень от звука, мы ее поймаем. Это как проявлять старую, засвеченную фотопластинку. Можно часами сидеть в темноте и в итоге получить лишь серое пятно. А можно – лицо призрака.
Часы потекли медленно, как остывающий парафин. Нестеров сидел на жестком стуле, курил одну сигарету за другой, наполняя комнату сизым дымом. Зацепин работал молча, сосредоточенно. Он то и дело переключал какие-то кабели, крутил ручки на панели усилителя, вслушивался в наушники, морща лоб. Из динамиков по-прежнему неслось молчание. Но теперь оно было другим. Напряженным, наполненным ожиданием. Оно было похоже на затаившегося зверя. Нестеров чувствовал, как нарастает иррациональная уверенность: они что-то найдут. Эта двадцатиминутная дыра в эфире была не пустотой. Она была криком, который заткнули кляпом.
– Есть, – вдруг сказал Зацепин так тихо, что Нестеров не сразу понял, к нему ли он обращается.
Он подошел к пульту. Зацепин протянул ему вторые наушники, тяжелые, с витым проводом. Нестеров надел их. Сначала он услышал только мощный, низкий гул – шум усиления, рев самого электронного тракта, доведенного до предела. Казалось, он слушает гудение высоковольтных проводов в метель.
– Слушай внимательнее, – прошептал Зацепин, указывая на стрелку индикатора, которая едва заметно подрагивала. – За фоном.
Нестеров закрыл глаза, отсекая от себя тусклый свет лаборатории, сосредотачиваясь на звуке. Он продирался сквозь плотную стену гула, пытался уловить в этом хаосе хоть какую-то закономерность. И вдруг услышал.
Это было едва различимо. Стук. Очень тихий, далекий, как будто кто-то стучал по свинцовой трубе на дне глубокого колодца. Стук был прерывистым, но в нем угадывался ритм. Три коротких. Три длинных. Три коротких. Пауза. Снова.
Тук-тук-тук. Тууук-тууук-тууук. Тук-тук-тук.
Это не было случайным щелчком или помехой. Это была осмысленная последовательность. Сигнал бедствия. SOS.
Но за ним следовало что-то еще. Ритм менялся. Короткие и длинные посылки складывались в группы, которые Нестеров не мог расшифровать. Это была морзянка, но какая-то странная, искаженная. И она повторялась. Снова и снова. Монотонно, настойчиво, как дятел, долбящий мерзлую кору дерева.
– Что это? – спросил Нестеров, снимая наушники. Руки его слегка дрожали.
– Этого не должно здесь быть, – Зацепин выглядел потрясенным. – Это остаточная намагниченность. Призрачный след. Кто-то стер основную запись, но сигнал был такой мощности или такой специфической частоты, что его тень, его эхо отпечаталось на более глубоких слоях эмульсии. Чтобы его услышать, нужно усиление, которое превратит шепот в рев реактивного двигателя. И даже так он едва пробивается.
Он снова склонился над приборами.
– Я попробую отфильтровать фон. Почистить, насколько это возможно. Но это займет время. Может, всю ночь. Зайди завтра утром. Постараюсь переписать очищенный фрагмент на отдельную кассету.
Нестеров вышел из полуподвала на улицу другим человеком. Холодный московский воздух больше не казался промозглым. Он был трезвым и ясным. Интуиция, это смутное, похожее на зуд чувство, которое вело его по следу в Глухово, теперь обрела голос. Тихий, прерывистый, но совершенно отчетливый. Голос из могилы. Кто-то в ту ночь не просто умер. Кто-то отчаянно пытался что-то передать. И кто-то другой, могущественный и оснащенный, так же отчаянно пытался заставить его замолчать навсегда. Стереть не только жизнь, но и само свидетельство ее последних минут.
Дело Кольцова перестало быть «несчастным случаем». Оно даже перестало быть просто убийством. Оно превращалось во что-то иное. Что-то, от чего веяло холодом совсем другого порядка, чем январская стужа.
Он вернулся в свой кабинет в здании Прокуратуры. Вечерняя Москва за окном зажигала миллионы огней, но комната тонула в сером, безжизненном сумраке. Он не стал включать свет. Сел за свой стол, заваленный папками с чужими трагедиями и ошибками. Запах пыльной бумаги, слабого табака и остывшего чая. Это был его мир. Мир последствий.
Он достал из портфеля бумаги из Глухово. Протокол осмотра, объяснения Киселёва и Громова. Перечитал их снова. Теперь их ложь казалась не просто неуклюжей, а вызывающей. «Плановый технический перерыв». Они лгали, глядя ему в глаза, потому что знали – или надеялись – что правда похоронена под двадцатью минутами идеальной тишины. Они не учли одного: у тишины тоже есть эхо.
Он сидел так долго, что сумерки за окном сменились густой, чернильной темнотой. Он думал о Кольцове. Шестьдесят два года, фронтовик. Что мог знать или увидеть простой сторож, чтобы потребовалось такое сложное, высокотехнологичное заметание следов? И кому он пытался передать этот сигнал? В пустоту? Или у него был адресат?
Мысли текли вязко, цепляясь одна за другую. Он снова и снова прокручивал в голове стук из наушников. Ритм въелся в память. Тук-тук-тук. Тууук-тууук-тууук. Классический сигнал бедствия. Но что было дальше? Цифры? Координаты? Шифр? Это был язык, которого он не знал.
На столе зазвонил телефон. Резкий, дребезжащий звук вырвал его из оцепенения. Он поднял тяжелую эбонитовую трубку.
– Нестеров.
– Павел Андреевич, это дежурный. Вам телеграмма пришла. Срочная, правительственная. Из областной прокуратуры.
Чувство, похожее на прикосновение мокрого металла к затылку.
– Зачитайте.