Дело №9. Двадцать минут тишины
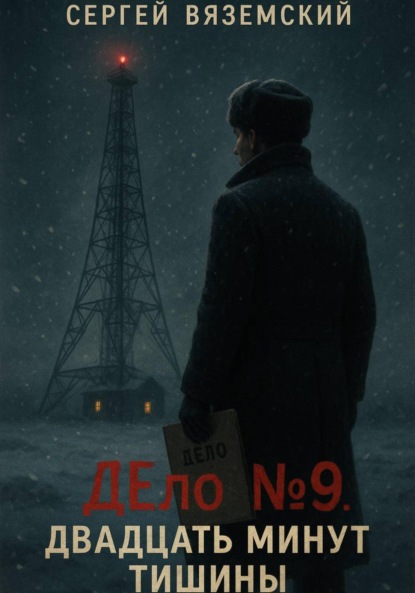
- -
- 100%
- +
Голос на том конце провода прокашлялся и начал монотонно бубнить: «Следователю Нестерову Пэ А точка Касательно материалов проверки по факту смерти гражданина Кольцова Ивана Петровича в поселке Глухово зпт Учитывая заключение судмедэкспертизы о смерти в результате поражения электрическим током зпт а также отсутствие признаков насильственной смерти и состава преступления зпт дальнейшее производство по делу прекратить тчк Материалы сдать в архив тчк Смерть считать наступившей в результате технического сбоя на производстве тчк Исполнение проконтролировать тчк Подпись Прокурор области государственный советник юстиции третьего класса Морозов тчк».
Дежурный замолчал. В трубке повисло напряженное молчание, нарушаемое лишь тихим треском на линии.
– Поняли, Павел Андреевич?
– Понял, – ровно ответил Нестеров. – Положите на стол. Я зайду.
Он опустил трубку на рычаг. В кабинете стало совсем тихо. Теперь и здесь поселилась та самая тишина. Приказная, окончательная, не терпящая возражений.
Они не стали ждать, пока он докопается до чего-нибудь сам. Они сработали на опережение. Кто-то в Глухово, испугавшись его приезда, его вопросов, его взгляда, сделал звонок наверх. И машина заработала. Большая, безличная, государственная машина, для которой смерть маленького человека – лишь досадная статистическая погрешность, которую нужно правильно оформить и убрать с глаз долой.
«Разберись там. Тихо, без шума. Несчастный случай, и точка». Голос его начальника теперь звучал пророчески. Ему с самого начала указали на нужный ответ. А он, дурак, упрямо пытался решить задачу, вместо того чтобы просто вписать его в конец страницы.
Ленинград. Память услужливо подбросила образ серого, промозглого дня, такого же кабинета и таких же слов на бумаге. «Дело прекратить в связи с отсутствием достаточных улик». Тогда он тоже наткнулся на невидимую стену. Он нашел воров, но ему не дали дойти до тех, кто стоял за ними. Его вежливо, но твердо остановили. И он подчинился. Струсил. Сломался. Этот компромисс стоил ему не только карьеры, но и чего-то гораздо более важного внутри. Он до сих пор чувствовал во рту горький привкус того поражения.
Теперь история повторялась. Снова невидимая стена. Снова приказ заткнуться и забыть.
Но было одно отличие. Тогда, в Ленинграде, у него были только догадки и косвенные улики. А сейчас у него в руках была лента. И на этой ленте был записан шепот мертвеца. Этот шепот был доказательством. Доказательством лжи, доказательством преступления, доказательством того, что кто-то очень могущественный чего-то очень сильно боится.
Нестеров встал и включил настольную лампу. Зеленый абажур бросил на заваленный бумагами стол круг теплого света, оставив остальную часть кабинета в еще более глубокой тени. Он взял чистый лист бумаги и ручку.
Наверху листа он написал: «Дело №9».
А ниже: «План следственных действий».
Пункт первый: «Получить в лаборатории очищенную запись сигнала».
Пункт второй: «Установить личность специалиста по криптографии для расшифровки сигнала».
Пункт третий: «Повторный выезд в Глухово».
Он смотрел на этот список. Три коротких строчки. Три шага в пустоту. Каждый из этих шагов был прямым нарушением приказа. Каждый мог стать последним в его карьере. А может, и не только в карьере. Люди, которые могли организовать такую зачистку и надавить на областного прокурора, не любили, когда им мешают.
Он достал из ящика стола пачку «Примы». Закурил. Дешевый, едкий дым наполнил легкие.
В прошлый раз он отступил. Позволил им победить. Позволил им похоронить правду под тоннами бюрократических отписок. Он жил с этим десять лет.
Он медленно выпустил струю дыма в сторону лампы. Дым заклубился в конусе света, живой, беспокойный.
На этот раз все будет иначе.
Потому что в этот раз мертвый не просто молчал.
Он шептал. И Нестеров был единственным, кто его слышал. Он не имел права сделать вид, что оглох.
Вырванная страница
Телефонный звонок из Москвы не понадобился. Служебная «Волга» ждала его на том же месте у гостиницы, черная и молчаливая, как катафалк, готовый везти его либо обратно в дело, либо прочь из него навсегда. Водитель, тот же мужик в ушанке, никак не прокомментировал его возвращение через сутки. Он просто кивнул, и машина, взревев остывшим двигателем, снова начала продавливать колею в серой московской слякоти, увозя Нестерова обратно в белое безмолвие Глухово.
Это молчание в машине было другим, не тем, что на пути сюда. Тогда оно было наполнено ожиданием, теперь – последствиями принятого решения. Нестеров смотрел в окно, на проплывающие мимо панельные коробки спальных районов, на редкие островки грязного, истоптанного снега, и думал о том, что телеграмма от Морозова сейчас лежит на столе у его начальника. Приказ, облеченный в сухие строки казенного языка, не обсуждается. Он исполняется. А он, следователь Нестеров, сейчас ехал в противоположную сторону от исполнения. Каждый километр, отделявший его от Петровки, был нарушением субординации. Каждый оборот колеса наматывал на ось его карьеры еще один виток неповиновения. Он представил, как его личное дело, пухлую серую папку, перекладывают из ящика «Действующие» в ящик «На рассмотрение». Следующая остановка – архив. Или хуже.
Лет десять назад, в Ленинграде, он остановился. Тогда стена тоже показалась ему непробиваемой. Он уперся в нее, почувствовал холод и твердость чужой воли, и отступил. Он убедил себя, что это разумно, что так он сохранит возможность работать дальше, приносить пользу. Но это была ложь. Горькая микстура самообмана, которую он пил все эти годы. Он не сохранил, он проиграл. И тот шепот, который он сейчас слышал в своей голове – прерывистый стук из глубин мертвой ленты, – был эхом того, старого поражения. Мертвец из Глухово требовал от него расплатиться по ленинградскому счету.
Поселок встретил его той же сонной, застывшей белизной. Вышка все так же пронзала низкое небо. Ничего не изменилось, но Нестеров чувствовал себя иначе. Он был здесь уже не представителем системы, а чужаком, самозванцем. У него больше не было за спиной всесильной прокуратуры. Была только папка с протоколом, пачка «Примы» в кармане и упрямство, которое многие принимали за глупость.
Он не поехал ни в милицию, ни на станцию. Он попросил водителя остановиться у обшарпанной пятиэтажки, адрес которой нашел в личном деле Кольцова.
Квартира вдовы, Анны Ефимовны Кольцовой, находилась на третьем этаже. Дверь, обитая коричневым дерматином с ромбиками из шляпок обивочных гвоздей, открылась не сразу. Сначала щелкнул один замок, потом проскрежетал второй. На пороге стояла маленькая, сухая старушка в темном платке и застиранном ситцевом халате. Ее лицо, похожее на печеное яблоко, было спокойным и непроницаемым. Только глаза, выцветшие, почти прозрачные, смотрели с настороженным ожиданием. От нее пахло корвалолом и чем-то еще, неуловимо старым – запахом слежавшегося в сундуках белья, ушедшего времени.
– Анна Ефимовна? – Нестеров не стал доставать удостоверение. Сейчас оно было фальшивкой. – Следователь Нестеров. Из Москвы. Я занимался делом вашего мужа, Ивана Петровича.
Она молча посторонилась, пропуская его в тесную прихожую. Воздух здесь был спертый, неподвижный. Из обстановки – вешалка с единственным женским пальто, старая тумбочка для обуви, на которой стоял дисковый телефон. Сквозь приоткрытую дверь в комнату виднелся край полированной «стенки» и угол ковра с оленями на стене. Обязательные атрибуты скромного советского благополучия.
– Проходите в кухню, – сказала она тихим, ровным голосом, в котором не слышалось ни слез, ни удивления. – У меня не прибрано.
Кухня была крошечной, шесть квадратных метров казенного уюта. Клеенка на столе с потрескавшимся рисунком ромашек. Алюминиевые кастрюли на плите. В углу – обледеневший по краям холодильник «Саратов», гудевший, как шмель в банке. Она поставила на огонь эмалированный чайник и села напротив Нестерова на табуретку, сложив на коленях узловатые, рабочие руки. Она не спрашивала, зачем он пришел. Она ждала.
– Мне сказали, дело закрыли, – произнесла она первая, глядя не на него, а куда-то в сторону, на мутное от зимней хмари окно. – Несчастный случай. От работы.
– Официально – да, – подтвердил Нестеров, carefully choosing his words. Он чувствовал себя здесь не следователем, а мародером, пришедшим копаться в чужом горе. – Но у меня остались вопросы. Я хотел бы понять, что произошло. Для себя.
Она перевела на него взгляд. В ее прозрачных глазах не было доверия, только бесконечная усталость.
– Что ж тут понимать, – вздохнула она. – Человеку шестьдесят два года. Войну прошел. Сердце изношенное. Сказали, током ударило. Значит, так тому и быть. Судьба.
Она говорила заученными, чужими фразами. Теми, что ей, вероятно, повторили уже несколько раз – участковый, начальник станции, соседи. Правильные слова, чтобы упаковать трагедию в аккуратную коробку и убрать на полку. Нестерову нужно было то, что в эту коробку не помещалось.
– Анна Ефимовна, скажите, ваш муж в последнее время… он не вел себя как-то необычно? Может, был встревожен, беспокоился о чем-то?
Она поджала губы. Сеточка морщин вокруг рта стала глубже.
– Он всегда был спокойный. Непьющий, работящий. Всю жизнь на одном месте. Чего ему беспокоиться?
– Люди меняются, – мягко сказал Нестеров. – Иногда что-то видят или слышат. Что-то, что их пугает. Он ничего не рассказывал о работе? О станции?
Чайник на плите зашипел, готовясь закипеть. Этот звук наполнил маленькую кухню тревожным ожиданием. Вдова смотрела на свои руки. Ее пальцы медленно перебирали край передника.
– Он мало говорил о работе, – наконец произнесла она. – Не любил. Говорил, служба есть служба, не женского ума дело. Он у меня связистом был, на фронте. Привык к порядку. Сказано – молчать, значит, молчать.
– Но в последние недели? Может, перед самой смертью? Вспомните. Любая мелочь может быть важна.
Она подняла голову. Ее взгляд стал отсутствующим, обращенным внутрь, в недавнее прошлое.
– Странный он стал, это да, – проговорила она почти шепотом, словно боясь, что ее подслушают. – Последний месяц, может. Молчаливый сделался, а то и вовсе не в себе. Сидит вечером, в газету смотрит, а я вижу – не читает. Думает о чем-то. Я спрошу: «Вань, что с тобой?», а он только отмахнется. «Старость, – говорит, – Ефимовна, не радость». А я ж его пятьдесят лет знаю. Это не старость была. Это страх.
Она замолчала, прислушиваясь к свисту чайника. Нестеров не торопил ее. Он ждал. Главное было не спугнуть это хрупкое, выплывающее из глубин памяти воспоминание.
– Он спать плохо стал, – продолжила она, сняв чайник с огня. – Проснется среди ночи, сядет на кровати и слушает. Будто ждет чего. А чего ждать в нашей-то тишине? А раз… – она запнулась, ее пальцы снова сжались на переднике. – Раз сказал, чудно как-то. Про гостей.
– Каких гостей? – Нестеров подался вперед, стараясь не выдать своего напряжения.
– Я и не поняла толком. Он пришел со смены, утром. Неделю, может, назад. Уставший, серый весь. Я ему завтрак грею, а он говорит, ни к селу ни к городу: «Опять у нас по ночам гости шастают». Я спрашиваю: «Какие гости, Вань? Проверка, что ли?». А он усмехнулся так… горько. «Ночные, – говорит, – гости. Непрошеные». И больше ни слова. Закрылся, как ракушка. Я уж и так, и эдак – молчит. Только посмотрел на меня и сказал: «Ты, Ефимовна, помалкивай. Меньше знаешь – крепче спишь». Вот и все его гости.
«Ночные гости». Слова были простые, бытовые, но от них веяло холодом. Это не были друзья-старики, зашедшие на огонек. И не плановая проверка. Это было что-то другое. Что-то, что заставило старого фронтовика, привыкшего к порядку и молчанию, бояться.
– А он не говорил, когда именно он видел этих… гостей? В какой день?
– Нет, не говорил. Я и не спрашивала больше. Видела же, не надо. Он после того разговора еще хуже стал. Все на дверь поглядывал. Словно ждал, что и к нам заявятся.
Она налила в две граненые чашки кипяток, бросила туда по щепотке чего-то, похожего на сушеную траву. В воздухе запахло мятой и тоской.
Нестеров пил горячий, безвкусный напиток и смотрел на эту маленькую, ссохшуюся от горя женщину. Она рассказала ему больше, чем все Прошины и Киселёвы вместе взятые. Она дала ему то, чего у него не было – ощущение живого, настоящего страха. Кольцов боялся. И его убили не скачок напряжения и не слабое сердце. Его убил этот страх. Или те, кто его вызывал.
Он ушел, оставив вдову наедине с ее тихой кухней и гудящим холодильником. На лестничной клетке он остановился, достал пачку «Примы». Дым наполнил легкие горечью. «Ночные гости». Кто они? И почему их визиты совпали с появлением таинственного сигнала на ленте? И почему о них так слаженно молчат все на станции? Ответы были там, за кирпичными стенами технического здания у подножия ажурного скелета. И он поехал туда.
Второй визит Нестерова на станцию произвел эффект камня, брошенного в сонное болото. Его «Волга», остановившаяся у проходной, вызвала переполох. Сначала выбежал сонный охранник, потом, через несколько минут, в дверях технического здания появился сам начальник станции, Киселёв. На этот раз он был без дубленки, в сером рабочем пиджаке поверх рубашки. Выражение озабоченной важности на его лице сменилось плохо скрытой тревогой и раздражением.
– Товарищ следователь? – он подошел к Нестерову, стараясь, чтобы его голос звучал уверенно, но получалось не очень. – Какими судьбами? Я думал, все вопросы уже решены. Нам из области звонили, сказали, дело закрыто.
– Вопросы решены, но не все, – ровно ответил Нестеров, глядя Киселёву прямо в глаза. Он видел, как зрачки начальника станции на мгновение сузились. – Мне нужны журналы дежурств. За последние два месяца.
– Журналы? – Киселёв изобразил удивление. – Зачем это? Экспертиза же подтвердила – несчастный случай. Короткое замыкание.
– Это для отчета, Степан Игнатьевич, – солгал Нестеров. – Бюрократия. Нужно приложить копии, подтвердить, что Кольцов был на смене, что все было штатно. Сами знаете, бумагам счет любят.
Эта версия, апеллирующая к понятной любому советскому начальнику бессмысленной логике документооборота, показалась Киселёву более приемлемой. Он немного расслабился.
– А, ну раз для отчета… – он махнул рукой. – Вечно эти бумажки. Пройдемте. Архив у нас тут, в каптерке.
«Архив» оказался тесной каморкой без окон, заставленной металлическими стеллажами. Пахло пылью и мышами. В тусклом свете единственной лампочки под потолком были видны толстые, потрепанные гроссбухи, перевязанные шпагатом. Киселёв с деланой бодростью указал на один из стеллажей.
– Вот они, родимые. За этот год. Ищите, что вам нужно.
Он остался стоять в дверях, скрестив руки на груди. Он не уходил. Он наблюдал. Это было ошибкой с его стороны. Он выдавал свое напряжение. Если бы ему действительно было все равно, он бы ушел по своим важным начальственным делам, оставив следователя копаться в пыльных бумагах. Но он стоял и смотрел, как Нестеров снимает со стеллажа тяжелый, перетянутый тесьмой том с надписью «Журнал приема-сдачи дежурств. 1978 г.».
Нестеров положил журнал на единственный в каморке шаткий стол и развязал тесьму. Страницы были из плотной, пожелтевшей бумаги, разлинованные в графы: «Дата», «Время», «Сдал», «Принял», «Состояние оборудования», «Замечания», «Подпись». Он начал листать с конца, от свежих записей к старым. Вот последняя смена Кольцова. Сухая запись, сделанная рукой Громова: «Сдал. Аппаратура в норме. Замечаний нет». Подпись Громова. И размашистая, уверенная подпись Кольцова. А потом пустота.
Он листал дальше, день за днем. Монотонная летопись бессонных ночей и штатной работы оборудования. Редкие пометки о мелких сбоях, о замене ламп. Ничего необычного. Он перевернул еще одну страницу и замер.
Место, где должна была быть запись за 13 января, было на месте. Аккуратная запись о приеме смены Кольцовым. И запись о сдаче смены тем, кто дежурил до него. Но страница перед ней, лист, на котором должны были находиться записи за 12 января, была вырвана. Не вырезана аккуратно, а именно вырвана, грубо, с силой. У самого корешка осталась бахрома из клочков бумаги.
Сердце Нестерова не пропустило удар и не ушло в пятки. Оно, наоборот, начало биться ровно, мощно, как хорошо отлаженный механизм. Холодное, ясное чувство пришло на смену усталости и сомнениям. Это было оно. То самое место, где ложь становилась материальной, где ее можно было потрогать руками. Они ждали, что он будет искать подвох в ночь смерти, 14 января. Они подчистили все там. Но они просчитались. Дыра была в другом месте.
Он медленно, почти с наслаждением, провел пальцем по рваному краю.
– Степан Игнатьевич, – позвал он, не оборачиваясь. Голос его прозвучал в тесной каморке оглушительно громко. – Подойдите-ка сюда.
Киселёв вошел, стараясь сохранять невозмутимый вид. Но его глаза уже метнулись к раскрытому журналу, и на лице проступила бледность, нездоровая, серая, как цвет стен в этой каморке.
– Что такое?
– А вот это, – Нестеров ткнул пальцем в рваный корешок. – Страницы не хватает. За двенадцатое января. Куда она делась?
Киселёв посмотрел на журнал так, будто видел его впервые в жизни. Он даже наклонился, сощурился, изображая крайнюю степень удивления. Фальшь была настолько очевидной, что казалась оскорбительной.
– Надо же… – протянул он. – Двенадцатое, говорите? Странно.
– Мне тоже так кажется, – в голосе Нестерова появился металл. – В режимном журнале стратегического объекта не бывает «странно». Бывает либо порядок, либо должностное преступление. Так куда делась страница?
Киселёв откашлялся, переводя взгляд с журнала на Нестерова и обратно. Он судорожно искал объяснение. Его мозг, привыкший к мелкой лжи и изворотливости, сейчас работал с отчаянным скрипом, пытаясь соорудить очередную хлипкую стену.
– А, вспомнил! – его лицо озарилось вымученной догадкой. – Точно! Это Кольцов сам и вырвал. Да-да. Он мне еще говорил. Он чай пролил на журнал, прямо на свежую запись. Ну, испугался, старик, что нагоняй получит. Вот и выдрал лист, чтобы начальство не увидело. Хотел, наверное, потом переписать начисто, да и забыл. Возраст, сами понимаете. Память уже не та.
Ложь была нелепой, детской. Пролить чай. На плотную, картонную страницу гроссбуха. Пролить так, что ее пришлось вырывать с корнем, а не просто просушить. И сделать это так, чтобы соседние страницы остались девственно чистыми, без единого потека.
Нестеров молчал. Он просто смотрел на Киселёва. Долго, не мигая. Он давал этой лжи повиснуть в пыльном воздухе, давал ей протухнуть и начать смердеть прямо здесь, между ними. Он видел, как под его взглядом у начальника станции начинает дергаться щека, как на лбу выступает мелкая испарина. Киселёв не выдержал первым.
– Ну а что вы хотите, товарищ следователь? Дело прошлое. Старик умер, с него не спросишь. Страницу не вернешь. Может, не будем из-за этого… поднимать шум? Дело-то закрыто.
«Дело закрыто». Эта фраза была их щитом, их заклинанием. Они повторяли ее, надеясь, что она отгонит его, как нечистую силу.
– Шум я поднимать не буду, – тихо сказал Нестеров. Он аккуратно закрыл журнал. – Я его забираю.
– Постойте, не положено! – взвился Киселёв. – Это документ строгой отчетности! Вы не имеете права!
– Я имею право на все, что поможет мне составить полный и объективный отчет, – отрезал Нестеров, поднимая тяжелый том. – А этот документ, Степан Игнатьевич, в вашем отчете явно лишний. Мешает.
Он прошел мимо окаменевшего начальника станции и вышел из душной каморки на морозный воздух. Снег все шел, засыпая Глухово, заметая следы, укрывая все белым саваном забвения. Но под этим снегом, под слоем лжи и страха, что-то произошло. Двенадцатого января. За два дня до смерти Кольцова. Что-то настолько важное, что запись об этом пришлось не просто стереть, а вырвать из самой плоти истории.
Нестеров стоял у машины, держа в руках тяжелый журнал. Теперь у него было две зацепки. Призрачный шепот на магнитной ленте от четырнадцатого числа. И зияющая дыра в журнале от двенадцатого. Они казались не связанными. Но он чувствовал, он знал – это были два конца одной нити. И где-то посередине, в этой двухдневной пропасти, пряталась смерть старого связиста и причина страха, который до сих пор висел над этим заснеженным поселком, густой и холодный, как январский туман. Дело не было закрыто. Оно даже не начиналось. Оно только сейчас прорастало сквозь мерзлую землю лжи, как первый, упрямый и ядовитый подснежник.
Тени в библиотеке
Снег прекратился внезапно, словно кто-то наверху перекрыл невидимый кран. Серое, низкое небо немного посветлело, стало водянистым, похожим на цвет застиранного белья. Мороз, однако, не ослаб. Он висел в неподвижном воздухе, проникал под воротник пальто, пощипывал кончики ушей. Глухово застыло в этой белой анестезии, и единственным звуком был скрип валенок Нестерова по уплотненному снегу тротуара. В руке под мышкой он нес тяжелый, обернутый в газету журнал дежурств. Книга учета времени, ставшая книгой его отсутствия.
Он не пошел в гостиницу. И не пошел в отделение милиции, где его, скорее всего, уже ждали – либо с вопросами, либо с новым приказом из Москвы, еще более категоричным, чем предыдущий. Он шел по центральной улице поселка, если можно было назвать улицей эту череду одинаковых пятиэтажек, разделенных голыми скверами с заснеженными скамейками. Он искал место, где хранится другая история. Не та, что заносится в журналы строгой отчетности, а та, что оседает в слухах, перешептываниях, в памяти, которая долговечнее бумаги. В таком месте, как Глухово, такая память должна была иметь свой архив. И Нестеров знал, где его искать.
Библиотека располагалась на первом этаже жилого дома, за дверью с облупившейся коричневой краской и небольшой, почти стершейся от времени эмалевой табличкой. Он потянул тугую, обмотанную изолентой ручку. Над дверью тускло звякнул колокольчик – звук из другого, довоенного мира. Внутри пахло старой бумагой, сургучным клеем и чем-то еще, неуловимо кислым – запахом пыли, копившейся десятилетиями. Тишина здесь была не мертвой, как на пленке, а живой, дышащей. Она состояла из шороха переворачиваемых страниц, едва слышного скрипа стула, покашливания в дальнем углу. Это была тишина сосредоточенности.
Помещение было вытянутым, узким, как пенал. Вдоль одной стены тянулись высокие, до самого потолка, стеллажи с рядами одинаково серых и коричневых корешков. Вдоль другой – несколько столов, покрытых зеленым казенным сукном. За столами сидели трое: седой старик в очках, склонившийся над подшивкой «Правды», и две школьницы, что-то старательно выписывающие в тетради. У дальней стены, за массивной конторкой, похожей на кафедру, сидела женщина.
Нестеров не сразу ее разглядел. Она была частью этого полумрака, этого мира пыльных томов и тихого шелеста. На ней было темное шерстяное платье с белым воротничком, волосы убраны в строгий узел на затылке. Она читала, подперев щеку тонкой рукой, и свет от настольной лампы с зеленым абажуром падал на страницу книги и ее пальцы, делая их почти прозрачными. Она не подняла головы, когда он вошел, словно звук колокольчика был для нее таким же фоном, как гудение батарей центрального отопления.
Он подошел к конторке. На табличке каллиграфическим почерком было выведено: «Карелина Зинаида Петровна». Он подождал. Она дочитала страницу до конца, аккуратно заложила ее тонкой бумажной полоской и только тогда подняла глаза. Глаза оказались неожиданно светлыми на бледном, уставшем лице. Серые, может, чуть с зеленью, очень внимательные и печальные. В них не было ни любопытства, ни испуга, только спокойный, изучающий интерес. Ей было чуть за тридцать, но выглядела она старше, как часто выглядят люди, проводящие слишком много времени в тишине и в компании чужих мыслей.
– Здравствуйте, – сказал Нестеров так тихо, как только мог, чтобы не нарушить хрупкое равновесие этого места. – Я хотел бы посмотреть подшивки местных газет. За последние лет десять-пятнадцать. Если они у вас есть.
Она молча кивнула, встала. Двигалась она плавно, бесшумно. В ее фигуре была какая-то преждевременная усадка, смирение человека, давно понявшего свое место. Она провела его в небольшой закуток за стеллажами, где пахло еще гуще, и указала на нижнюю полку, заставленную толстыми картонными папками.
– «Глуховский вестник». Здесь все, с шестьдесят пятого года. Что именно вас интересует? Может, я смогу помочь.

