Дело дома на Английской набережной
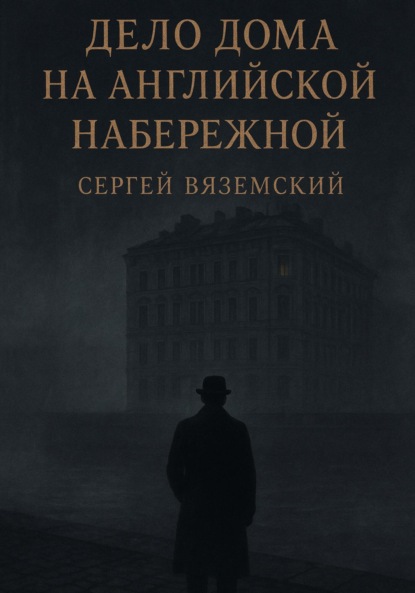
- -
- 100%
- +
На пороге стоял Николай Артемьев, смотритель дома. Он был без своего обычного сюртука, в одной жилетке, волосы в беспорядке, а на его обычно непроницаемом лице застыла смесь страха и растерянности. Он тяжело дышал, словно бежал всю дорогу от самой набережной.
Господин Воронцов… Арсений Петрович… – выдохнул он, хватаясь за косяк двери. – Беда у нас. Снова беда.
Что случилось, Артемьев? Говорите толком.
Барятинская… Елизавета Федоровна… мертвая. Горничная ее утром нашла. В спальне. Лежит, как спит, а сама холодная…
Сердце Воронцова пропустило удар, а затем забилось ровно и холодно. Вот оно. Продолжение. Убийца не стал ждать. Он действовал быстро, убирая тех, кто мог что-то знать или просто мешал.
Полицию вызвали?
Горничная побежала в околоток. А я – сразу к вам. Вы велели… девица Анна Николаевна просила… Я подумал, вам нужно быть там до пристава. Чтобы… увидеть все как есть.
Вы правильно подумали, Николай, – сказал Воронцов, уже застегивая воротник рубашки. Его усталость как рукой сняло. На смену ей пришло ледяное, хищное возбуждение охотника. – Возвращайтесь в дом. Никого не пускайте в квартиру Барятинской. Никого, слышите? Скажите, что ждете полицию. Анне Николаевне пока ничего не говорите. Я скоро буду.
Через двадцать минут, промчавшись половину пути на лихаче, Воронцов уже входил в парадное дома номер семнадцать. Утро было таким же промозглым, как и вчера, но теперь холод, казалось, исходил не только от Невы, но и от самого камня стен этого дома. В вестибюле царила необычная для этого часа суета. Перепуганные слуги сбились в кучку у дверей черного хода и испуганно перешептывались. На лице Артемьева, стоявшего на посту у лестницы, снова была маска бесстрастия, но в его глазах плескалась тревога.
Они наверху? – коротко спросил Воронцов, снимая пальто.
Да, Арсений Петрович. Горничная Аглая там, плачет. Я никого не пускал.
Воронцов быстро поднялся по лестнице на второй этаж. Он отметил про себя, что мраморные ступени, где еще вчера утром лежал граф, были безупречно чистыми, но само место, казалось, хранило невидимый отпечаток трагедии. Дверь в квартиру Барятинской была приоткрыта. Изнутри доносились сдавленные рыдания.
Воронцов вошел. Его сразу окутал знакомый по вчерашнему визиту душный, спертый воздух, пахнущий лавандой, нафталином и старостью. Но теперь к этому запаху примешивался еще один, едва уловимый, но отчетливый – горьковатый, аптечный. В гостиной, заставленной мебелью, на диване сидела молоденькая девушка в форменном платье и чепце и, сотрясаясь от плача, вытирала глаза передником. Это, очевидно, была горничная Аглая.
Где ваша хозяйка? – мягко, но властно спросил Воронцов.
Девушка вздрогнула и подняла на него заплаканные глаза.
Там… в спальне… Ох, батюшки, горе-то какое… Я ей утром кофий принесла, как всегда, стучу, а она не отвечает… Я вошла, а она…
Воронцов, не слушая дальше, прошел в спальню. Комната была такой же перегруженной вещами, как и вся квартира. Огромная кровать с пуховой периной под балдахином, трюмо с бесчисленными флаконами и коробочками, иконы в тяжелых окладах в углу. На кровати, аккуратно укрытая одеялом, лежала Елизавета Федоровна Барятинская. Она лежала на спине, слегка повернув голову набок. Чепец ее немного съехал, открывая редкие седые волосы. Лицо было спокойным, почти умиротворенным, если не считать синеватого оттенка губ и кожи вокруг них. Казалось, она просто спит очень крепким сном.
Воронцов окинул комнату быстрым, цепким взглядом. Окно закрыто. Дверь, судя по всему, не была заперта изнутри. На прикроватном столике стоял поднос с недопитым стаканом воды, лежали молитвенник и очки в роговой оправе. И рядом с ними – маленький пузырек из темного стекла с притертой пробкой и наклеенной аптечной этикеткой. «Сердечные капли. Принимать по 15 капель на рюмку воды при болях в сердце».
Воронцов подошел ближе, но не стал ничего трогать. Он наклонился над телом, но не для того, чтобы изучать покойницу, а чтобы принюхаться. От ее чуть приоткрытых губ исходил тот же слабый, горьковатый запах, который он уловил при входе. Он был похож на запах валерианы, но с какой-то посторонней, едкой ноткой. Нотой, напомнившей ему о чем-то из его старой практики.
Он выпрямился и внимательно осмотрел прикроватный столик. Пузырек. Стакан с водой. Маленькая серебряная ложечка на блюдце. Все выглядело абсолютно буднично. Старая женщина, страдавшая сердцем, приняла на ночь слишком большую дозу лекарства или ее сердце просто не выдержало. Идеальная картина для пристава Клюева. Еще один несчастный случай.
Но Воронцов не был приставом Клюевым. Его взгляд методично сканировал каждую деталь. И он заметил то, что не заметила бы полиция. Во-первых, пыль. На полированной поверхности столика лежал тонкий, ровный слой пыли, какой бывает в комнатах, где редко проветривают и много вещей. Пыль была нарушена в нескольких местах: там, где стоял поднос, там, где лежали книга и очки. Но вокруг пузырька с каплями пыль была стерта. Не полностью, а словно его взяли, а потом поставили обратно, но не совсем точно на то же место. Остался чистый полумесяц, едва заметный в косом утреннем свете. Значит, пузырек брали.
Во-вторых, пробка. Она была притертой, стеклянной. Такие пробки сидят в горлышке очень плотно. Чтобы ее открыть, особенно пожилой женщине, нужно приложить усилие. Но на самой пробке и на горлышке пузырька не было никаких следов капель. Если бы Барятинская сама себе отмеряла лекарство дрожащими руками, скорее всего, одна-две капли обязательно бы пролились. Здесь же все было идеально чисто.
В-третьих, запах. Он был не тот. Воронцов знал запах обычных сердечных капель – смесь валерианы, камфоры и еще чего-то мятного. Этот же запах имел оттенок горького миндаля. Очень слабый, почти исчезнувший, но он был. Цианид? Нет, слишком грубо. Скорее, что-то на его основе. Какая-нибудь синильная кислота в малой, но достаточной для больного сердца дозе.
Убийца действовал хладнокровно и расчетливо. Он либо пришел ночью, когда все спали, и влил яд в стакан с водой, либо, что более вероятно, заранее подменил содержимое пузырька. Вдова, почувствовав ночью недомогание, сама приняла свою смерть, запив ее водой. Просто, чисто и эффективно.
В этот момент внизу послышался шум, громкие голоса. Прибыла полиция. Воронцов вышел из спальни и столкнулся в гостиной с Анной Карамзиной. Ее привел Артемьев. Она была бледна, ее глаза расширены от ужаса, но в них уже не было вчерашней растерянности. Увидев Воронцова, она подошла к нему.
Это он, да? – прошептала она. – Это его рук дело?
Воронцов молча кивнул.
Будьте здесь, Анна Николаевна. И ничего не говорите. Просто наблюдайте.
В квартиру ввалился пристав Клюев в сопровождении околоточного и врача – того же самого, сонного и пахнущего карболкой, что был и вчера. Увидев Воронцова, Клюев побагровел.
А вы что здесь делаете, господин отставной? – прорычал он. – Опять суете свой нос не в свои дела?
Я представляю интересы наследницы графа Орловского, господин пристав, – спокойно ответил Воронцов. – А поскольку покойная была соседкой графа и потенциальным свидетелем по делу о его… кончине, мой интерес здесь вполне законен.
Клюев фыркнул, но спорить не стал. Он прошел в спальню, брезгливо оглядел тело, ткнул пальцем в пузырек с каплями.
Ну, что тут у нас, доктор?
Врач принялся за свою рутинную работу. Пощупал пульс, приподнял веко, понюхал воздух.
Похоже на острую сердечную недостаточность, господин пристав. Возможно, усугубленную передозировкой седативных капель. Старушка, видать, хватила лишку с перепугу после вчерашних событий. Обычное дело.
Вот и я так думаю, – удовлетворенно кивнул Клюев. – Все ясно, как божий день. Старуха перенервничала и отравилась собственным лекарством. Несчастный случай. Пишите протокол.
Арсений Петрович, вы не хотите им сказать? – тихо спросила Анна, стоявшая рядом с ним. Ее голос дрожал от гнева.
Пока нет, – так же тихо ответил Воронцов. – Пусть они сделают свою работу. Чем больше ошибок они совершат, тем проще будет нам.
Пока околоточный скрипел пером, опрашивая рыдающую горничную, Воронцов отозвал Артемьева в угол.
Николай, кто-то приходил к Барятинской вчера вечером или ночью? Вы видели кого-нибудь чужого на этаже?
Нет, господин Воронцов. После вашего ухода все было тихо. Я делал свой обычный обход в одиннадцать, все двери были заперты, свет нигде не горел. Ни звука.
А из жильцов кто-нибудь выходил или входил? Хвостов? Бестужев?
Никого не видел. Но вы же знаете, Арсений Петрович, я не могу быть везде одновременно. Черный ход… опять же. Хотя он всегда заперт на ночь.
Хорошо. Спасибо, Николай.
Клюев, закончив дела, уже собирался уходить.
Тело увозите в покойницкую, – распорядился он. – Квартиру опечатать до вступления в права наследников. И дело закрыть. Два несчастных случая за два дня. Дом какой-то проклятый.
Господин пристав, – вмешался Воронцов. Его голос был спокоен, но в нем звучала сталь. – Не кажется ли вам странным, что в «проклятом доме» несчастные случаи происходят с людьми, которые так или иначе были связаны старыми счетами, как говорила сама покойная?
Это вы на что намекаете, Воронцов?
Я лишь предлагаю проявить толику любопытства. Например, отправить этот пузырек с каплями на химический анализ.
Зачем? – искренне удивился Клюев. – Чтобы потратить казенные деньги и время? У меня убийство императора не раскрыто, а я буду с вашими пузырьками возиться!
Как знаете, – пожал плечами Воронцов. – Но я бы на вашем месте также поинтересовался, кто является наследником госпожи Барятинской. У нее ведь, кажется, были дальние родственники, с которыми она была не в ладах. Скупые люди часто оставляют после себя большие состояния и недовольных наследников.
Клюев на мгновение задумался. Эта мысль, более приземленная и понятная ему, ему понравилась.
Это мысль, – проворчал он. – Околоточный, выяснить насчет родни и завещания. Но дело все равно – несчастный случай. До свидания, господа.
Когда полиция отбыла, оставив после себя лишь тяжелый дух и ощущение пустоты, в квартире воцарилась тишина, нарушаемая лишь тиканьем настенных часов. Анна обвела взглядом душную, захламленную комнату, где еще несколько часов назад жила сварливая, неприятная, но живая женщина.
Она что-то знала, – сказала Анна. – Она знала или видела что-то вчера, и за это ее убили.
Именно так, – подтвердил Воронцов. – Вчерашний наш визит подписал ей смертный приговор. Убийца понял, что она может стать источником информации. Он не мог рисковать. Он действует на опережение.
И что теперь? – в ее голосе звучало отчаяние. – Полиция снова ничего не увидела. Они закроют дело.
А мы его откроем. Теперь у нас есть нечто большее, чем догадки. У нас есть серия. Убийство графа было замаскировано под падение. Убийство вдовы – под передозировку лекарства. Наш противник умен, хладнокровен и, что самое важное, он один из тех, кто живет в этом доме или имеет сюда свободный доступ. Он знает привычки своих жертв, их болезни, их распорядок дня. Он тень, которая скользит по этим коридорам.
В этот момент с улицы, с набережной, донесся глухой стук колес по брусчатке и фырканье лошадей. Воронцов подошел к окну и выглянул наружу. Анна встала рядом с ним. Внизу, у парадного входа, остановилась карета. Она была черной, с глухими стенками и черными плюмажами на углах крыши. Лошади тоже были черные, в траурной сбруе. Из кареты вышли двое мужчин в черных ливреях, молчаливые и деловитые. Это была похоронная карета, прибывшая за телом Елизаветы Федоровны.
Черная карета у парадной, – тихо произнес Воронцов, скорее для себя. – Второй раз за два дня. Это уже не случайность. Это становится традицией.
Вид этого мрачного экипажа произвел гнетущее впечатление. Он был зримым воплощением того зла, что поселилось в доме. Паника, о которой говорил Воронцов, начала обретать реальные черты. На лестничной площадке послышались шаги и приглушенные голоса. Жильцы, привлеченные шумом, а теперь и видом похоронной кареты, выходили из своих квартир. Воронцов увидел бледное, одутловатое лицо ростовщика Хвостова, который с ужасом смотрел на людей из похоронного бюро. Его губы дрожали, он что-то бормотал себе под нос и торопливо крестился. Он понял. Он понял, что смерть ходит по этажам. И он боялся, что следующая остановка будет у его двери.
Затем на площадку вышел молодой человек, которого Воронцов еще не видел. Высокий, довольно красивый, но с изможденным лицом, темными кругами под глазами и дрожащими руками. На нем был дорогой, но помятый сюртук. Он нетвердо стоял на ногах.
Что здесь за шум? – спросил он хриплым, с похмелья, голосом. – Кого опять хоронят?
Это был Дмитрий Бестужев. Поручик наконец-то нашелся. Его взгляд был мутным и испуганным.
Барятинскую, – коротко ответил Хвостов, не глядя на него. – Преставилась.
Как… преставилась? – Бестужев побледнел еще сильнее. – Но… вчера же она…
Он не договорил, пошатнулся и схватился за перила.
Все, Анна Николаевна, – сказал Воронцов, отходя от окна. – Представление окончено. Паника началась. А когда люди паникуют, они совершают ошибки. Наша задача – ждать и смотреть. И действовать. Пойдемте в кабинет вашего дядюшки. Бумаги не могут ждать. Ответы там. В прошлом.
Они вышли из квартиры покойной вдовы, оставив за спиной запах смерти и лаванды. В парадном холле гулкое эхо разносило приглушенные команды людей из похоронного бюро и испуганный шепот слуг. Дом на Английской набережной перестал быть цитаделью респектабельности. Он превратился в ловушку, в закрытый театр, где невидимый убийца одного за другим убирал со сцены персонажей своей кровавой пьесы. И Воронцов понимал, что времени у него очень мало. Нужно было найти его прежде, чем черная карета приедет сюда в третий раз.
Завещание без подписи
Воздух в кабинете покойного графа Орловского был недвижим и плотен, словно застывшее время. Он хранил в себе запахи, которые пережили своего хозяина: терпкий аромат дорогого табака, тонкую ноту выделанной кожи старых кресел и едва уловимый, почти призрачный дух сургуча и старой бумаги. Арсений Петрович Воронцов стоял посреди комнаты, медленно оглядываясь. Он был похож на натуралиста, попавшего в запечатанную гробницу, где каждый предмет, каждая пылинка могли рассказать свою историю. Анна Карамзина стояла у двери, прислонившись к косяку. Ее руки были холодны, а в душе боролись два чувства: благоговейный трепет перед последним пристанищем дядюшки и жгучее, нетерпеливое желание сорвать покровы с тайны, стоившей ему жизни. После суеты и ужаса последних двух дней, после прихода и ухода полиции, после глухого стука гробовых дел мастеров, уносивших тело Елизаветы Федоровны, эта тишина казалась оглушающей. Дом на Английской набережной затаился. Он больше не был цитаделью респектабельности; он стал сценой, где невидимый режиссер расставлял фигуры для последнего, смертельного акта своей кровавой пьесы. Паника, которую Воронцов предсказывал, уже начала просачиваться сквозь толстые стены и дубовые двери. Он видел ее в бледном лице ростовщика Хвостова, в дрожащих руках поручика Бестужева. Страх был лучшим союзником сыщика, ибо он заставлял людей совершать ошибки. И лучшим врагом, ибо он же заставлял их молчать. Воронцов перевел взгляд на Анну. Ее лицо в полумраке кабинета казалось вылепленным из воска, только глаза горели темным, решительным огнем. Она выдержала его долгий, изучающий взгляд, не отводя своего. В ней не было слабости, только горе и гнев, переплавленные в стальную волю. Он был доволен своим выбором помощницы. Ее наблюдательность и знание дома были бесценны. Но, что важнее, она была его камертоном, его связью с этим миром застарелых обид и темных секретов, которые он, как человек со стороны, мог лишь анализировать, но не чувствовать. Итак, начнем, Анна Николаевна. Сказал он наконец, и его голос прозвучал приглушенно, поглощенный тяжелыми бархатными портьерами. Нам нужно найти то, из-за чего ваш дядюшка ссорился с Барятинской. То, о чем он говорил с таинственным ночным гостем. Старые бумаги. Документы, связанные с деньгами. Вы знаете, где он мог хранить самые важные для него вещи? Анна обвела комнату взглядом, который был уже не взглядом скорбящей племянницы, а взглядом исследователя. Кабинет был отражением своего хозяина. Строгий, почти аскетичный, но с предметами истинной роскоши, понятной лишь ценителю. Огромный письменный стол из карельской березы, заваленный не столько бумагами, сколько картами военных кампаний и книгами по фортификации. Стены, затянутые темно-зеленым штофом, были увешаны старинным оружием: турецкими ятаганами, кавказскими кинжалами, парой дуэльных пистолетов в бархатной коробке. Никаких сентиментальных портретов, никаких пасторальных пейзажей. Лишь один большой портрет Государя Императора Александра Николаевича и несколько гравированных видов Севастополя времен осады. Дядюшка не был сентиментальным человеком. Он был солдатом. Все важное он держал либо в голове, либо под замком. У него был сейф. Вот там. Она указала на неприметную, обитую той же тканью, что и стены, дверцу рядом с массивным книжным шкафом. Я никогда не видела, чтобы он его открывал. Ключ он всегда носил с собой. Воронцов подошел к сейфу. Это было старое, добротное изделие английской работы, с массивной латунной ручкой и сложным замком. Ключ, разумеется, был среди вещей, которые полиция забрала у покойного. Но Воронцов и не собирался его взламывать. Это было бы слишком просто. И, скорее всего, безрезультатно. Если граф чего-то опасался, он не стал бы хранить самые компрометирующие бумаги в самом очевидном месте. Он оглянулся на стол. Порядок на нем был военный. Все лежало на своих местах. Стопка свежих газет. Бронзовый пресс-папье в виде пушечного ядра. Тяжелая чернильница. Но взгляд Воронцова зацепился за книги. Не те, что стояли в шкафах – фолианты по военной истории и стратегии, – а те, что лежали на краю стола. Несколько томов стихов Лермонтова, записки генерала Ермолова и толстый, в потертом кожаном переплете том «Военного сборника» за 1855 год. Он взял его в руки. Книга была тяжелой, пахла пылью. Он пролистал страницы. Статьи об артиллерии, о тактике ведения траншейной войны, о госпиталях и лазаретах. Ничего примечательного. Но когда он уже собирался положить книгу на место, из нее выпал небольшой, сложенный вчетверо листок пожелтевшей бумаги. Это был небрежный черновик, исписанный выцветшими чернилами и знакомым, угловатым почерком графа. Воронцов развернул его. На листке был список фамилий. Орловский. Барятинский. Хвостов. Бестужев. Артемьев. Последняя фамилия была жирно зачеркнута несколько раз, так яростно, что перо прорвало бумагу. Рядом с каждой фамилией стояли цифры, похожие на доли или паи. И внизу была приписка, сделанная, очевидно, совсем недавно, другими чернилами, более темными и жирными: «Крымский долг. Коммерческое товарищество по поставкам для армии. Основано в 1856 году. Все документы у нотариуса Полонского. Контора на Малой Морской». Вот оно. Голос Воронцова был тихим, но в нем звучало торжество охотника, напавшего на след. Это то, что их всех связывает. Не просто соседство. Нечто гораздо более старое и прочное. Коммерческое товарищество. Основанное их отцами или дедами сразу после войны. Анна подошла ближе и заглянула в листок через его плечо. Артемьев? Как… наш смотритель? Воронцов задумчиво потер подбородок. Совпадение? Возможно. Фамилия не самая редкая. Но то, как яростно она зачеркнута… Это похоже на попытку вычеркнуть кого-то не только из списка, но и из истории. Что это было за товарищество, дядюшка никогда не говорил? Анна отрицательно покачала головой. Я знала, что наши семьи знакомы давно. Еще со времен деда. Но о делах он никогда не распространялся. Говорил, не женское это дело. Он жил прошлым, своими воспоминаниями о войне. Все, что было после, казалось ему мелким и недостойным. Но это «дело» его явно беспокоило. Воронцов снова посмотрел на список. Четыре фамилии из пяти принадлежали жильцам этого дома. Наследникам. А пятая, зачеркнутая, принадлежала человеку, чья роль в этой драме была пока неясна. Но он был здесь, в самом центре паутины, тихий и незаметный смотритель. Воронцов аккуратно сложил листок и убрал его во внутренний карман сюртука. Не будем терять времени. Нам нужно к нотариусу Полонскому. Если документы еще там, они расскажут нам, что за кровавые деньги, о которых проговорился Бестужев, легли в основу благосостояния обитателей этого дома. Поездка на Малую Морскую в нанятом у биржи лихаче была короткой, но дала Воронцову время собраться с мыслями. Картина прояснялась. Некая группа офицеров, вернувшись с Крымской войны, основала коммерческое предприятие. Весьма вероятно, что стартовый капитал их был, мягко говоря, сомнительного происхождения. Военные поставки – золотое дно для людей без совести. Продажа некачественного провианта, списанного обмундирования, разбавленного пороха… За такое во время войны расстреливали, но после нее, в общей суматохе, концы легко можно было спрятать в воду. И вот, спустя почти тридцать лет, это старое, грязное дело всплыло на поверхность. Кто-то решил восстановить справедливость или, что более вероятно, получить свою долю. И начал убирать наследников одного за другим. Но зачем? Чтобы завладеть всем состоянием товарищества? Тогда убийца должен быть одним из наследников. Например, вечно нуждающийся в деньгах Бестужев. Или даже тихий, незаметный Хвостов. А может, все дело в пятом, вычеркнутом участнике? Может, это месть его потомков? Месть за то, что их предка обманули и выкинули из дела? Эта версия нравилась Воронцову больше. Она объясняла методичность и жестокость убийцы. Это было не просто преступление ради наживы. Это был ритуал. Возмездие. Контора нотариуса Ираклия Саввича Полонского располагалась на втором этаже массивного доходного дома, выходившего окнами на Адмиралтейство. Их встретила тесная, заставленная шкафами с папками приемная, где пахло пылью, мышами и печным чадом. За конторкой сидел молодой писец с бледным лицом и красными от напряжения глазами. Сам нотариус, сухонький, седой старик в старомодном сюртуке и с золотым пенсне на кончике острого носа, принял их в своем кабинете. Он был похож на древний манускрипт, такой же сухой, пожелтевший и полный старых законов и параграфов. Воронцов, представившись поверенным девицы Карамзиной, единственной наследницы графа Орловского, изложил суть своего визита, стараясь говорить как можно более расплывчато, но настойчиво. Речь шла о старом коммерческом товариществе, основанном отцом покойного графа и несколькими его сослуживцами. Нотариус Полонский слушал, слегка склонив голову набок, и его тонкие губы были плотно сжаты. Его кабинет был крепостью, а вверенные ему тайны – гарнизоном, который он был обязан защищать. Полонский? Нет, нет, молодой человек. Этой конторой занимался еще мой покойный батюшка, Савва Ираклиевич. Я же принял дела лишь двадцать лет назад. Но архив, разумеется, веду скрупулезно. Коммерческое товарищество, говорите… 1856 года… Он встал, подошел к огромному, почерневшему от времени карточному шкафу и принялся перебирать ящички, бормоча себе под нос фамилии. Орловский… Барятинский… Да, да, припоминаю. Было такое дело. Весьма солидное предприятие. «Крымское снабженческое товарищество». Вложения в недвижимость, биржевые операции… Отцы-основатели были людьми весьма предусмотрительными. Устав был составлен хитро. Все паи и доходы передавались по наследству по прямой мужской линии, а в случае ее отсутствия – ближайшим кровным родственникам. Продать свою долю можно было лишь с согласия всех остальных пайщиков. Это делало их состояние практически неотчуждаемым. Он вытащил из ящичка запыленную картонную папку, сдул с нее пыль веков и водрузил на стол. Развязав тесемки, он заглянул внутрь. Его лицо вдруг изменилось. Оно выразило сначала недоумение, а потом и явную тревогу. Странно… Весьма странно… пробормотал он, перебирая тонкими, как у птицы, пальцами содержимое папки. Что такое, господин Полонский? – спросил Воронцов, чувствуя, как напряжение в комнате нарастает. Папка… она почти пуста. Здесь только копии некоторых поздних сделок и протоколы собраний пайщиков за последние десять лет. А самого главного – учредительного договора, устава, списка первоначальных взносов – здесь нет. Как нет? Их кто-то забрал? Нотариус растерянно посмотрел на Воронцова поверх пенсне. В том-то и дело, что никто не мог их забрать без моего ведома. Все выдачи документов фиксируются в специальном журнале. Я сейчас проверю. Он поспешил в приемную и вернулся через несколько минут с толстым гроссбухом в руках. Его руки слегка дрожали. Он долго водил пальцем по строчкам, потом остановился и поднял на Воронцова испуганные глаза. Вот. Последняя запись, касающаяся этого дела. Два месяца назад. Поверенный от имени графа Орловского, господина Хвостова и госпожи Барятинской затребовал учредительные документы для ознакомления. Я лично выдал ему папку. Он пробыл здесь около часа, в моем кабинете, а затем вернул ее. Я, признаться, не проверил содержимое. Я доверял поверенному, он много лет вел их общие дела… Поверенный? Как его имя? – голос Воронцова стал жестким. Захар Петрович Сытин. Весьма почтенный господин. Его контора здесь, неподалеку, на Гороховой. Но… он скончался. Внезапно. Около месяца назад. Апоплексический удар. В кабинете повисла тишина, тяжелая и зловещая. Воронцов и Анна переглянулись. Картина складывалась в единое, чудовищное целое. Убийца готовился давно. Он действовал methodicalчно и безжалостно. За два месяца до первого убийства он, воспользовавшись общим поверенным, получил доступ к документам и похитил их. Возможно, сам поверенный что-то заподозрил или стал невольным соучастником, и его убрали, замаскировав смерть под естественную. Затем, уничтожив бумажный след, убийца начал устранять наследников. Это означало, что у него был мотив, куда более весомый, чем просто деньги. Он уничтожал саму память о прошлом. Благодарю вас, господин Полонский. Вы нам очень помогли. Воронцов поднялся. Вы не могли бы… не сообщать никому о нашем визите? По крайней мере, пока. Дело весьма деликатное, и… опасное. Нотариус, бледный и взволнованный, торопливо закивал. Можете не сомневаться. Могила. Честь конторы… Когда они вышли на улицу, на Петербург уже опускались холодные мартовские сумерки. Влажный ветер с Невы пробирал до костей. Город казался враждебным и полным теней. Они шли молча. Анна была подавлена. Тайна, которую она так хотела раскрыть, оказалась еще более грязной и кровавой, чем она могла себе представить. Это не просто убийство из-за наследства. Это эхо старой войны, старого предательства, которое спустя тридцать лет пришло собирать свою жатву. Наш противник не просто убийца, Анна Николаевна. Он стратег. Он продумал все на несколько ходов вперед. Он уничтожил архивы, убрал свидетеля-поверенного, а теперь методично истребляет цели. Он считает себя не преступником, а орудием возмездия. И такие люди – самые опасные. Они не остановятся. Никогда. Они дойдут до конца. До последнего имени в списке. А что же нам делать? – голос ее был тихим и полным отчаяния. – Если документов нет, как мы узнаем правду? Что именно они совершили тогда, в Крыму? Документы – это всего лишь бумага. Они горят, их крадут. Но есть память. Есть вещи. Есть тайники. Ваш дядюшка не зря изучал старый военный журнал. Он что-то искал. Что-то вспоминал. И убийца знает, что он мог что-то найти или вспомнить. Поэтому он так спешил. Нам нужно вернуться в кабинет. Нам нужно искать не документы, а то, что может заменить их. Зашифрованную запись. Спрятанное письмо. Любую нить, которая приведет нас к правде. Они подошли к дому на Английской набережной. В окнах уже зажигался свет. Дом жил своей обычной вечерней жизнью, но теперь эта жизнь казалась Анне хрупкой и призрачной. За каждым из этих освещенных окон мог скрываться тот, кто днем здоровался с ней на лестнице, а ночью выходил на свою безжалостную охоту. Имя этому невидимому завещанию, оставленному их предками, было смерть. И оно не требовало подписи, чтобы вступить в силу. Оно приводилось в исполнение ударом ножа, дозой яда или толчком в спину на темной лестнице. И Воронцов понимал, что времени, чтобы остановить исполнителя этой страшной воли, у него почти не осталось. Следующей могла стать любая из еще живых фигур на этой шахматной доске. И он не мог позволить убийце объявить шах и мат.

