Дело дома на Английской набережной
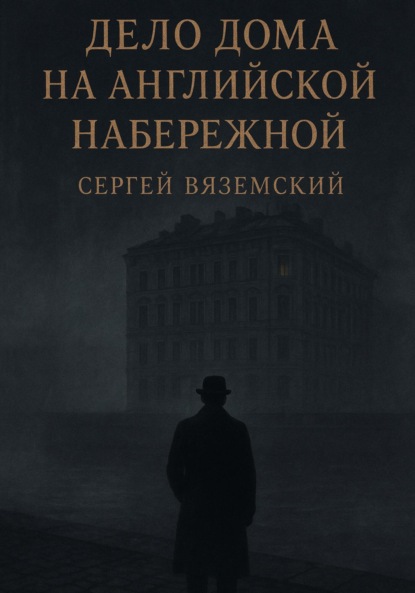
- -
- 100%
- +
Следы на бархате
Воздух в кабинете покойного графа Орловского был недвижим и плотен, словно застывшее время. Он хранил в себе запахи, которые пережили своего хозяина: терпкий аромат дорогого табака, тонкую ноту выделанной кожи старых кресел и едва уловимый, почти призрачный дух сургуча и старой бумаги. Арсений Петрович Воронцов стоял посреди комнаты, медленно оглядываясь. Он был похож на натуралиста, попавшего в запечатанную гробницу, где каждый предмет, каждая пылинка могли рассказать свою историю. Анна Карамзина стояла у двери, прислонившись к косяку. Ее руки были холодны, а в душе боролись два чувства: благоговейный трепет перед последним пристанищем дядюшки и жгучее, нетерпеливое желание сорвать покровы с тайны, стоившей ему жизни. После суеты и ужаса последних двух дней, после прихода и ухода полиции, после глухого стука гробовых дел мастеров, уносивших тело Елизаветы Федоровны, эта тишина казалась оглушающей. Дом на Английской набережной затаился. Он больше не был цитаделью респектабельности; он стал сценой, где невидимый режиссер расставлял фигуры для последнего, смертельного акта своей кровавой пьесы. Паника, которую Воронцов предсказывал, уже начала просачиваться сквозь толстые стены и дубовые двери. Он видел ее в бледном лице ростовщика Хвостова, в дрожащих руках поручика Бестужева. Страх был лучшим союзником сыщика, ибо он заставлял людей совершать ошибки. И лучшим врагом, ибо он же заставлял их молчать. Воронцов перевел взгляд на Анну. Ее лицо в полумраке кабинета казалось вылепленным из воска, только глаза горели темным, решительным огнем. Она выдержала его долгий, изучающий взгляд, не отводя своего. В ней не было слабости, только горе и гнев, переплавленные в стальную волю. Он был доволен своим выбором помощницы. Ее наблюдательность и знание дома были бесценны. Но, что важнее, она была его камертоном, его связью с этим миром застарелых обид и темных секретов, которые он, как человек со стороны, мог лишь анализировать, но не чувствовать. Итак, начнем, Анна Николаевна. Сказал он наконец, и его голос прозвучал приглушенно, поглощенный тяжелыми бархатными портьерами. Нам нужно найти то, из-за чего ваш дядюшка ссорился с Барятинской. То, о чем он говорил с таинственным ночным гостем. Старые бумаги. Документы, связанные с деньгами. Вы знаете, где он мог хранить самые важные для него вещи? Анна обвела комнату взглядом, который был уже не взглядом скорбящей племянницы, а взглядом исследователя. Кабинет был отражением своего хозяина. Строгий, почти аскетичный, но с предметами истинной роскоши, понятной лишь ценителю. Огромный письменный стол из карельской березы, заваленный не столько бумагами, сколько картами военных кампаний и книгами по фортификации. Стены, затянутые темно-зеленым штофом, были увешаны старинным оружием: турецкими ятаганами, кавказскими кинжалами, парой дуэльных пистолетов в бархатной коробке. Никаких сентиментальных портретов, никаких пасторальных пейзажей. Лишь один большой портрет Государя Императора Александра Николаевича и несколько гравированных видов Севастополя времен осады. Дядюшка не был сентиментальным человеком. Он был солдатом. Все важное он держал либо в голове, либо под замком. У него был сейф. Вот там. Она указала на неприметную, обитую той же тканью, что и стены, дверцу рядом с массивным книжным шкафом. Я никогда не видела, чтобы он его открывал. Ключ он всегда носил с собой. Воронцов подошел к сейфу. Это было старое, добротное изделие английской работы, с массивной латунной ручкой и сложным замком. Ключ, разумеется, был среди вещей, которые полиция забрала у покойного. Но Воронцов и не собирался его взламывать. Это было бы слишком просто. И, скорее всего, безрезультатно. Если граф чего-то опасался, он не стал бы хранить самые компрометирующие бумаги в самом очевидном месте. Он оглянулся на стол. Порядок на нем был военный. Все лежало на своих местах. Стопка свежих газет. Бронзовый пресс-папье в виде пушечного ядра. Тяжелая чернильница. Но взгляд Воронцова зацепился за книги. Не те, что стояли в шкафах – фолианты по военной истории и стратегии, – а те, что лежали на краю стола. Несколько томов стихов Лермонтова, записки генерала Ермолова и толстый, в потертом кожаном переплете том «Военного сборника» за 1855 год. Он взял его в руки. Книга была тяжелой, пахла пылью. Он пролистал страницы. Статьи об артиллерии, о тактике ведения траншейной войны, о госпиталях и лазаретах. Ничего примечательного. Но когда он уже собирался положить книгу на место, из нее выпал небольшой, сложенный вчетверо листок пожелтевшей бумаги. Это был небрежный черновик, исписанный выцветшими чернилами и знакомым, угловатым почерком графа. Воронцов развернул его. На листке был список фамилий. Орловский. Барятинский. Хвостов. Бестужев. Артемьев. Последняя фамилия была жирно зачеркнута несколько раз, так яростно, что перо прорвало бумагу. Рядом с каждой фамилией стояли цифры, похожие на доли или паи. И внизу была приписка, сделанная, очевидно, совсем недавно, другими чернилами, более темными и жирными: «Крымский долг. Коммерческое товарищество по поставкам для армии. Основано в 1856 году. Все документы у нотариуса Полонского. Контора на Малой Морской». Вот оно. Голос Воронцова был тихим, но в нем звучало торжество охотника, напавшего на след. Это то, что их всех связывает. Не просто соседство. Нечто гораздо более старое и прочное. Коммерческое товарищество. Основанное их отцами или дедами сразу после войны. Анна подошла ближе и заглянула в листок через его плечо. Артемьев? Как… наш смотритель? Воронцов задумчиво потер подбородок. Совпадение? Возможно. Фамилия не самая редкая. Но то, как яростно она зачеркнута… Это похоже на попытку вычеркнуть кого-то не только из списка, но и из истории. Что это было за товарищество, дядюшка никогда не говорил? Анна отрицательно покачала головой. Я знала, что наши семьи знакомы давно. Еще со времен деда. Но о делах он никогда не распространялся. Говорил, не женское это дело. Он жил прошлым, своими воспоминаниями о войне. Все, что было после, казалось ему мелким и недостойным. Но это «дело» его явно беспокоило. Воронцов снова посмотрел на список. Четыре фамилии из пяти принадлежали жильцам этого дома. Наследникам. А пятая, зачеркнутая, принадлежала человеку, чья роль в этой драме была пока неясна. Но он был здесь, в самом центре паутины, тихий и незаметный смотритель. Воронцов аккуратно сложил листок и убрал его во внутренний карман сюртука. Не будем терять времени. Нам нужно к нотариусу Полонскому. Если документы еще там, они расскажут нам, что за кровавые деньги, о которых проговорился Бестужев, легли в основу благосостояния обитателей этого дома. Однако прежде, чем отправиться к поверенному в делах давно минувших дней, Воронцов хотел убедиться, что они не упустили ничего здесь, в этом последнем приюте графа. Улики, оставленные на месте преступления, говорят куда больше, чем любые бумаги, особенно бумаги, которые таинственным образом исчезают. Он вновь обратил свой взор на кабинет, но теперь смотрел на него иначе. Не как на жилище, а как на поле битвы, где старый солдат дал свой последний бой. Он начал методичный, скрупулезный осмотр, которому его научили годы службы в сыскной полиции. Он двигался медленно, почти не дыша, его пальцы едва касались поверхностей, словно он боялся спугнуть невидимые следы прошлого. Он начал с письменного стола, этого алтаря, на котором граф приносил жертвы своему прошлому и своим привычкам. Он не просто открывал ящики, он изучал их содержимое с вниманием энтомолога. Верхний правый ящик: стопка гербовой бумаги, идеально ровная, несколько заточенных перьев, чернильница с засохшими на ободке чернилами, сургуч и личная печать с гербом Орловских. Все на своем месте. Ничего лишнего. Мир порядка и дисциплины. Верхний левый ящик: финансовые документы. Книги счетов, расписки от ростовщика Хвостова на небольшие суммы, банковские билеты. Все аккуратно перевязано тесьмой. Граф, очевидно, был человеком педантичным, но его дела в последнее время шли не блестяще. Несколько неоплаченных счетов подтверждали слова вдовы Барятинской о его нервозности. Воронцов перебирал бумаги, ощущая сухую, пыльную фактуру времени. Он искал не то, что было на месте, а то, чего не хватало, – пустоту, нарушение привычного порядка. Нижние ящики хранили вещи более личные. Пачка писем от фронтовых товарищей, пожелтевших и хрупких. Воронцов пробежал глазами несколько строк. Бодрые, полные армейского юмора послания тридцатилетней давности, пахнущие порохом и надеждой. Затем тон менялся. Письма становились реже, в них появлялись нотки усталости, жалобы на раны и нищету. Последние письма были полны горечи и разочарования. Старые солдаты умирали, забытые и никому не нужные. Граф, казалось, был одним из немногих, кто удержался на плаву. Но какой ценой? Анна стояла у окна, глядя на свинцовые воды Невы. Она не мешала Воронцову, понимая, что сейчас он ведет свой безмолвный диалог с призраком ее дядюшки. Она вспоминала, как сидела в этом кабинете ребенком, на маленькой скамеечке у камина, пока граф работал за этим самым столом. Он казался ей тогда несокрушимым, как гранитные атланты, что держали на своих плечах эркер их дома. Его рука, державшая перо, была тверда, его голос, диктовавший письма, – громоподобен. Она никогда не видела его испуганным. До недавнего времени. Арсений Петрович, проговорила она, не оборачиваясь. Дядюшка никогда не хранил ничего важного в столе. Он говорил, что стол – это витрина, а не тайник. Все, что имело значение, он держал либо в сейфе, либо… при себе. Воронцов выпрямился, потирая поясницу. Его взгляд снова упал на массивный сейф. Ключ от него был у полиции, но он мог поспорить, что внутри они не найдут ничего, кроме ценных бумаг и драгоценностей покойной графини. Граф был слишком умен, чтобы прятать компрометирующие документы в железный ящик, первый объект внимания любого вора или следователя. Нет, он искал что-то другое. Тайник. Потайное отделение. Старый вояка, любитель фортификаций и военных хитростей, наверняка устроил бы в своем штабе нечто подобное. Но где? Взгляд Воронцова скользил по комнате: по книжным шкафам, по тяжелым портьерам, по панелям из мореного дуба. Все было слишком цельным, слишком монументальным. Любое вмешательство в эту монолитную конструкцию было бы заметно. Кроме одного места. Он снова подошел к письменному столу. На этот раз он не открывал ящики. Он изучал его как архитектурное сооружение. Стол был огромен, из темной, почти черной карельской березы, с инкрустациями из слоновой кости. Он был сделан на заказ, это было очевидно. Ни одна фабрика не выпускала таких гигантов. Он был скорее бастионом, чем предметом мебели. Воронцов провел рукой по гладкой, холодной поверхности. Затем опустился на колени и заглянул под него. Ничего. Он начал простукивать панели. Глухой, монотонный звук дерева. Он обошел стол кругом, его пальцы ощупывали каждый выступ, каждую щель. Анна подошла ближе, заинтригованная его действиями. Что вы ищете? Я ищу мысль вашего дядюшки, Анна Николаевна. Я пытаюсь понять, как думал человек, который пережил осаду Севастополя. Где бы он спрятал свой самый важный редут? Он не стал бы доверять его каменным стенам, которые могут рухнуть. Он не стал бы доверять его железному ящику, который можно взломать. Он спрятал бы его на виду. Там, где он мог бы видеть его каждый день, касаться его, чувствовать его присутствие. Он постучал по массивной резной ножке стола. Затем по другой. Звук был одинаковым. Он выпрямился и снова посмотрел на стол. На его идеально гладкой столешнице, помимо чернильного прибора, стоял лишь тяжелый бронзовый бюст Наполеона. Граф, как и многие военные того поколения, питал к французскому императору странное уважение, смешанное с ненавистью. Он сдвинул тяжелый бюст в сторону. Под ним была идеально гладкая поверхность, без единой царапины. Это бессмысленно, прошептала Анна. Я знаю этот стол всю жизнь. Это просто стол. Нет ничего, что было бы «просто столом», – возразил Воронцов, не отрывая взгляда от столешницы. – Все имеет свою историю и свои секреты. Особенно вещи, сделанные на заказ. Кто был мастером? Я не знаю… Дядюшка говорил, что какой-то артельщик из старообрядцев. Они славились своей работой по дереву. И своими секретами, – добавил Воронцов. Он снова наклонился, почти прижимаясь щекой к поверхности, и посмотрел на нее под углом, против света, падавшего из окна. И тогда он увидел это. Едва заметную, тоньше волоса, линию, обрамлявшую небольшой прямоугольник в центре столешницы. Она была так искусно подогнана, что заметить ее можно было лишь при очень специфическом освещении. Он провел по ней ногтем. Никакого зазора. Тогда как же? Он снова оглядел стол. Его взгляд остановился на замысловатой резьбе, украшавшей переднюю панель. Это был сложный орнамент из дубовых листьев и желудей. Воронцов начал внимательно изучать каждый завиток. Он не искал кнопку или рычаг. Это было бы слишком просто. Он искал аномалию, деталь, которая выбивалась из общего узора. И он нашел ее. Один из желудей в орнаменте был повернут под неестественным углом, его шляпка была чуть больше остальных. Он осторожно нажал на него. Ничего. Тогда он попробовал его повернуть. Желудь поддался, провернувшись с тихим, сухим щелчком. В тот же миг прямоугольник на столешнице слегка приподнялся, открывая темную щель. Анна ахнула. Воронцов тонким лезвием перочинного ножа поддел крышку тайника. Она открылась беззвучно, на искусно сделанных потайных петлях. Внутри, в углублении, обитом темно-красным, почти черным бархатом, лежала одна-единственная вещь. Небольшая записная книжка в переплете из потертой телячьей кожи, перетянутая выцветшей шелковой лентой. Воронцов осторожно извлек ее. Книжка была тонкой, но тяжелой, словно ее страницы были пропитаны не чернилами, а свинцом человеческих судеб. Воздух в комнате стал еще плотнее. Казалось, тиканье старинных часов в углу остановилось. Они стояли над открытым тайником, словно заглянули в рану, которую старый граф прятал десятилетиями. Анна смотрела на книжку с суеверным ужасом. Это оно? Это то, из-за чего его убили? Я думаю, это начало, – тихо ответил Воронцов, развязывая ленту. Его пальцы, привыкшие к работе с уликами, действовали уверенно, но он чувствовал легкую дрожь. Он открыл первую страницу. Бумага была плотной, желтоватой, с водяными знаками. Записи были сделаны мелким, убористым почерком графа, но это был не тот размашистый почерк, который Воронцов видел на письмах. Этот был сжат, словно каждая буква пыталась скрыть больше, чем показать. Большая часть записей представляла собой набор цифр и отдельных букв. Шифр. Довольно примитивный, вероятно, какой-то вариант армейского полевого шифра, но без ключа на его разгадку могли уйти недели. Воронцов медленно листал страницы. Колонки цифр, какие-то схемы, короткие заметки, состоявшие из одних согласных. Годы службы в сыске научили его терпению. Он знал, что самый сложный шифр может иметь слабое место, что самый осторожный конспиратор может допустить ошибку, продиктованную усталостью, спешкой или нахлынувшими чувствами. Он перевернул очередную страницу и замер. Посередине листа, выведенная твердой, гневной рукой, шла одна-единственная фраза, написанная без всякого шифра. Она была подчеркнута дважды, так сильно, что перо почти прорвало бумагу. Он прочел ее вслух, и его голос в мертвой тишине кабинета прозвучал как удар колокола: «Крымский долг не забыт. Расплата близка». Анна прижала руку ко рту. Эти несколько слов объясняли все и не объясняли ничего. Они были ключом, но к какой двери? Что за долг? И чья расплата? Долг, – повторил Воронцов, глядя на зловещие строки. – Не финансовый. Не тот, что можно вернуть деньгами. Это долг крови. Бестужев говорил о «кровавых деньгах». Теперь все сходится. Их товарищество было основано на чем-то страшном. На предательстве, которое стоило кому-то жизни. Многим жизням, судя по всему. И теперь кто-то пришел взыскать этот долг. Он осторожно закрыл книжку. Это наше первое настоящее доказательство, Анна Николаевна. Первая реальная зацепка. Полиция списала бы это на паранойю старого солдата. Но мы знаем, что это не так. Это завещание, которое оставил убийца на теле своей первой жертвы. Он посмотрел на Анну. Ее лицо было бледным, но в глазах горела решимость. Она больше не была просто скорбящей племянницей. Она стала участницей этой охоты. Нам нужно понять, что это за шифр. И нам нужно узнать все о пятом члене товарищества. Об Артемьеве, чье имя так яростно вымарано из списка. Но прежде всего, – он спрятал записную книжку во внутренний карман сюртука, – нам нужно быть предельно осторожными. Тот, кто это делает, не остановится. Он убирает наследников. И он будет убирать тех, кто пытается докопаться до правды. Теперь мы с вами тоже в его списке. Он не угрожал, он констатировал факт. Холодный, неоспоримый, как смерть, что уже дважды посетила этот дом. Они вышли из кабинета, плотно прикрыв за собой дверь. Но атмосфера тайны, страха и старой вины последовала за ними, вырвавшись из заточения бархатного тайника. Она заполнила собой коридоры, смешалась с запахом лаванды из квартиры Барятинской и запахом смерти, который, казалось, навсегда впитался в мрамор парадной лестницы. Расплата была близка. И черная карета уже стояла где-то на туманных улицах Петербурга, ожидая своего следующего пассажира. Воронцов это чувствовал. И он знал, что его задача – опередить ее.
Разговор в табачном дыму
Вечер сменился ночью, густой и влажной, окутавшей Санкт-Петербург своим сырым саваном. Арсений Петрович Воронцов, покинув дом на Английской набережной, не вернулся в свою квартиру на Гороховой. Вместо этого он погрузился в иное, ночное нутро города, в ту его жизнь, что начиналась, когда респектабельные обыватели запирали парадные и гасили свет в гостиных. Он искал поручика Дмитрия Александровича Бестужева. Поиски эти были делом методичным, почти ритуальным, и оттого вдвойне утомительным. Воронцов знал злачные места столицы лучше, чем иной светский лев знал бальные залы. Он начал с трактиров и рестораций более высокого пошиба, где офицерство и золотая молодежь еще пытались сохранить фасон, просаживая последние отцовские деньги под звуки цыганского хора и звон бокалов с шампанским. Он заглянул к «Донону», прошелся до «Палкина», обменялся кивками со знакомыми швейцарами, которые на его немой вопрос лишь отрицательно качали головой. Поручика Бестужева не видели.
По мере того как ночь становилась глуше, а кошелек Воронцова – легче на несколько серебряных рублей, оставленных в качестве платы за информацию, маршрут его пролегал все дальше от сияния Невского, в переулки, где газовые фонари горели тусклее, а тени казались гуще и враждебнее. Он спускался по социальной лестнице вслед за своим предполагаемым собеседником. Воздух становился плотнее, пахнущий уже не духами и дорогими сигарами, а дешевым пивом, кислой капустой, мокрой шерстью и застарелым человеческим несчастьем. Он посетил несколько бильярдных на Сенной, где в клубах едкого табачного дыма двигались неясные фигуры вокруг зеленых суконных полей, и где каждый удар кия звучал сухо и окончательно, как выстрел. Он зашел в пару трактиров на Лиговке, где разговоры велись вполголоса, а взгляды были тяжелыми и колючими. В этих заведениях фамилия Бестужева, потомка старинного рода, звучала диссонансом, но Воронцов знал, что отчаяние и долги способны завести человека в самые неподходящие компании. Но и здесь его ждала неудача. Поручик словно сквозь землю провалился.
Воронцов не испытывал досады. Он был охотником, а охота требовала терпения. Каждая закрытая дверь, каждый отрицательный ответ лишь сужали круг поисков. Бестужев был напуган. После смерти Барятинской паника, охватившая жильцов дома, должна была либо заставить его запереться в своей квартире, либо, что более вероятно для человека его склада, толкнуть в объятия забвения – к картам и вину. Он должен был искать место, где можно было бы на время оглушить страх, где азарт игры мог бы вытеснить из головы мысли о черной карете и таинственном убийце. А значит, он был в игорном доме. Не в аристократическом клубе, куда его с его репутацией и долгами уже вряд ли пустили бы, а в одном из тех полулегальных притонов, что, подобно грибам, росли в темных и сырых углах столичного организма.
Ближе к двум часам ночи, когда промозглый ветер с Финского залива, казалось, пробирал до самых костей, удача наконец улыбнулась ему. Низкорослый, юркий осведомитель, которого Воронцов некогда вытащил из неприятной истории с крадеными часами и с тех пор держал на коротком поводке, за несколько монет сообщил, что давеча видел господина поручика входящим в заведение отставного корнета Кобылина на Офицерской. Место было известное в узких кругах. Там не задавали лишних вопросов, принимали в заклад любые ценности и закрывали глаза на то, что игра порой шла не на жизнь, а на смерть.
Дом, в котором располагался игорный клуб Кобылина, ничем не выделялся в ряду своих обшарпанных собратьев. Темный фасад, слепые окна, тяжелая дубовая дверь без всякой вывески. Лишь подойдя вплотную, можно было заметить начищенную до блеска медную ручку и крохотный, едва заметный глазок. Воронцов постучал условным стуком – три раза быстро, пауза, и еще один. Дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы из щели на него уставился один недружелюбный глаз. Лицо Воронцова было знакомо привратнику, бывшему унтер-офицеру с перебитым носом. Он знал его еще по службе в сыскной, и этот визит не предвещал ничего хорошего. Однако Воронцов был не в мундире, а значит, пришел как частное лицо. Пробормотав что-то нечленораздельное, унтер-офицер нехотя впустил его внутрь.
Воздух внутри был таким густым, что его, казалось, можно было резать ножом. Это была тяжелая, удушливая смесь запахов табачного дыма, пролитого алкоголя, пота, дешевых духов и чего-то еще, неуловимого и кислого – запаха азарта и отчаяния. Из глубины дома доносился негромкий, но непрерывный гул: приглушенные голоса, шорох сдаваемых карт, сухой стук костей, тихий звон монет. Свет был скудным. Несколько газовых рожков под потолком, забранных в закопченные плафоны, и свечи в массивных бронзовых канделябрах на столах выхватывали из полумрака отдельные сцены, подобные картинам Караваджо. Бледные, напряженные лица игроков, сосредоточенно склонившихся над зеленым сукном; руки, нервно теребящие карты или сжимающие стопку ассигнаций; пустые глаза тех, кто уже все проиграл, и лихорадочный блеск в глазах тех, кому сегодня везло.
Воронцов медленно прошел по анфиладе комнат. Здесь царила своя, особая атмосфера напряженной тишины. Никто не кричал, не смеялся громко. Эмоции были загнаны внутрь, проявляясь лишь в сжатых челюстях, в бисеринках пота на лбу, в дрожащих пальцах, подносящих к губам папиросу или рюмку. В первой комнате играли в штосс. Банкомет, человек с бесстрастным лицом и мертвыми глазами, молча метал карты. Вокруг стола стояла плотная толпа. Воронцов окинул ее взглядом и пошел дальше. Во второй, меньшей по размеру и более дымной комнате, гремели кости. Здесь было немного шумнее, слышались сдавленные ругательства и короткие, нервные смешки. В углу за столиком сидели двое и сосредоточенно играли в шахматы на деньги, не замечая ничего вокруг.
Именно в третьей, последней комнате, за круглым столом, покрытым потертым бархатом, Воронцов нашел того, кого искал. Дмитрий Бестужев сидел спиной к входу, слегка ссутулившись. Даже со спины его фигура выражала отчаяние. Дорогой, но изрядно помятый сюртук был расстегнут, белоснежный когда-то воротничок сорочки потемнел и съехал набок. Перед ним на столе лежало несколько жалких ассигнаций и почти пустой стакан. Он играл в баккара с тремя другими мужчинами, среди которых Воронцов узнал известного в городе шулера и профессионального игрока. Было очевидно, что поручика обдирали как липку, методично и безжалостно.
Воронцов подошел к бару, устроенному в нише, и заказал стакан коньяку. Он не сводил глаз с Бестужева, изучая его. Поручик был бледен, под глазами залегли темные, почти фиолетовые круги. Его красивые, некогда надменные черты лица сейчас были искажены смесью пьяного упрямства и плохо скрываемого страха. Он то и дело озирался, вздрагивая от каждого резкого звука, словно ожидал увидеть за спиной судебного пристава или нечто похуже. Руки его слегка дрожали, когда он брал карты. Он проиграл очередную ставку. Шулер с сальной улыбкой сгреб его деньги. Бестужев с силой ударил кулаком по столу, но так, чтобы не произвести много шума. Он что-то зло прошипел, затем залпом осушил свой стакан и резким движением подозвал слугу, требуя еще выпивки.
Воронцов решил, что момент настал. Он подошел к столу и положил руку на плечо поручика.
– Дмитрий Александрович? Мне нужно поговорить с вами.
Бестужев вздрогнул так, словно его коснулась ледяная рука покойника. Он резко обернулся, и Воронцов увидел его глаза – расширенные от ужаса, с помутневшим от алкоголя и бессонной ночи взглядом. Сначала в них промелькнуло непонимание, затем – узнавание и еще больший страх.
– Вы… кто вы такой? Я вас не знаю, – пробормотал он, пытаясь сбросить руку Воронцова, но в его движениях не было силы.

