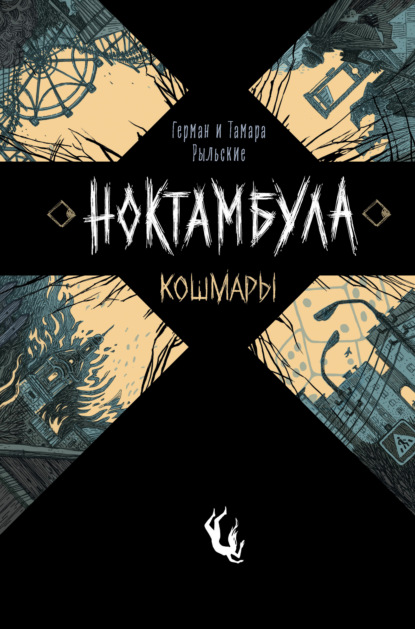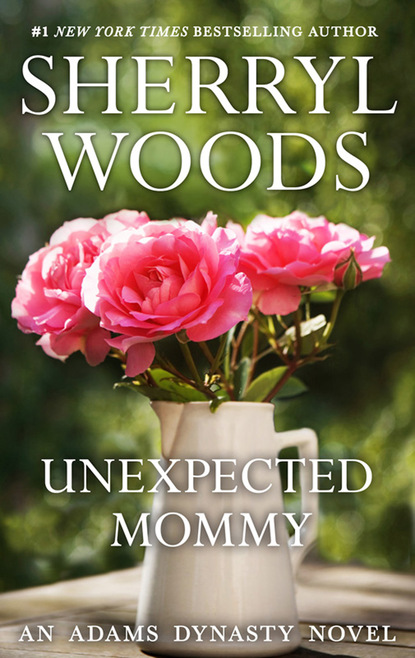Дело фон Беккера

- -
- 100%
- +
– То, что и должны, – ответил он, открывая глаза. Взгляд его был тяжелым, как свинец. – Найдем девушку. Найдем карту. И закончим то, что начал старый Шпиц. Только теперь это не просто расследование убийства, Клаус. Запомни это. С этой минуты – это война.
Цена любопытства
Кранц отделился от Клауса под холодным брюхом железнодорожного моста. Он не сказал «береги себя». Такие слова в их мире были дурной приметой, пустым звуком, который ветер тут же уносил и рвал в клочья. Он просто кивнул и сказал: «Иди домой. Запрись. Не высовывайся, пока я не позвоню». И Клаус, с разбитой губой и глазами, в которых все еще плескался ужас пережитой схватки, кивнул в ответ. Они разошлись в разные стороны, два силуэта, растворяющиеся в серой предрассветной дымке, и Кранц тогда не знал, что это был последний раз, когда он видел своего напарника живым.
Он не поехал к себе. Его квартира была последним местом, где он мог сейчас находиться. Она была слишком предсказуема, слишком уязвима. Он снял на несколько часов комнату в дешевом отеле у Анхальтского вокзала, заплатив мятыми купюрами человеку с лицом, которое, казалось, состояло из одних только грехов. Комната пахла сыростью, отчаянием и карболкой. Из окна открывался вид на глухую кирпичную стену. Идеальное место, чтобы исчезнуть.
В тусклом свете единственной лампочки под потолком он осмотрел себя в треснувшем зеркале над раковиной. Рассеченная скула припухла и приобрела нездоровый, багровый оттенок. Ребра, в которые пришелся удар, ныли тупой, упорной болью. Он стянул пиджак и рубашку. На боку расплывался синяк, похожий на уродливую карту неизвестного континента. Он плеснул в лицо ледяной водой, пытаясь смыть не столько кровь и грязь, сколько липкое ощущение чужого насилия. Вода не помогала.
Он сел на край скрипучей кровати и достал дневники Шпица. Тяжелые тетради в картонных обложках. Теперь они ощущались иначе. Раньше они были ключом к разгадке, теперь – причиной. Причиной, по которой Клаус сейчас, возможно, не может уснуть от боли и страха. Причиной, по которой неизвестные люди в кепи готовы ломать кости и проламывать черепа на темных улицах Берлина.
Он открыл первую тетрадь. Убористый, бисерный почерк старика покрывал страницы, не оставляя полей, словно Шпиц боялся, что ему не хватит бумаги, чтобы выплеснуть все, что он знал. Кранц читал. Он читал о Карле фон Беккере, молодом офицере-идеалисте, который в 1848 году отказался стрелять в толпу и был тайно казнен своими же товарищами. Он читал о создании «Прусского Наследия», тайного ордена, основанного на крови и лжи, чтобы похоронить эту правду. Он читал, как десятилетиями эта организация росла, пуская корни в армию, в политику, в промышленность, становясь теневым правительством, государством в государстве, хранителем «истинных» прусских ценностей. Ценностей, которые оправдывали любое преступление во имя порядка и нации.
Кранц читал, и холод, не имевший ничего общего с промозглой комнатой, медленно расползался по его венам. Он видел это раньше. На войне. Когда красивые слова о Родине и Долге превращались в приказы идти на пулеметы. Когда честь офицера становилась оправданием для расстрела дезертиров. «Прусское Наследие» было не просто группой заговорщиков-аристократов. Это был тот самый дух, тот самый неумолимый, безжалостный механизм, который перемолол его поколение в окопной грязи, а теперь собирался сделать то же самое со всей Германией. И старый книготорговец Герман Шпиц в одиночку объявил этому механизму войну.
Телефонный звонок, резкий и требовательный, ворвался в его мысли, как осколок снаряда. Он прозвенел не в комнате, а внизу, в убогом холле. Через минуту в дверь постучали.
– Герр Мюллер! – просипел голос портье. – Вас к телефону! Из полиции!
Кранц замер. Он назвался Мюллером. И никто из полиции не мог знать, что он здесь. Кроме одного человека. Сердце сделало тяжелый, глухой толчок, словно ударилось о решетку ребер. Он медленно встал, спрятал дневники под матрас и пошел вниз по шаткой лестнице.
Телефонная трубка была холодной и липкой.
– Кранц, – сказал он в мембрану.
– Инспектор, это унтер-вахмистр Келлер из патрульной службы. Вас просил найти комиссар Вебер. Срочно.
Голос был ровным, казенным. Но в нем было что-то… что-то не так. Та самая напускная бесстрастность, с которой сообщают о худшем.
– Что случилось, Келлер?
– Произошел инцидент, господин инспектор. С вашим напарником. Инспектором Рихтером.
Кранц молча стиснул трубку. Мир сузился до этого черного эбонитового круга и голоса в нем.
– Он жив?
Пауза на том конце провода длилась долю секунды, но для Кранца она растянулась в вечность, наполненную скрежетом металла и запахом пороха.
– Нет, господин инспектор. Мне очень жаль. Его нашли около часа назад. В его квартире.
– Я еду.
Дорога до Шенеберга, где жил Клаус, была похожа на путешествие по дну мутной реки. Город проплывал мимо окон такси, но Кранц не видел его. Он видел лицо Клауса под мостом, его разбитую губу и горящие решимостью глаза. «Иди домой. Запрись». Он сам отправил его на смерть. Он, опытный фронтовик, ветеран, послал новобранца в одиночку туда, где его уже ждал снайпер. Чувство вины было не острым, как нож, а тупым и тяжелым, как удар прикладом в затылок. Оно не резало, оно оглушало.
Дом Рихтера был типичной берлинской «доходной казармой» – унылый фасад, темный, гулкий подъезд, пропахший кислой капустой, дешевым мылом и безысходностью. На третьем этаже, у квартиры номер двенадцать, уже стоял патрульный. Он вытянулся при виде Кранца, но в его глазах было сочувствие. Кранц его проигнорировал. Он не нуждался в сочувствии. Сочувствие было для живых.
Он вошел в квартиру. И время остановилось.
Квартира Клауса была отражением его самого. Маленькая, всего две комнаты, но до педантичности чистая. На полках ровными рядами стояли книги – не пыльные фолианты, как у Шпица, а новые, современные работы по криминалистике, праву, психологии. На стене висела карта Берлина, истыканная флажками. На столе лежала недописанная шахматная партия. Это было жилище человека, который верил в порядок, в логику, в то, что мир можно понять и упорядочить. Мир, который только что ворвался сюда и растоптал его сапогами.
Клаус сидел в кресле у окна. Он был одет в домашний халат. Голова его была откинута на спинку, глаза закрыты, словно он просто задремал, любуясь серым берлинским утром. На виске темнела маленькая аккуратная дырочка, почти не оставившая крови. Правая рука безвольно свисала с подлокотника, пальцы почти касались лежащего на ковре служебного «Дрейзе». На столике рядом с креслом стоял стакан с остатками шнапса и лежал аккуратно сложенный лист бумаги. Предсмертная записка.
Картина была безупречной. Трагической. Классической. Молодой, идеалистичный полицейский, не выдержавший столкновения с грязью своей работы, сводит счеты с жизнью. Слишком безупречной.
Кранц медленно, шаг за шагом, вошел в комнату. Криминалисты уже были здесь, двигались тихо, как призраки. Фотограф щелкал затвором своей камеры. Кранц не обращал на них внимания. Он смотрел только на Клауса. Он подошел ближе, опустился на одно колено рядом с креслом. Он смотрел на руку, лежащую у пистолета. Он знал, что Клаус левша. Он всегда держал карандаш и сигарету в левой руке. А пистолет лежал у правой. Первая фальшивая нота в этой траурной мелодии.
Он поднял глаза на лицо. Оно было спокойным, почти безмятежным. Слишком спокойным. Кранц видел самоубийц. Их лица всегда несли на себе печать последнего, страшного решения, гримасу боли или отчаяния. На лице Клауса не было ничего. Просто пустота. Словно из него вынули не только жизнь, но и саму смерть.
– Записка, – глухо сказал Кранц, не оборачиваясь.
Один из криминалистов, молодой парень с испуганными глазами, протянул ему пинцетом листок в целлофановом пакете. Кранц взял его. Почерк был похож на почерк Клауса. Ровные, аккуратные буквы. «Я больше не могу. Этот город, эта грязь… она победила. Простите». Коротко. Емко. Безлично. Совсем не похоже на словоохотливого, эмоционального Рихтера. И снова фальшь. Клаус бы написал больше. Он бы попытался объяснить. Он бы написал родителям.
Кранц встал и медленно обошел кресло. Он посмотрел на затылок убитого. Волосы были слегка влажными, примятыми. Словно кто-то держал его голову, прижимая ее к спинке кресла. Он принюхался. В воздухе витал слабый, почти неуловимый запах. Не шнапс, не порох. Что-то сладковатое, миндальное. Хлороформ.
И тут он увидел это. На ковре, почти полностью скрытая тенью от кресла, лежала маленькая, серая пуговица. Обычная пуговица от дешевого пальто, какие носили рабочие или уличные боевики. Она не принадлежала ни одному предмету одежды в этой аккуратной квартире. Она была чужой. Как и вся эта сцена.
Кранц выпрямился. Боль в ребрах исчезла, вытесненная чем-то холодным и твердым, что росло у него внутри, заполняя все пустоты. Это была ярость. Не горячая, не слепая. А ледяная, кристаллическая ярость, острая, как скальпель хирурга. Они не просто убили его. Они надругались над ним. Они украли его смерть, подменив ее жалким спектаклем, чтобы унизить его, чтобы сделать его трусом в глазах тех, кто его знал. Чтобы передать ему, Кранцу, послание. «Мы можем достать любого. Мы можем сделать что угодно. И никто нам не помешает».
– Это убийство, – сказал он. Голос его прозвучал в тишине комнаты, как удар молотка по камню.
Начальник следственной группы, инспектор Майер, пожилой, уставший бюрократ, подошел к нему.
– Отто, я понимаю, что ты чувствуешь. Он был твоим напарником. Но все факты…
– К черту факты! – оборвал его Кранц, поворачиваясь. Его глаза были похожи на два серых камня. – Он был левша. Пистолет у правой руки. В записке ни слова о семье. В воздухе следы хлороформа. Его усыпили, приставили ствол к виску и нажали на курок. Один держал, второй стрелял. А потом они выпили его шнапс и написали эту дрянь. Это не факты?
Майер отшатнулся от холодного бешенства в голосе Кранца.
– Мы… мы проверим все это, Отто. Разумеется. Но пока… пока официальная версия – суицид.
– Официальная версия? – Кранц криво усмехнулся. – А кто ее утвердил? Господь Бог?
– Комиссар Вебер. Он уже в курсе. Ждет тебя в президиуме.
Александерплац встретил его равнодушным гулом. Президиум, это огромное красное здание, похожее на крепость, всегда казался Кранцу не храмом правосудия, а фабрикой по переработке человеческих несчастий в аккуратные папки с делами. Сегодня он чувствовал себя сырьем для этой фабрики.
Кабинет комиссара Вебера находился на четвертом этаже. Обставлен он был солидно и безлико. Тяжелый дубовый стол, кожаные кресла, на стене портрет Гинденбурга. Сам Вебер был под стать кабинету. Пятидесятилетний мужчина с гладко зачесанными волосами, ухоженными руками и глазами опытного карьериста, который умел определять направление политического ветра лучше любого флюгера.
– Отто, – сказал он, поднимаясь навстречу. Его голос был пропитан тщательно отмеренной дозой скорби. – Присядь. Это ужасная трагедия. Ужасная. Рихтер был хорошим парнем. Подавал большие надежды.
Кранц не сел. Он остался стоять посреди кабинета, мокрый плащ оставлял темное пятно на дорогом персидском ковре.
– Его убили, герр комиссар.
Вебер вздохнул, обошел стол и сел в свое кресло. Жест был продуманным. Он садился за стол, за свою крепость, обозначая дистанцию.
– Я читал предварительный рапорт Майера. И твое… особое мнение. Отто, мы все в шоке. В таких ситуациях легко поддаться эмоциям, начать видеть заговоры там, где их нет.
– Пуговица от чужого пальто на ковре – это эмоция? Остатки хлороформа – это заговор? Тот факт, что парня, который и мухи не обидит, за два часа до смерти избивали в переулке профессиональные громилы, – это моя фантазия?
Лицо Вебера стало жестким. Сочувственная маска сползла, обнажив лицо чиновника, которому создают проблемы.
– Драка в переулке не имеет отношения к делу. Мало ли с кем мог сцепиться молодой горячий парень ночью в Берлине. С коммунистами, с нацистами…
– Он сцепился с ними вместе со мной! – голос Кранца поднялся. – Они охотились за дневниками Шпица! Они не достали их, и тогда пошли за Клаусом! Они пытали его, хотели узнать, что он знает, где я! А потом убили, чтобы заткнуть ему рот навсегда! Это не просто связано, это одно и то же дело!
Вебер помолчал, барабаня пальцами по столешнице. Он смотрел не на Кранца, а куда-то мимо, на портрет президента.
– Дело Шпица закрыто, – сказал он тихо, но отчетливо.
Кранц замер.
– Что?
– Ты меня слышал. Убийство Германа Шпица – результат ограбления, совершенного неустановленными лицами. Дело передается в архив до появления новых улик. Смерть инспектора Рихтера – самоубийство на почве нервного срыва. Таково официальное заключение.
– Чье заключение? Ваше?
Вебер наконец посмотрел ему в глаза. И в его взгляде Кранц увидел то, что было страшнее ненависти или гнева. Он увидел страх. Животный, липкий страх чиновника за свое место, за свою пенсию, за свой покой.
– Утром мне звонили, Отто. Сверху. Очень сверху. Из министерства. Мне не угрожали. Мне просто… посоветовали. Посоветовали не раздувать из мухи слона. Посоветовали обратить внимание на реальные проблемы города – на банды, на забастовки, на политических экстремистов. А не копаться в пыльных историях, которые никого не волнуют.
– Они волнуют убийц! – прорычал Кранц. – Они волновали старика, которого зарезали! Они волновали моего напарника, которому пустили пулю в голову!
– Хватит! – Вебер стукнул кулаком по столу. – Ты отстранен от службы. На неделю. Официально – для того, чтобы прийти в себя после смерти коллеги. Возьми отпуск. Уезжай из города. Забудь об этом деле. Это приказ, Кранц.
Кранц смотрел на него долго, не мигая. Он видел перед собой не начальника. Он видел символ всего, что ненавидел. Трусость, прикрытая благоразумием. Предательство, названное политикой. Гниль, задрапированная в мундир.
Он ничего не сказал. Он просто развернулся и пошел к двери.
– Кранц! – окликнул его Вебер. – Я делаю это для твоего же блага. Эти люди… ты не представляешь, кто они. Они тебя сожрут и не подавятся.
Кранц остановился, но не обернулся.
– Они уже начали, герр комиссар, – сказал он тихо, почти шепотом. – Они начали с моего напарника.
Он вышел из кабинета и плотно закрыл за собой дверь. Он не пошел к выходу. Он спустился на второй этаж, в отдел вещдоков. Дежурный, увидев его лицо, молча отодвинулся от окошка. Кранц вошел в хранилище. На стеллаже под номером дела Шпица лежали опечатанные пакеты. Он сорвал печать с одного из них. Внутри были дневники. Он сунул их за пазуху, под плащ. Они легли на грудь холодным, тяжелым грузом.
Выйдя из президиума, он на мгновение остановился на ступенях. Город шумел, жил своей лихорадочной, безумной жизнью. Люди спешили по своим делам, не зная, что в темных кабинетах и на темных улицах уже идет война за их будущее. Он был один. Без значка, без полномочий, без поддержки. Враг был везде – в правительстве, в армии, возможно, даже в его собственном управлении. А у него были только старый служебный пистолет, ноющая боль в ребрах и несколько тетрадей, исписанных почерком мертвого старика.
Он посмотрел на серое небо. Они забрали у него напарника. Они забрали у него дело. Они думали, что напугали его, заставили отступить. Они ошиблись. Они не заставили его бояться. Они развязали ему руки. Это больше не было службой. Это не было долгом. Это стало личным. Он найдет их. Он найдет каждого, кто был в той квартире. Каждого, кто отдал приказ. Он найдет их, даже если для этого ему придется сжечь дотла весь этот проклятый город. Он поклялся в этом на невидимой могиле Клауса Рихтера. И эта клятва была единственным, что у него осталось.
Приказ сверху
Коридоры полицейского президиума на Александерплац были артериями, по которым текла казенная, разбавленная кровь бюрократии. Кранц шел против этого течения. Он чувствовал себя тромбом, инородным телом, которое система вот-вот попытается исторгнуть. Гулкие звуки его шагов, обычно терявшиеся в общем шуме, сегодня казались неуместными, как выстрелы в библиотеке. Мимо проплывали знакомые лица: унтер-офицеры с папками, секретарши, цокающие каблучками, коллеги из других отделов, кивающие ему с той смесью любопытства и опасливого уважения, которую всегда вызывало расследование убийства. Но сегодня в их взглядах было что-то еще. Что-то, чего он не мог уловить, но что ощущал кожей. Словно новость о смерти Рихтера распространялась не по проводам, а как инфекция, меняя воздух, делая его плотнее и труднее для дыхания.
Он не стал стучать в дверь кабинета комиссара Вебера. Он просто открыл ее и вошел.
Вебер сидел за своим массивным дубовым столом, похожим на саркофаг, в котором были похоронены сотни нераскрытых дел и карьерных компромиссов. Он не писал, не читал. Он просто сидел, сложив на столешнице свои холеные, почти женственные руки, и смотрел на портрет Гинденбурга на стене. Старый фельдмаршал взирал на него со скорбным укором, словно был разочарован той Германией, которую ему оставили в наследство. При виде Кранца Вебер вздрогнул, как человек, которого застали за постыдным занятием. Он медленно перевел взгляд с портрета на инспектора. В его глазах не было ни удивления, ни скорби. Только усталость. Бесконечная, серая усталость чиновника, которому снова принесли проблему, не имеющую простого решения в виде параграфа в уставе.
– Отто, – сказал он, и его голос, обычно ровный и хорошо смазанный, прозвучал надтреснуто. – Я ждал тебя. Присядь.
Кранц проигнорировал приглашение. Он остался стоять посреди персидского ковра, мокрый плащ рисовал под ним темное, расползающееся пятно. Он был осколком грязной улицы, вломившимся в этот стерильный мир полированного дерева и приглушенных звуков.
– Вы уже знаете, – это был не вопрос, а констатация.
– Знаю, – Вебер кивнул, и его лицо на мгновение исказила гримаса, похожая на сочувствие. – Ужасная трагедия. Рихтер был хорошим парнем. Идеалист. Возможно, слишком большой идеалист для нашего времени.
Слова были правильными, но они падали на пол, как фальшивые монеты, не издавая звона. Кранц ощутил во рту металлический привкус ярости.
– Его идеализм тут ни при чем. Его убили, герр комиссар. Так же, как убили Шпица. Это одно дело.
Вебер тяжело вздохнул, тот самый вздох, который Кранц слышал сотни раз. Вздох, предварявший отказ, уклонение от ответственности, компромисс. Он потер переносицу.
– Я читал предварительный рапорт Майера. И твое… особое мнение. Отто, мы все в шоке. В таких ситуациях легко поддаться эмоциям, начать видеть заговоры там, где их нет. Мальчик не выдержал. Работа полицейского – это мясорубка. Она ломает и не таких.
– Пуговица от чужого пальто на ковре – это эмоция? – голос Кранца был тихим, но в нем вибрировала сталь. – Остатки хлороформа в воздухе – это заговор? Тот факт, что парня, который и мухи не обидит, за два часа до смерти избивали в переулке профессиональные громилы, – это моя фантазия?
Вебер отвел взгляд. Он снова уставился на Гинденбурга, словно ища у него поддержки.
– Драка в переулке не имеет отношения к делу. Мало ли с кем мог сцепиться молодой горячий парень ночью в Берлине. С коммунистами, с нацистами… их сейчас больше, чем бродячих собак, и они все бешеные.
– Он сцепился с ними вместе со мной! – Кранц сделал шаг к столу. – Они охотились за дневниками Шпица! Они не достали их, и тогда пошли за Клаусом! Они пытали его, хотели узнать, что он знает, где я! А потом убили, чтобы заткнуть ему рот навсегда! Это не просто связано, это одно и то же дело!
Наступила тишина. Она была густой, как несвежий хлеб. Было слышно, как тикают часы на стене, отмеряя секунды, которые утекали из жизни Кранца, из жизни этого дела. Вебер барабанил пальцами по столешнице. Тихий, нервный стук. Он смотрел не на Кранца. Он смотрел мимо него, сквозь него, на что-то, что видел только он. Что-то, что его пугало.
– Дело Шпица закрыто, – сказал он наконец, отчетливо выговаривая каждое слово. Слова упали в тишину, как камни в глубокий колодец.
Кранц замер. Он ожидал сопротивления, бюрократических проволочек, призывов к осторожности. Но не этого. Не глухой стены.
– Что?
– Ты меня слышал. Убийство Германа Шпица – результат ограбления, совершенного неустановленными лицами. Дело передается в архив до появления новых улик. Смерть инспектора Рихтера – самоубийство на почве нервного срыва, вызванного профессиональной деятельностью. Таково официальное заключение.
Кранц почувствовал, как холод поднимается от пола, проникая сквозь подошвы ботинок, ползя вверх по ногам.
– Чье заключение? Ваше?
Вебер наконец поднял на него глаза. И в них Кранц увидел то, что было страшнее ненависти или гнева. Он увидел страх. Животный, липкий страх человека, который заглянул в пропасть и понял, что она смотрит на него в ответ.
– Утром мне звонили, Отто.
– Откуда?
– Сверху. – Вебер произнес это слово так, словно оно обжигало ему язык. – Очень сверху. Из министерства.
Кранц криво усмехнулся. Улыбка получилась уродливой, она стягивала кожу на лице.
– И что же вам сказали эти господа сверху? Приказали забыть о двух трупах?
– Мне не приказывали. – Вебер покачал головой, и его лицо стало пепельным. – Это было хуже. Мне не угрожали. Мне просто… посоветовали. Посоветовали не раздувать из мухи слона. Посоветовали обратить внимание на реальные проблемы города – на банды, на забастовки, на политических экстремистов. А не копаться в пыльных историях, которые никого не волнуют. Голос был очень вежливый, Отто. Почти отеческий. От такой вежливости по спине бежит холод.
– Они волнуют убийц! – прорычал Кранц, уже не в силах сдерживаться. Он ударил ладонью по столу. Фарфоровая чернильница подпрыгнула. – Они волновали старика, которого зарезали, как свинью! Они волновали моего напарника, которому пустили пулю в голову, потому что он слишком много знал!
– Хватит! – Вебер вскочил, его лицо побагровело. Впервые за все годы службы Кранц видел его не просто рассерженным, а по-настоящему испуганным. – Ты не понимаешь! Ты ничего не понимаешь! Ты лезешь в осиное гнездо, но это не простые осы, Отто! Это шершни размером с кулак! Они сожрут тебя, меня, весь наш отдел и не подавятся! Это не наше дело! Это политика!
– Убийство – это всегда наше дело! Это единственное, что у нас есть!
– Больше нет! – выкрикнул Вебер. Он тяжело дышал, приглаживая волосы, которые выбились из идеального пробора. Он снова сел, словно силы его оставили. – Ты отстранен от службы. На неделю. Официально – для того, чтобы прийти в себя после смерти коллеги. Возьми отпуск. Уезжай из города. Поезжай к морю. Подыши соленым воздухом. Забудь об этом деле. Это приказ, Кранц.
Кранц смотрел на него долго, не мигая. Он видел перед собой не начальника, не коллегу. Он видел человека, который только что продал его, продал Клауса, продал все, ради чего они носили эту форму. Продал не за деньги, не за повышение. А просто за право и дальше сидеть в этом кресле, за этим столом, под сочувственным взглядом старого фельдмаршала.
Он ничего не сказал. Слов не было. Они все умерли в этой комнате, вместе с верой в закон и порядок. Он молча развернулся и пошел к двери.
– Кранц! – окликнул его Вебер. Голос его снова стал тихим, почти умоляющим. – Я делаю это для твоего же блага. Эти люди… ты не представляешь, кто они. Они тебя перемелют. Ты просто пыль под их сапогами.
Кранц остановился у двери, но не обернулся.
– Они уже начали, герр комиссар, – сказал он глухо. – Они начали с моего напарника.
Он вышел из кабинета и плотно, но без хлопка, закрыл за собой дверь. Словно закрывал главу в своей жизни.
Коридор теперь казался другим. Он стал длиннее, темнее. Звуки приглушились. Люди, проходившие мимо, отводили глаза. Новость, видимо, уже просочилась из-за дубовой двери. Он был отстранен. Он был меченый. Он был проблемой. Его профессиональный мир, который, несмотря на всю свою грязь и цинизм, был единственной опорой в его жизни, рухнул за те десять минут, что он провел в кабинете Вебера. Он был один.
Он шел, не разбирая дороги. Ноги сами несли его вниз по лестнице. Не к главному выходу, где его ждали улица, город, свобода. А глубже, в подвальные этажи президиума. Туда, где хранились вещественные доказательства. В морг этого здания, где лежали мертвые дела и похороненные истины.
Отдел вещдоков был маленькой, душной комнатой, заставленной до потолка серыми металлическими стеллажами. За конторкой сидел унтер-офицер Грюн, пожилой, высохший человек с лицом, похожим на старый пергамент. Он всю жизнь проработал среди чужих трагедий, упакованных в картонные коробки и целлофановые пакеты, и это высушило его изнутри. Он поднял на Кранца свои выцветшие глаза.