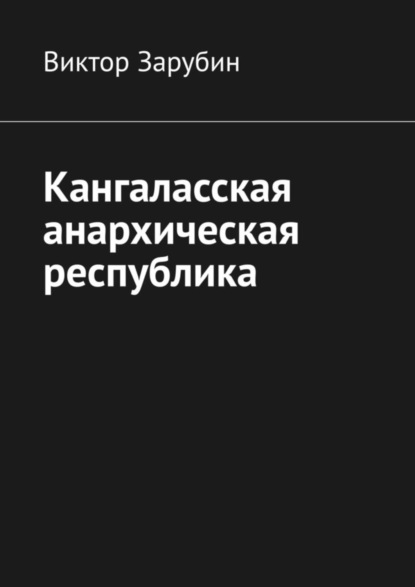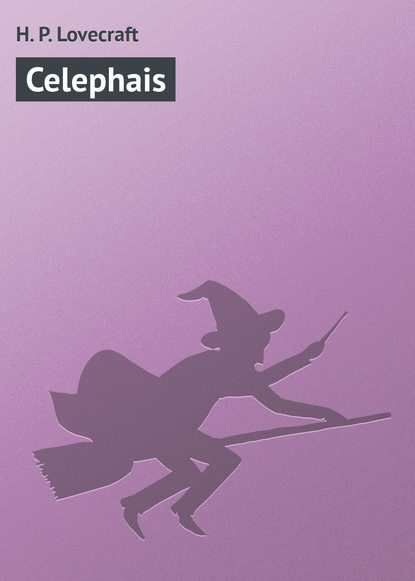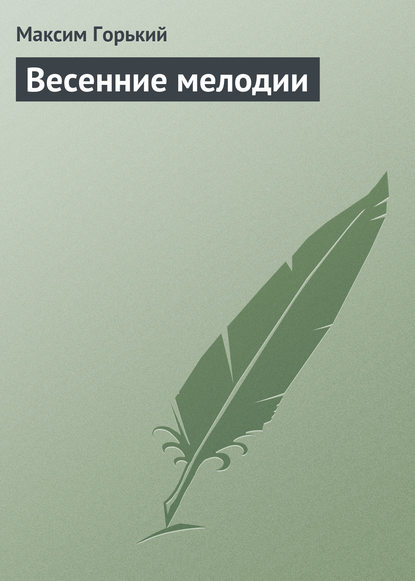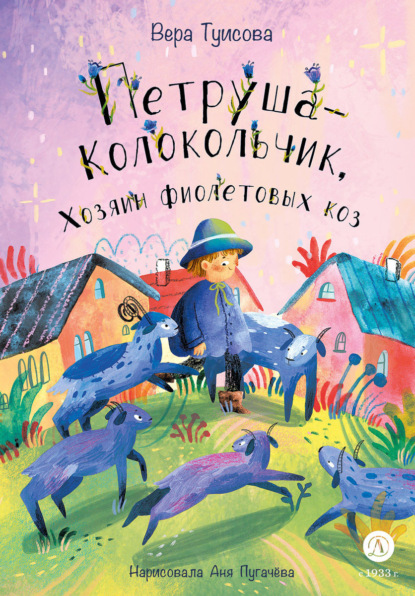Дело из полицейских архивов
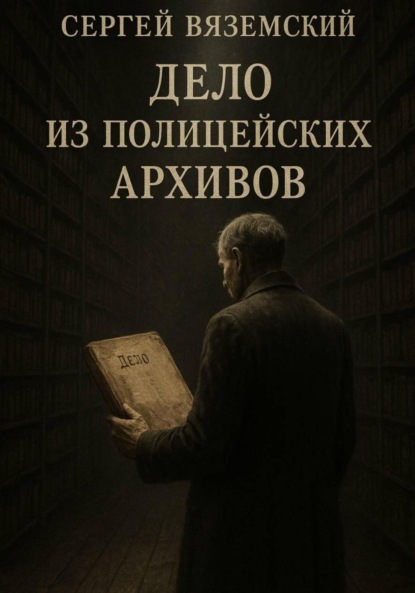
- -
- 100%
- +
– Петр Захарович, я к вам по делу, – сказал я наконец, когда его словоохотливость начала иссякать. – По архивному делу.
Он с любопытством посмотрел на меня поверх очков.
– Что, нашел-таки дело о короне скифских царей? Или записки душеприказчика мадам Помпадур? Твой Дмитрий мне все уши прожужжал, говорит, ты там порядок наводишь, какой и при мне не бывал.
– Порядок наводить – занятие для тех, кто верит, что он возможен, – ответил я. – Я нашел другое. Странное.
Я медленно развернул оберточную бумагу и положил серую картонную папку на маленький столик между нами, рядом с чашками и блюдцем с сухарями. Я положил ее надписью вверх. Петр Захарович наклонился, близоруко сощурился, вчитываясь в выцветшие чернила. И я увидел, как это произошло.
Это было не то резкое изменение, какое случается при испуге или внезапной боли. Это было медленное, страшное угасание. Словно кто-то невидимый приложил к его лицу промокательную бумагу, и она впитала в себя все краски жизни. Серые щеки стали пепельными, губы, только что растянутые в улыбке, превратились в тонкую бескровную линию. Он откинулся на спинку кресла, и его дыхание, и без того неровное, стало прерывистым, со слабым свистом. Рука, тянувшаяся было к папке, замерла в воздухе и бессильно упала на подлокотник. Он смотрел на картонную обложку так, как смотрят на голову Медузы Горгоны, боясь и пошевелиться, чтобы не окаменеть окончательно.
– Откуда… – прошептал он, и голоса его я почти не услышал. – Откуда ты это взял?
– С антресолей над канцелярией. Дмитрий привез с прочим хламом. На ней приказ об уничтожении. Но ее спрятали.
Он закрыл глаза. Его пальцы нервно сжимали и разжимали потертый бархат подлокотника.
– Уничтожить… – повторил он, как эхо. – Да. Сжечь. И пепел развеять над Невой в безлунную ночь. Так было бы правильно. Так было бы… безопаснее.
– Что это, Петр Захарович? – спросил я в упор, не давая ему уйти в себя. – Вы знаете это дело?
Он медленно покачал головой, не открывая глаз.
– Это дело я не знаю. И слава Богу. Я знаю этот почерк, – его палец едва заметно дрогнул, указывая на красную резолюцию. – Я знаю этот метод. Это не полицейская работа, Алексей. Это работа могильщиков.
Он наконец открыл глаза, и в них я увидел нечто большее, чем просто страх. Там был ужас воспоминаний, тот застарелый, глубоко въевшийся в душу страх, который не проходит с годами, а лишь глубже пускает корни.
– Ты служил уже при покойном государе Александре Николаевиче, ты человек новой формации, – заговорил он тихо, будто боясь, что нас могут подслушать даже здесь, в его маленькой, заставленной книгами келье. – Ты не застал того времени. Времени Николая Павловича. Ты не знаешь, что такое настоящее… государство в государстве. Ты читал в бумагах о Третьем отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Читал, как о чем-то давно минувшем, как о египетских пирамидах. А я… я его видел. Я его чувствовал. Оно было не на бумаге, Алексей. Оно было в воздухе, которым мы дышали.
Он сделал паузу, чтобы перевести дух. Я молчал, давая ему говорить.
– Это была не просто тайная полиция. Охранка по сравнению с ними – щенки-переростки, шумные и глупые. Те были другими. Они были невидимы. У них не было ни мундиров, ни официальных зданий, которые можно было бы показать пальцем. Они были повсюду и нигде. Их агенты могли сидеть с тобой в трактире, могли быть твоим соседом, могли быть даже твоим начальником. Они не подчинялись ни министру, ни Сенату. Только одному человеку в этой Империи. И их власть была абсолютной. Они могли взять любого – князя, купца, генерала – и он просто исчезал. Растворялся. И не было ни дела, ни протокола. Была лишь пустота на его месте. И тишина. Страшная, всеобщая тишина тех, кто знал, но боялся спросить.
Я вспомнил вырезанные из протоколов имена. Пустота. Тишина.
– Но это дело все-таки завели, – заметил я. – Значит, им занималась обычная полиция.
Петр Захарович горько усмехнулся.
– Занималась. До поры до времени. У них была практика, о которой не писали в циркулярах. «Параллельное следствие». Когда какое-нибудь происшествие затрагивало интересы… особых людей или государственной тайны, они начинали свое, негласное дознание. А официальное следствие продолжалось, как ни в чем не бывало. Полицейские следователи, такие же честные служаки, как ты, собирали улики, допрашивали свидетелей, писали отчеты. А потом, в один прекрасный день, к ним в кабинет являлся тихий господин в штатском, показывал маленький синий жетон и вежливо просил передать ему все материалы. И все. Дело переставало существовать. Его вычеркивали из всех книг. А если оно было слишком громким, чтобы просто исчезнуть, его «закрывали». Фабриковали удобную версию, подчищали документы, запугивали свидетелей. Как здесь. – Он кивнул на папку. – Это их почерк. Вырезать имена скальпелем. Внести путаницу в даты. Оставить от живой истории лишь выпотрошенную оболочку, бессмысленную и безопасную. А потом – приказ «уничтожить». Чтобы даже эта оболочка не смущала ничей покой.
Я взял медальон, который достал из кармана, и положил его на стол.
– Они оставили это.
Петр Захарович посмотрел на портрет, и в его глазах промелькнула жалость.
– Значит, кто-то из тех, кто исполнял приказ, не был до конца мразью. Или был сентиментален. Иногда даже у палачей просыпается что-то вроде совести. Он не сжег дело, а спрятал. Глупец. Или святой. Он надеялся, что когда-нибудь… когда-нибудь все изменится. Но он не учел одного, Алексей. Отделение упразднили. Бенкендорфа и Дубельта давно черви съели. Но люди… люди остались. Их методы остались. Их тайны остались. Они, как раковая опухоль, которую вырезали, но метастазы расползлись по всему организму. Они сидят в министерствах, в гвардейских полках, в Государственном совете. Они постарели, обзавелись новыми чинами и титулами, но они помнят. И они не позволят никому копаться в их старых могилах. Потому что в этих могилах похоронены не только их жертвы, но и их собственная молодость, их карьера, их власть, построенная на костях и молчании.
Он наклонился ко мне через столик. Его дыхание пахло ромашкой и страхом.
– Брось это, Алексей. Слышишь меня? Я тебя не как бывшего начальника прошу, я тебя как друга умоляю. Сожги эту папку. Сделай то, что должны были сделать тридцать пять лет назад. Ты отставной чиновник, одинокий старик. У тебя нет ни власти, ни защиты. Они тебя не заметят. Они тебя просто раздавят, как таракана, и пойдут дальше, не сменив шага. Ты борешься не с преступником. Ты пытаешься вызвать на дуэль призрак. Но у этого призрака вполне материальные дети и внуки. И они очень не любят, когда тревожат покой их отцов.
В комнате повисла тишина, нарушаемая лишь натужным тиканьем старых часов-ходиков на стене. Я смотрел на испуганное, умоляющее лицо моего старого друга. Он был прав. Каждое его слово было правдой – трезвой, холодной, неоспоримой. Я прекрасно понимал, во что ввязываюсь. Это было не расследование, это было самоубийство, растянутое во времени. Исход был предрешен. Система, перемоловшая мою собственную жизнь, была все так же сильна и безжалостна.
И все же… Предупреждение Петра Захаровича произвело обратный эффект. Его страх стал для меня подтверждением. Если дело, которому тридцать пять лет, все еще способно обратить в пепел лицо старого архивариуса, значит, его заряд не иссяк. Значит, тайна, которую оно хранит, до сих пор жива и опасна. А раз она опасна, значит, она чего-то стоит.
Его слова о «параллельном следствии» и «подчистке» не отпугнули меня. Напротив, они дали мне то, чего не хватало – структуру, логику безумия. Теперь я видел не просто хаотичный набор улик, а осмысленную, целенаправленную работу. И это разжигало во мне азарт, тот самый профессиональный азарт, который я считал в себе давно умершим. Передо мной была задача, головоломка, собранная гениальным и злобным умом. И я не мог устоять перед искушением попробовать ее разобрать.
– Ты думаешь, я ищу справедливости, Петр? – тихо спросил я, собирая бумаги и пряча медальон. – Я уже слишком стар для этой сказки. Справедливость – это товар для барышень из Смольного института. Я ищу другое. Я ищу ответ. Они оставили следы. Они были небрежны. И это меня оскорбляет как профессионала.
Петр Захарович откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза рукой.
– Твое упрямство тебя погубит, Глебов. Оно всегда было твоей главной добродетелью и твоим главным проклятием.
– Возможно, – согласился я, заворачивая папку обратно в бумагу. – Но это единственное, что у меня осталось.
Я поднялся, чтобы уйти.
– Спасибо за чай, Петр Захарович. И за совет. Я его обдумаю.
Это была ложь, и мы оба это знали.
Он не встал, чтобы меня проводить. Лишь когда я был уже в дверях, он окликнул меня.
– Алексей…
Я обернулся.
– Если тебе понадобится… найти какую-нибудь старую бумагу… без официального запроса… Ты знаешь, что у меня остались кое-какие ключи. И кое-какие должники. Только будь осторожен. Ради всего святого, будь осторожен.
Я кивнул и вышел, плотно притворив за собой дверь. На лестничной клетке я остановился, прислонившись спиной к холодной, выкрашенной охрой стене. Ноги слегка дрожали. Предупреждение друга, его явный, неподдельный ужас подействовали на меня сильнее, чем я хотел показать. Шепот Третьего отделения донесся до меня сквозь толщу лет и стал оглушительным. Я отчетливо понял, что перешел невидимую черту. До этого визита это была лишь моя частная прихоть, игра ума старого сыщика. Теперь это стало реальностью. У угрозы появилось имя.
Спустившись на улицу, я зашагал по прямой, как стрела, линии проспекта. Ветер с залива пронизывал до костей. Город больше не казался мне просто местом преступления. Он стал полем боя. Незримого, безмолвного боя, где противник не носит мундира и не объявляет войны. Он просто наблюдает из-за угла, из окна проезжающей кареты, из-за газетного листа в руках господина на соседней скамейке. Паранойя? Возможно. Но в нашей профессии паранойя – это не болезнь, а необходимое условие выживания.
Я крепче сжал под мышкой свой опасный груз. Слова Петра Захаровича не остановили меня. Они лишь дали мне первое правило для моего расследования: не доверять никому. Не верить ни одному официальному документу. Искать правду не в том, что написано, а в том, что вырезано, выжжено и похоронено. Искать ее в тишине и в пустоте. Там, где когда-то поработали могильщики из Третьего отделения. Мой путь лежал не вперед, в будущее, а назад, в прошлое. И я знал, что эта дорога будет усеяна не цветами, а призраками. И я был готов встретиться с ними.
Показания часовщика
Предупреждение Петра Захаровича не стало для меня якорем, который удержал бы мой утлый челн в тихой гавани отставки. Напротив, оно послужило тем последним толчком, что выпихнул меня в открытое, штормовое море. Страх моего старого друга, его почти животный ужас перед тенями прошлого, лишь утвердил меня в мысли, что я наткнулся не на забытое недоразумение, а на живую, гноящуюся рану в теле имперской истории. И теперь, идя по улицам, я видел город иначе. Он больше не был просто декорацией для моей угасающей жизни. Он стал соучастником. Его гранитные набережные, казалось, хранили холод молчания; его туманы, цеплявшиеся за шпили и купола, были материальным воплощением лжи, окутавшей дело Веретенникова. Каждый темный подъезд мог быть порталом в то прошлое, каждый господин в котелке, бросивший на меня мимолетный взгляд, – наследником тех, кто орудовал скальпелем в полицейских протоколах.
В моей черной конторской книге, которую я теперь носил с собой повсюду, как монах свой псалтырь, было всего несколько записей, переписанных из дела каллиграфическим, почти до неразличимости измененным почерком. Среди них – имя и род занятий первого и, по сути, единственного свидетеля, чьи показания не были вымараны полностью: Ипат Поликарпов, часовых дел мастер, проживавший в 1859 году на Петербургской стороне, в доме купца Сивохина по Малому проспекту. Это была единственная нить, торчавшая из глухой стены молчания. И за нее я должен был ухватиться.
Адресный стол на Садовой встретил меня запахом кислой капусты из соседней харчевни и сухим шелестом тысяч картонных карточек, которые перебирали бледные, как восковые свечи, чиновники. Я встал в очередь, чувствуя себя чужеродным в этом муравейнике казенной суеты. Когда подошла моя очередь, я, не поднимая глаз на безликого юношу за конторкой, глухо назвал фамилию и старый адрес. Чиновник смерил меня скучающим взглядом, лениво пошарил в одном ящике, потом в другом, и его губы скривились в выражении превосходства, с которым мелкая власть сообщает просителю о его неудаче.
– Таковой не значится. Давно выбыл.
– Мне известен год – тысяча восемьсот пятьдесят девятый, – сказал я ровным голосом, в котором не было ни просьбы, ни приказа. – Мне нужны не его нынешние координаты, а сведения о его мастерской. Возможно, она сохранилась.
Это было нестандартное прошение, и на лице юноши отразилась вся мука человека, вынужденного совершить мыслительное усилие. Он недовольно вздохнул и поплелся к пыльным талмудам, стоявшим у стены. Он долго водил костлявым пальцем по пожелтевшим страницам, бормоча что-то себе под нос. Я ждал, глядя на паутину в углу, и думал о том, сколько таких вот Ипатов Поликарповых, со всеми их страхами, надеждами и тайнами, превратились здесь в строчку выцветших чернил, в карточку, которую можно с такой легкостью объявить «не значащейся».
– Часовая мастерская Поликарпова, – наконец процедил он, не оборачиваясь. – Малый проспект, дом четырнадцать. Тот же дом. В книгах за прошлый год арендатором значится Поликарпов Аркадий Ипатович. Вероятно, сын. С вас тридцать копеек.
Я молча положил на конторку монеты и, забрав квиток с адресом, вышел на улицу. Аркадий Ипатович. Не сын. Скорее, внук. Время – вот главный противник в моем расследовании. Оно не просто стирает следы, оно уносит свидетелей, оставляя после себя лишь их потомков, в чьей памяти прошлое живет искаженным, фрагментарным эхом. Но даже эхо лучше, чем полная тишина.
Дорога на Петербургскую сторону была сродни путешествию в другую страну. Стоило миновать гранитное величие центра и пересечь Неву по Тучкову мосту, как имперский лоск начинал облезать, уступая место более скромной, почти провинциальной жизни. Деревянные тротуары, кривоватые заборы, двухэтажные особнячки, притулившиеся между громоздкими доходными домами. Воздух здесь был другим – пахло дымом из печных труб, свежеиспеченным хлебом и какой-то прелью, поднимавшейся от многочисленных каналов. Здесь жили ремесленники, мелкие торговцы, отставные военные – тот самый люд, на котором, как на бесчисленных сваях, и держалась вся громада столичного блеска.
Дом номер четырнадцать оказался приземистым, выкрашенным в казенный желтый цвет зданием, фасад которого был испещрен трещинами, как лицо старика – морщинами. Вход в мастерскую располагался сбоку, в полуподвале, куда вели три стертые гранитные ступени. Над дверью висела старая, почерневшая от времени вывеска из меди, на которой можно было с трудом разобрать витиеватую надпись: «И. Поликарповъ. Ремонтъ и продажа часовъ всякихъ системъ». Вывеска, пережившая своего хозяина и, возможно, целую эпоху. Из-за двери, обитой потрескавшейся клеенкой, доносился едва слышный, но непрерывный звук – тихое, многоголосое тиканье. Словно за ней билось не одно, а сотни крошечных механических сердец.
Я толкнул тяжелую, не поддававшуюся с первого раза дверь и шагнул внутрь. Меня окутал мир, в котором время было не абстрактным понятием, а вещественной субстанцией. Воздух был густым, пропитанным запахами ружейного масла, канифоли и едва уловимым металлическим привкусом латунной пыли. Все пространство небольшой комнаты было подчинено одной идее. Стены были сплошь увешаны часами: тяжелыми гиревыми «ходиками» в расписных деревянных корпусах, строгими круглыми «станционными», легкомысленными французскими каминными часами с бронзовыми амурами. И все они шли. Их маятники качались вразнобой, их стрелки указывали разное время, а их совокупное тиканье сливалось в единый, гипнотический гул, который, казалось, можно было потрогать руками.
За высоким рабочим столом, заваленным инструментами, разобранными механизмами и стеклянными колпаками, сидел, согнувшись, человек. Он был моложе, чем я ожидал, – лет сорока, с залысинами на высоком лбу и аккуратно подстриженной бородкой-эспаньолкой. На носу его сидели очки с толстыми линзами, а на правый глаз была надета лупа в черной оправе, делавшая его похожим на какого-то диковинного одноглазого жука. Его длинные, тонкие пальцы, выпачканные в черном, с невероятной ловкостью и осторожностью пинцетом водружали на место крошечную, не больше макового зернышка, шестеренку в открытое нутро карманного хронометра. Он был так поглощен своей работой, что не заметил моего прихода, пока я не кашлянул.
Он вздрогнул, вскинул голову, и его увеличенный лупой глаз сверкнул, как объектив оптического прибора. Он сдвинул лупу на лоб, и я увидел обычное, немного усталое лицо человека, проводящего жизнь за кропотливым трудом.
– Чем могу служить? – спросил он голосом спокойным и негромким, привыкшим к тишине, нарушаемой лишь тиканьем.
– Господин Поликарпов? Аркадий Ипатович?
– Он самый, – кивнул он, откладывая пинцет. – Если вам починить – придется подождать. Заказов много. А если купить, то милости прошу. Есть прекрасный «Густав Беккер», бой на два тона.
– Меня привело к вам не деловое, а, скорее, историческое любопытство, – начал я издалека, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более нейтрально, как голос безобидного чудака-коллекционера. – Я занимаюсь частным образом составлением хроники старого Петербурга. Изучаю городские происшествия середины века.
Он посмотрел на меня с вежливым недоумением. Видимо, историки-любители были нечастыми гостями в его полуподвале.
– И чем же я могу помочь вашей хронике? Моя семья живет и работает здесь давно, это правда, но мы люди простые, в громких событиях не участвовали.
– Я наткнулся в полицейских архивах на одно давнее дело. Тысяча восемьсот пятьдесят девятого года. Об исчезновении некоего студента Веретенникова, который жил здесь неподалеку. В списках свидетелей по этому делу значится часовой мастер Ипат Поликарпов. Ваш дед, я полагаю?
При упоминании имени деда и года его лицо не изменилось, но в глазах мелькнуло что-то новое. Не узнавание, а скорее тень давнего, почти забытого воспоминания, как если бы я назвал имя человека, которого он видел однажды во сне.
– Дед… Ипат Семенович, – поправил он. – Да, это мой дед. Я его плохо помню, он умер, когда я был еще мальчишкой. Но имя это… Веретенников… Кажется, я его слышал.
Он снял очки, протер их чистой тряпицей и снова водрузил на нос, глядя на меня уже более внимательно. Его первоначальное безразличие сменилось настороженным любопытством.
– Что именно вас интересует? Дед был свидетелем? Странно, я не знал. Он не любил говорить о прошлом. Особенно о том, что касалось властей.
– В протоколе его показания выглядят… путано, – осторожно сказал я, наблюдая за его реакцией. – Он утверждал, что видел студента утром в день исчезновения. Показания эти, впрочем, противоречат словам другого свидетеля. Меня как историка интересуют подобные казусы, несостыковки. Они часто говорят о духе времени больше, чем официальные отчеты.
Аркадий Ипатович встал из-за стола, прошелся по тесному пространству мастерской, задевая локтем висящие на стенах часы. Он подошел к маленькому, закопченному самовару, стоявшему на столике в углу, и принялся раздувать угли.
– Чаю хотите? Разговор, похоже, будет небыстрым.
Я кивнул. Пока он возился с самоваром, я молчал, давая ему время собраться с мыслями. Я чувствовал, что задел какую-то струну, и теперь нужно было дать ей отзвучать, не спугнув мелодию.
– Это была не его история, – заговорил он наконец, не оборачиваясь, и его голос в гуле часов звучал приглушенно. – Это была… семейная легенда. Или, скорее, семейный страх. Отец мне рассказывал, а ему – дед. Не как связную историю, а урывками, шепотом, по большим праздникам, когда выпивал лишнюю рюмку и становился разговорчивее и печальнее обычного. Он до самой смерти корил себя за тот случай. Говорил, что продал душу за спокойствие.
Он поставил на стол два стакана в подстаканниках, налил дымящийся, крепко заваренный чай.
– Дед видел этого студента. Утром, как и сказано в ваших бумагах. Они жили в одном дворе, только в разных флигелях. Студент вышел, и почти сразу за ним из подворотни вышли двое. Неприметные господа, в хороших, но неброских пальто. И пошли за ним следом. Дед тогда не придал этому значения, мало ли кто за кем ходит в Петербурге. А через пару часов к нему в мастерскую явился околоточный и стал расспрашивать. И дед рассказал все как было. Про студента, про двоих господ. Околоточный все записал и ушел. А вечером… вечером пришли другие.
Аркадий Ипатович сделал большой глоток чая, обжигаясь. Его взгляд был устремлен в прошлое, в полумрак этой самой комнаты, какой она была тридцать пять лет назад.
– Их тоже было двое. Но это были не полицейские. Они не представились. Просто вошли, закрыли за собой дверь на крючок и сели. Один из них молча положил на стол какой-то маленький синий жетон. Дед говорил, что от одного вида этого жетона у него внутри все похолодело, будто ему в живот сунули кусок льда. Они не кричали, не угрожали. Говорили очень тихо и вежливо. Спрашивали про его семью. Про мою бабушку, про отца, который тогда был совсем маленьким. Интересовались, хорошо ли идет торговля, не боится ли он пожара – мастерская-то деревянная, одна искра, и все дотла. А потом один из них сказал: «Вы человек умный, мастер Поликарпов. И вы ничего не видели сегодня утром. Вы видели, как студент вышел из дома один. И все. Вы же не хотите, чтобы ваш маленький Ипаша остался сиротой, а ваша жена – вдовой?».
Тиканье сотен часов, казалось, замерло. В наступившей тишине слова Аркадия Ипатовича звучали оглушительно. Я смотрел на этого человека, на его тонкие пальцы мастера, и представлял себе его деда, запертого в этой же самой комнате с двумя безликими тенями, воплощавшими безжалостную волю государства. Это было то самое «параллельное следствие», о котором говорил Петр Захарович, во всей его неприглядной, будничной жестокости.
– На следующий день к деду снова пришел тот же околоточный, – продолжал Аркадий. – Он был бледен, глаза бегали. Он принес новый протокол. Там было написано то, что велели те, вечерние. Дед молча подписал. А околоточный, уходя, не выдержал, прошептал ему: «Прости, Семеныч. Мне приказали. Сказали, так надо для блага Отечества». Дед потом всю жизнь это «благо Отечества» вспоминал с такой ненавистью, что даже крестился. Он говорил, что в тот день понял: самое страшное в нашей стране – это не разбойники с большой дороги, а тихие господа, которые творят беззаконие во имя порядка. Он стал всего бояться. Заперся в своей мастерской, почти перестал выходить на улицу. И до самой смерти, заслышав на лестнице тяжелые шаги, вздрагивал.
Он замолчал, допивая свой чай. История была рассказана. Короткая, простая история о том, как ломают человека, не применяя к нему физической силы. Как страх, однажды поселившись в душе, остается там навсегда, передаваясь по наследству, как фамильное серебро.
– Вот и все, что я знаю, – сказал он, наконец посмотрев на меня. – Не думаю, что это сильно поможет вашей хронике, господин…
– Глебов, – подсказал я. – Алексей Глебович. Это поможет. Это поможет понять, почему в ваших часах так много деталей, и если убрать хотя бы одну, самую маленькую, они перестанут показывать верное время.
Он кивнул, кажется, впервые по-настоящему поняв цель моего визита. Он увидел во мне не праздного любителя старины, а кого-то, кто пытается собрать заново разобранный и сломанный механизм.
– Да, – произнес он задумчиво. – Да, вы правы. Детали… Знаете, дед был человеком педантичным. Почти до сумасшествия. Он записывал все. Каждый заказ, каждый расход, каждый приход. А еще… он вел дневник. Не то чтобы дневник, скорее, тетрадь для записей. Заносил туда всякие события, свои мысли, расчеты. Он всегда говорил: «Бумага все стерпит и ничего не забудет».
Мое сердце, старое, изношенное, которое я считал неспособным на резкие толчки, пропустило удар.
– Этот дневник… он сохранился?
– Должен, – пожал плечами Аркадий. – После смерти отца мне достался сундук с его и дедовскими бумагами. Старые счета, квитанции, какие-то письма. Я его так и не разбирал, все руки не доходят. Он где-то на антресолях, под грудой хлама. Думаю, и тетрадь там же, если ее мыши не съели.