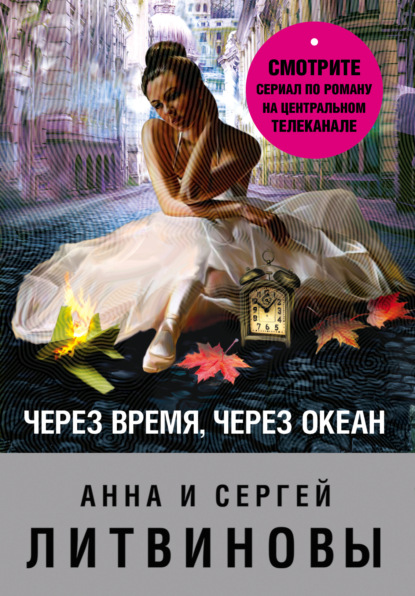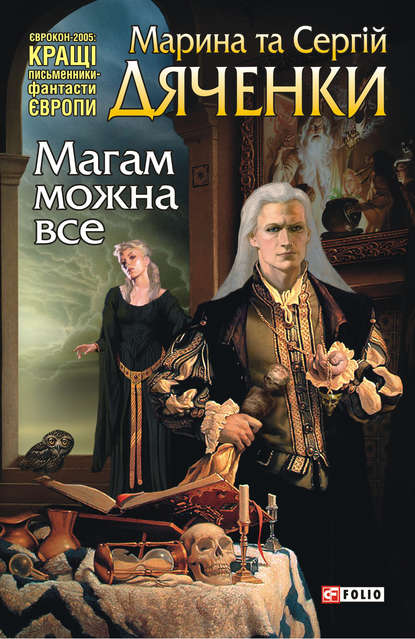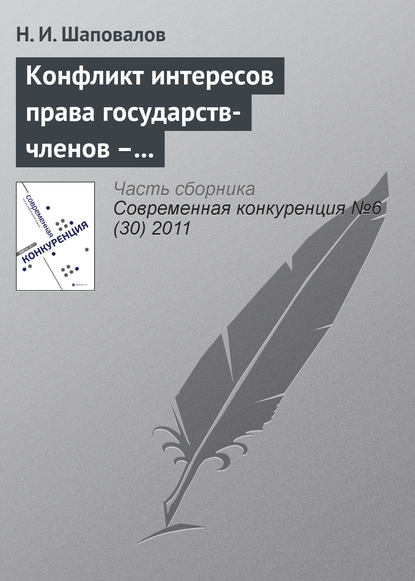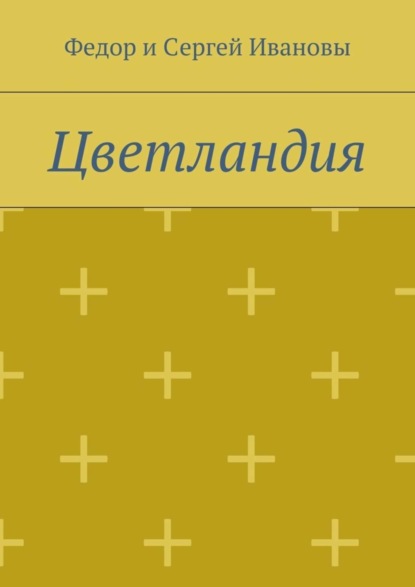Дело из полицейских архивов
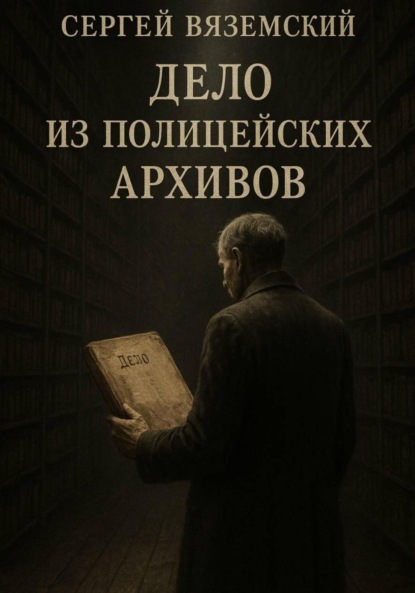
- -
- 100%
- +
– Аркадий Ипатович, – сказал я, и в моем голосе, к моему собственному удивлению, прозвучала нота, которой я не слышал в нем уже много лет, – нота почти отчаянной просьбы. – Я понимаю, что прошу о многом. Но не могли бы вы поискать эту тетрадь? Запись за апрель тысяча восемьсот пятьдесят девятого года может оказаться… неоценимой. Не для моей хроники. Для правды.
Он долго смотрел на меня, и в его глазах за толстыми стеклами очков я видел борьбу. С одной стороны, был унаследованный от деда страх перед людьми, задающими опасные вопросы. С другой – желание снять с имени предка клеймо труса и лжесвидетеля, восстановить ту самую маленькую деталь в механизме семейной чести.
– Хорошо, – сказал он наконец с тяжелым вздохом, словно принимая на себя некую ношу. – Я поищу. Но обещать ничего не могу. Там целый ворох бумаг, все пересохло, рассыпается в руках. Зайдите через день. Если что-то найду – оно ваше.
Я встал, чувствуя одновременно и огромное облегчение, и новую, еще более острую тревогу. Я нашел то, за чем пришел. Я нашел подтверждение своим догадкам. Но я также понял, что, втягивая этого человека в свое расследование, я подвергаю его той же опасности, которая когда-то сломала его деда.
– Благодарю вас, Аркадий Ипатович, – сказал я, протягивая ему руку. – Вы не представляете, как это важно.
Он пожал мою руку. Его ладонь была сухой и твердой, вся в мелких мозолях и царапинах – рука человека, имеющего дело с реальностью, а не с призраками.
– Я просто хочу, чтобы дед там, наверху, перестал вздрагивать от каждого шага за дверью, – тихо сказал он.
Я вышел из мастерской обратно в петербургские сумерки. День угасал. На Малом проспекте зажигались газовые фонари, их неверный свет выхватывал из промозглого тумана лица прохожих, спины извозчиков, мокрые крыши домов. Многоголосое тиканье часов еще долго звучало у меня в ушах. Оно больше не казалось мне умиротворяющим. Теперь это был звук заведенного взрывного механизма. Неизвестный архивариус тридцать пять лет назад спрятал дело. Ипат Поликарпов спрятал правду в своем дневнике. Все эти годы они ждали своего часа, как пружина, сжатая до предела. И теперь я, старик, возомнивший себя вершителем судеб, пришел и повернул ключ. Пружина начала медленно, со скрипом, разжиматься. И я понятия не имел, что именно она приведет в движение и кого сметет на своем пути. Я знал лишь одно: обратного хода у этого механизма не было.
Портрет в сепии
Два дня. Сорок восемь часов. Две тысячи восемьсот восемьдесят минут. Я никогда прежде не думал о времени в таких мелких, ядовитых долях. Обычно оно текло для меня единым, мутным потоком, как воды Обводного канала, без начала и конца. Но теперь, в ожидании звонка или записки от внука часовщика, оно распалось на мириады колючих секунд, и каждая впивалась в сознание, как заноза. Моя квартира, моя упорядоченная, тихая берлога, превратилась в камеру пыток. Каждый скрип половицы в коридоре заставлял вскидывать голову. Стук почтальона в парадной отдавался в груди глухим ударом. Я пытался читать, но буквы на страницах «Московских ведомостей» расплывались в бессмысленную серую рябь. Я пытался наводить порядок, но руки машинально переставляли с места на место и без того идеально расставленные предметы. Все мои мысли вращались вокруг одного – тетради старого часовщика, в которой, возможно, хранился ключ.
А пока ключа не было, у меня был лишь замок. Серебряный медальон лежал на моем письменном столе, подрагивая в неровном свете лампы. Он стал центром моего мира, единственным вещественным доказательством того, что вся эта история – не плод старческого воображения. Я открывал его и закрывал десятки раз. Я изучал лицо незнакомки через лупу, пытаясь угадать характер по изгибу губ, по едва заметной тени под скулой. Ее взгляд, полный отчаянной мольбы, перестал быть просто художественным приемом. Он стал личным обращением. Она смотрела не в прошлое, она смотрела на меня, и в ее глазах я видел отражение собственного бессилия, собственного тринадцатилетнего горя. Кто ты? Этот вопрос стал наваждением. Без имени она была лишь призраком, красивой маской трагедии. Но имя дало бы ей плоть и кровь. Имя – это первая ступень к воскрешению из небытия, в которое ее так старательно и умело погрузили.
Я не мог просто сидеть и ждать. Бездействие разъедало меня изнутри, как ржавчина. Я должен был что-то предпринять, найти другую нить, за которую можно было бы потянуть, пока первая была мне недоступна. И эта нить лежала передо мной, холодная и гладкая. Медальон. Миниатюра. Это было не просто украшение, это было изделие, произведение искусства. И у него должен был быть свой след в мире.
На следующий день, не в силах более выносить молчание своей квартиры, я отправился на Литейный проспект. Там, в лабиринте дворов, приютилась лавка, о которой знали немногие. Ее хозяин, Иннокентий Павлович Зотов, был человеком странным, нелюдимым, но в своей области считался едва ли не первым знатоком в Петербурге. Его областью были застывшие мгновения. Зотов был коллекционером и торговцем дагерротипами, фотографическими карточками и всевозможными видами портретной миниатюры. Он жил в мире теней, запечатленных на солях серебра и слоновой кости, и знал о них больше, чем иные священники знают о душах своих прихожан.
Дверной колокольчик издал дребезжащий, астматический звук, возвещая о моем приходе. В нос ударил специфический, ни с чем не сравнимый запах – смесь химикатов, которыми пропитывали бумагу, сухого клея, пыли и чего-то еще, неуловимо-сладковатого, как запах увядающих цветов на забытой могиле. Лавка Зотова была не просто магазином, это был мавзолей взглядов. Со всех стен, из открытых ящиков комодов, из разложенных на прилавках бархатных коробок на меня смотрели тысячи глаз. Мужчины в строгих сюртуках и военных мундирах, дамы в кринолинах, дети в матросских костюмчиках. Их лица, застывшие в вечности полтораста лет назад, выражали серьезность, испуг, наивное любопытство – всю гамму чувств, испытываемых человеком перед загадочным аппаратом, крадущим у него частицу души.
Сам Зотов, маленький, сморщенный, похожий на высохший гриб, вынырнул из-за груды картонных паспарту. Его глаза, блеклые и водянистые, казалось, видели не меня, а лишь световой контур, ауру вокруг моего тела.
– Алексей Глебович, – проскрипел он. – Редкий гость. Неужто решили увековечить свой лик для потомства? Могу предложить прекрасную светопись на альбуминовой бумаге. Очень модно. Хотя, по правде, с дагерротипом не сравнится. В нем глубина, тайна… В нем еще живет душа модели.
– Душа меня мало интересует, Иннокентий Павлович. Меня интересует техника, – ответил я, протягивая ему на ладони медальон. – Взгляните. Мне нужно знать все, что вы можете об этом сказать.
Он взял медальон своими тонкими, похожими на птичьи лапки пальцами с почти благоговейной осторожностью. Щелкнул застежкой. Наклонился к свету, падавшему из единственного, засиженного мухами окна. На несколько долгих минут он замер, превратившись в изваяние. Он не просто смотрел. Он впитывал изображение, анализировал его, как геолог изучает срез породы, читая по слоям историю земли.
– Кость… – прошептал он наконец, не отрываясь. – Плотная, без желтизны. Индийский слон, самец. Работа тончайшая. Лессировка. Посмотрите на эти переходы тона на щеке. Здесь не меньше двадцати слоев краски, каждый тоньше паутины. Это не ремесленник. Это художник. И художник первостатейный. Французская школа, без сомнения. Вероятно, кто-то из учеников Изабе.
Он перевернул миниатюру, изучая под лупой крошечные, почти невидимые мазки.
– Конец пятидесятых, – вынес он вердикт. – Прическа «а-ля императрица Евгения». Вырез платья, кружево… Да, это тысяча восемьсот пятьдесят седьмой, пятьдесят восьмой, может, самое начало пятьдесят девятого года. Позже так уже не носили. Вещь дорогая. Очень дорогая. Такой портрет мог заказать либо член императорской фамилии, либо один из тех, кто сорит деньгами, не считая. Медальон тоже работы отменной. Серебро высшей пробы, гравировка по гильошированному фону. Инициалы «Е.В.».
Все это было важно, но это была лишь оболочка. Мне нужна была суть.
– А женщина? Лицо вам не знакомо?
Зотов снова всмотрелся в портрет, но уже другим взглядом – не как техник, а как физиономист.
– Лицо… – протянул он задумчиво. – Есть в нем что-то… показное. Не в дурном смысле. Профессиональное. Постановка головы, поворот плеч. Так держат себя люди, привыкшие к сцене. Привыкшие быть объектом внимания. Она не смотрит на вас, она представляет себя вам. Это не просто красавица из гостиной. Это, я бы сказал, артистка.
Артистка. Слово ударило меня, как разряд статического электричества. Оно открывало совершенно новое направление для поисков. Мир петербургской сцены был замкнутым, но хорошо задокументированным. У него были свои летописи, свои героини, свои скандалы.
– Где можно найти изображения петербургских актрис того времени? – спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно.
– О, это целый мир, – оживился Зотов, возвращаясь в свою стихию. – Фотография тогда только входила в моду. Карточки-визитки появились чуть позже. Но гравюры, литографии… Они печатались в театральных альманахах, в иллюстрированных журналах. «Пантеон русского и всех европейских театров», «Музыкальный и театральный вестник»… Поищите в Публичной библиотеке, в отделе эстампов. Если она была хоть сколько-нибудь известна, ее портрет там непременно найдется.
Он вернул мне медальон. Его блеклые глаза на мгновение сфокусировались на мне, и в них промелькнуло что-то похожее на сочувствие.
– Только будьте осторожны, Алексей Глебович. Лица на старых портретах умеют хранить тайны. Иногда, когда долго в них всматриваешься, они начинают говорить. И не всегда то, что хочешь услышать. Они как зеркала, в которых можно увидеть не только прошлое, но и собственную судьбу.
Я поблагодарил его, оставил на прилавке несколько монет, которые он сгреб, не считая, и вышел из этого царства мертвых взглядов. Совет Зотова был бесценен. Он дал мне не просто направление, он дал мне инструмент. Теперь у меня был шанс превратить безмолвный портрет в имя.
Императорская Публичная библиотека на углу Невского и Садовой была полной противоположностью полицейскому архиву. Если архив был склепом, то библиотека – храмом. Здесь царила иная тишина – не тишина забвения, а тишина сосредоточенного ума. Воздух был пропитан запахом не тлена, а знания – запахом старой кожи переплетов, типографской краски и тысяч страниц, хранящих человеческую мысль. Под высокими сводами читального зала, в свете, льющемся из огромных арочных окон, сидели, склонившись над книгами, студенты, профессора, офицеры, чиновники. Они были похожи на жрецов, совершающих свой молчаливый ритуал служения знанию.
Я, со своим полицейским прошлым и своей тайной, грязной целью, чувствовал себя здесь святотатцем. Я не искал мудрости. Я искал улику. Я прошел в отдел периодики, затребовал у сонного библиотекаря в засаленном сюртуке подшивку «Пантеона» за 1857-1859 годы. Мне вынесли несколько тяжелых, громоздких томов, переплетенных в потрескавшуюся кожу. Я устроился за дальним столом в углу, положил рядом с собой медальон, как камертон, по которому я буду сверять свои поиски, и погрузился в прошлое.
Это была кропотливая, изнуряющая работа. Я медленно, страница за страницей, перелистывал пожелтевшие, хрупкие листы. Гравюры, изображавшие сцены из спектаклей, портреты драматургов, рецензии на премьеры, написанные витиеватым, полным восторженных эпитетов языком. Я всматривался в каждое женское лицо, сравнивая его с миниатюрой. Десятки, сотни лиц прошли передо мной. Примадонны итальянской оперы, звезды французской драмы, дебютантки русской труппы. Они улыбались, хмурились, заламывали руки, принимали трагические позы. Но ни в одной из них я не находил того самого, искомого сочетания античной строгости черт и отчаянной мольбы во взгляде.
Прошел час, потом другой. Солнце переместилось, и его лучи, пробиваясь сквозь пыльное стекло, легли на страницы, заставив выцветшие строки и изображения казаться еще более призрачными. Мои глаза устали, спина затекла. Я чувствовал, как меня одолевает отчаяние. Возможно, Зотов ошибся. Возможно, она не была актрисой. Или была настолько незначительной, что ее лицо не удостоилось чести быть запечатленным для потомства.
Я взял последний том – «Ежегодник императорских театров» за сезон 1858-1859 годов. Он был тоньше прочих, и я листал его уже почти механически, без особой надежды. Репертуар Александринского театра, Мариинского… Биографии артистов, вышедших в отставку, некрологи… И вдруг я замер.
На странице 74, в разделе, посвященном русской драматической труппе, была помещена литография. Небольшой погрудный портрет, выполненный с фотографической точностью. С листа на меня смотрела она. Та же высокая прическа, тот же поворот головы, та же линия губ. Черты лица были переданы с безукоризненной точностью. Это была она. Без всяких сомнений. Только взгляд… Взгляд был другим. На литографии он был гордым, немного высокомерным, с легкой долей томной скуки. Взгляд женщины, знающей себе цену и привыкшей к поклонению. Это было то же лицо, но до того, как в его глазах поселился ужас.
У меня перехватило дыхание. Я впился глазами в подпись под портретом. Мелкий, изящный шрифт.
«Елена Андреевна Волынская. Артистка императорской труппы. Украшение александринской сцены».
Елена Волынская. Е.В. Инициалы на медальоне сошлись. У призрака появилось имя. Я провел пальцем по буквам, словно пытаясь убедиться в их реальности. Елена Волынская. Я повторял это имя про себя, и оно ложилось на слух, как нечто знакомое, почти родное, столько я думал об этой женщине.
Ниже шел короткий абзац биографической справки. «…дочь небогатого помещика Тверской губернии, воспитанница Театрального училища. Дебютировала на сцене Александринского театра в 1856 году в роли Офелии и сразу же покорила публику своей редкой красотой и врожденным талантом. Ее исполнение ролей молодых героинь в пьесах Островского и Тургенева было отмечено высочайшим вниманием и благосклонностью критики. В нынешнем сезоне госпожа Волынская блистает в ролях Лидии в «Свадьбе Кречинского» и Верочки в «Месяце в деревне». Ее утонченная красота и глубокий драматический дар обещают ей великое будущее на русской сцене…»
Великое будущее… Я горько усмехнулся. Ее будущее оборвалось весной 1859 года, когда она исчезла, чтобы быть найденной через тридцать пять лет в виде безымянной могилы на Смоленском кладбище и портрета в деле пропавшего студента.
Я стал лихорадочно листать страницы дальше, ища другие упоминания о ней. И нашел. В разделе светской хроники, среди описаний балов и раутов, был небольшой абзац, набранный петитом. Я поднес книгу ближе к свету.
«На последнем балу у графини С., где собрался весь цвет столичного общества, всеобщее внимание привлекала несравненная Елена Волынская. Ее появление в зале в сопровождении ее постоянного покровителя, известного мецената и ценителя искусств, князя Андрея Игнатьевича Орбелиани, произвело настоящий фурор. Красота молодой артистки, казалось, лишь выигрывала от соседства с мужественной и благородной осанкой князя. Не секрет, что именно щедрости и тонкому вкусу князя Орбелиани мы обязаны появлением на нашей сцене этого редкого дарования. Их союз, союз красоты и могущества, служит истинным украшением нашего высшего света».
Князь Андрей Игнатьевич Орбелиани.
Имя упало на страницу, как капля чернил, расплываясь и заслоняя собой все остальное. Это было не просто имя. Это был один из столпов Империи. Фамилия Орбелиани гремела в России со времен Петра. Генералы, министры, члены Государственного совета. Их дворец на Английской набережной был одним из центров политической и светской жизни столицы. Сам князь Андрей Орбелиани был в пятидесятые годы фигурой легендарной – герой Крымской кампании, доверенное лицо покойного государя Николая Павловича, человек огромного состояния и, как шептались, еще большего влияния в тех сферах, о которых не пишут в газетах. Он был одним из тех людей, чье имя произносили с почтительным придыханием, чья воля была законом, а недовольство – приговором.
И эта молодая, никому не известная актриса была его… протеже. Его содержанкой. Его собственностью.
Все встало на свои места. Картина, до этого бывшая набором разрозненных мазков, начала обретать страшные, четкие контуры. Исчезновение студента-разночинца. Убийство любовницы одного из самых могущественных людей в государстве. Вмешательство всесильного Третьего отделения. Аккуратная зачистка документов. Приказ об уничтожении дела. Все это складывалось в единую, леденящую кровь мозаику. Преступление было совершено на той высоте, где воздух так разрежен, что законы и мораль перестают действовать. Где человеческая жизнь не стоит ничего по сравнению с честью фамилии и стабильностью системы.
Я закрыл тяжелый том. Звук захлопнувшейся книги гулко разнесся по читальному залу, заставив нескольких жрецов знания недовольно поднять на меня глаза. Я не обратил на них внимания. Я сидел, глядя на свои руки, лежавшие на столе, и они казались мне чужими. Я искал истину в деле об исчезнувшем студенте. А нашел государственную тайну. Я думал, что копаюсь в старой, заброшенной могиле, а оказалось, что я занес кирку над фундаментом одного из самых величественных зданий Империи.
Я встал, сдал книги и вышел из библиотеки. Невский проспект ревел, грохотал, жил своей шумной, самодовольной жизнью. Мимо проносились роскошные кареты с гербами на дверцах, цокали копытами лошади гвардейских офицеров, спешили по своим делам разодетые дамы и солидные господа. Город сиял своим имперским, парадным фасадом. Но теперь я видел его изнанку. Я видел, на каких костях стоит это величие. Я поднял голову и посмотрел на громаду Казанского собора, на атлантов Эрмитажа, на шпиль Адмиралтейства. Все это казалось мне теперь одной гигантской декорацией, скрывающей страшную правду.
Князь Орбелиани. Это имя теперь висело в воздухе, заслоняя солнце. Это был не просто противник. Это была система. Та самая система, которая однажды уже перемолола мою жизнь. И я, отставной, никому не нужный старик, добровольно шел на второй круг.
На Тучковом мосту я остановился. Ледяной ветер с залива пробирал до костей. Внизу, в свинцовой, маслянистой воде Невы, отражались тяжелые, серые облака. Я достал из кармана медальон. Открыл его. Елена Волынская смотрела на меня. Теперь я знал ее имя. И знал имя ее убийцы. Ее взгляд больше не казался мне мольбой о помощи. Теперь в нем был вызов. Он спрашивал меня не «Кто?», он спрашивал меня «Что теперь?». Что ты будешь делать теперь, Алексей Глебович, когда знаешь, с какой силой тебе предстоит схватиться?
Я не знал ответа. Я знал только одно. Дороги назад больше не было. Я нашел имя. И это имя превратило старое, пыльное дело в мой личный приговор.
Наследники князя Орбелиани
Имя Орбелиани не было ключом, отпирающим двери. Оно было стеной. Гладкой, гранитной, уходящей в свинцовые петербургские облака, без единой щели или уступа, за который можно было бы зацепиться. Нанести визит действительному тайному советнику, члену Государственного совета, было для отставного титулярного советника задачей столь же выполнимой, как для мыши попросить аудиенции у кота. Прямой путь был заказан. Он вел в приемную какого-нибудь мелкого секретаря, где мое прошение, написанное на дешевой бумаге, сгинуло бы, не достигнув даже передней.
Нужен был обходной маневр, тропа, известная лишь старым служакам, знающим все ходы и выходы в запутанном лабиринте имперской бюрократии. Эта тропа вела в Департамент Герольдии, где в пыльных кабинетах вершились судьбы дворянских родов, составлялись гербовники и велись родословные книги. Там, среди кип бумаг, досиживал свой век в чине коллежского асессора некто Аполлинарий Маркович Вырубов, человек, чью карьеру я когда-то спас от неминуемого краха, вытащив его имя из одного весьма грязного дела о растрате. Он был мне обязан, и долг этот, невысказанный, но ощутимый, лежал между нами уже два десятка лет.
Я нашел его в маленькой, заваленной фолиантами каморке. Аполлинарий Маркович, с его жидкими, прилизанными волосенками и вечно испуганными глазами, кажется, ничуть не изменился. Он вспотел, едва завидев меня, словно само мое появление воскресило в его памяти призрак былого позора. Я не стал ходить вокруг да около. Я изложил свою просьбу сухо и по-деловому: мне нужно передать личное и конфиденциальное письмо князю Николаю Андреевичу Орбелиани. Не по почте. Не через секретаря. А так, чтобы оно легло ему на стол.
Вырубов слушал, бледнея и обмахиваясь платком. Имя Орбелиани произвело на него то же действие, что и вид синего жандармского жетона на его деда-часовщика. Это был генетический, въевшийся в кровь страх маленького человека перед сильными мира сего. Он лепетал что-то о невозможности, о риске, о том, что князь человек суровый и не терпит беспокойства по пустякам. Я молча смотрел на него. Я ничего не напоминал. Я не угрожал. Я просто ждал. И мой взгляд был тяжелее любых угроз. Наконец он сдался. Скрипнув зубами, он пообещал, что попробует через кузена своей жены, служащего в канцелярии Государственного совета. Это будет стоить ему бутылки хорошего коньяку и, возможно, нескольких бессонных ночей, но он сделает это.
Письмо я составил дома, за своим письменным столом, потратив на него не меньше часа. Каждое слово было взвешено, каждая фраза отточена до холодного блеска. Я представился отставным чиновником сыскной полиции, занимающимся на досуге историческими изысканиями, и упомянул, что при разборе старых архивных дел наткнулся на несколько документов, касающихся одного малоизвестного эпизода из жизни его покойного родителя, князя Андрея Игнатьевича. Я добавил, что один из найденных артефактов, имеющий, несомненно, фамильную ценность, я хотел бы передать ему лично, как законному наследнику. Ни одного намека. Ни одного прямого обвинения. Лишь сухая, почтительная формальность, под которой, как тончайший слой льда над омутом, скрывалась угроза. Я запечатал письмо в плотный конверт из дорогой бумаги, купленной по такому случаю, и на следующий день передал его дрожащему от страха Вырубову.
Ответ пришел через три дня. Это была визитная карточка, доставленная нарочным. Плотный бристольский картон, строгий шрифт без вензелей. «Князь Николай Орбелиани». На обороте каллиграфическим почерком было выведено: «Буду ожидать Вас в среду, в три часа пополудни. Английская набережная, 22».
В назначенный день я надел свой лучший, хотя и вышедший из моды сюртук, тщательно вычистил сапоги и отправился в самое сердце Империи. Путь от моей Гороховой до Английской набережной был не просто перемещением в пространстве. Это был переход через невидимую социальную границу. Чем ближе я подходил к Неве, тем шире становились улицы, выше и величественнее дома. Исчезали мелкие лавки и трактиры, уступая место посольствам и дворцам. Воздух становился чище и холоднее, в нем уже не было запахов угля и щей, а пахло речной водой, дорогим табаком и конским потом породистых лошадей. Здесь даже цокот копыт по брусчатке звучал иначе – неторопливо, властно, уверенно.
Особняк Орбелиани под номером 22 был не просто домом. Он был утверждением. Серый гранит фасада, строгие линии, лишенные всяких архитектурных излишеств, окна, похожие на бойницы, и массивные дубовые двери, окованные темной бронзой. Он не пытался понравиться, он подавлял. Он стоял на берегу Невы, как утес, о который веками разбивались волны времени, интриг и человеческих судеб, оставаясь незыблемым.
Меня встретил швейцар в ливрее, похожий на отставного гвардейского унтер-офицера, высокий и прямой, как аршин. Он принял мою карточку без единого слова, смерив меня взглядом, в котором читалось все – и мое скромное платье, и мое незначительное звание, и мое дерзкое вторжение в этот мир. Он провел меня в вестибюль, где царил холод мрамора и полумрак. Воздух здесь был неподвижен и выстужен, как в склепе. Тишина имела плотность и вес, и мои шаги по каменным плитам отдавались неуместным, вульгарным эхом. Другой слуга, бесшумный, как тень, принял у меня пальто и шляпу и жестом пригласил следовать за ним.
Мы поднимались по широкой парадной лестнице, покрытой темно-красным ковром, который полностью поглощал звук шагов. Стены вдоль лестницы были увешаны портретами. Десятки глаз смотрели на меня из потемневших от времени рам. Мужчины в горностаевых мантиях, в сверкающих кирасах, в строгих сенаторских мундирах. Женщины с высокими прическами, в жемчугах и бриллиантах. Их лица, написанные лучшими художниками своего времени, были похожи одно на другое в своей аристократической надменности, в своей уверенности в праве владеть и повелевать. Это были не просто предки. Это были стражи. Они безмолвно судили каждого, кто осмеливался подняться по этой лестнице, и в их застывших взглядах я читал свой приговор. Я чувствовал себя разночинцем Раскольниковым, идущим на допрос к Порфирию Петровичу, только мой Порфирий был коллективным, родовым, и состоял из десятков поколений тех, кто привык стоять над законом.