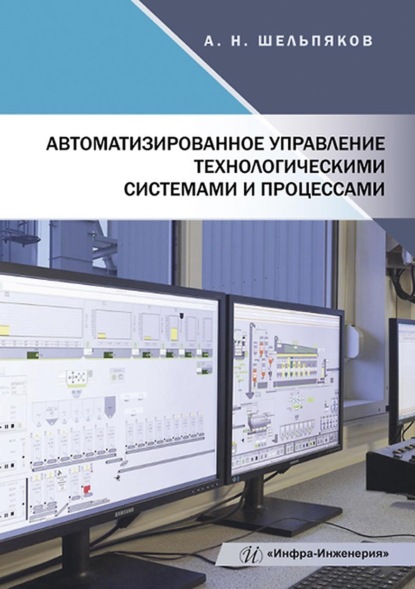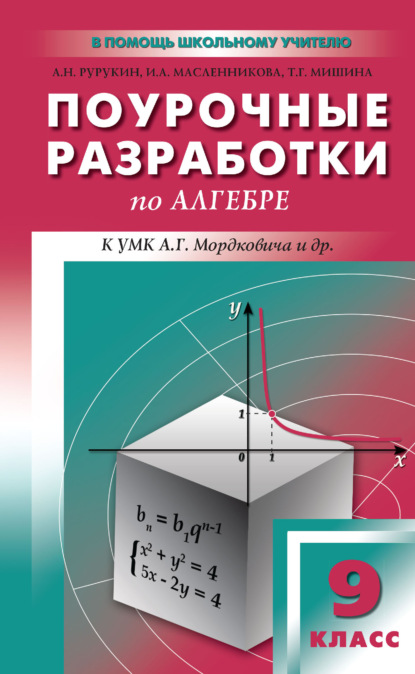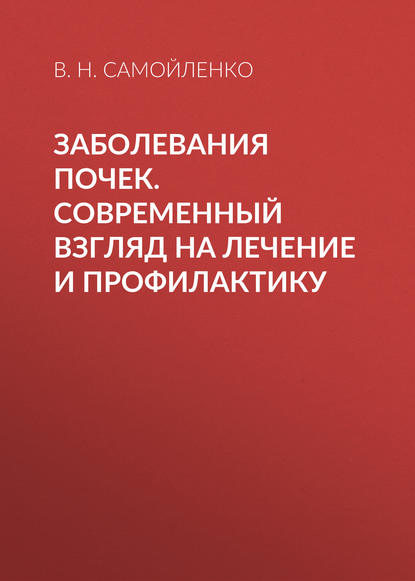Дело на старой веранде

- -
- 100%
- +

Кости под верандой
Октябрь не начинался – он продолжался, будто длился уже целый год, вымочив землю до состояния рыхлого торфа и выстудив воздух до костяной ломоты. Дождь не шел, он висел в воздухе мелкой, назойливой взвесью, оседая на воротниках ватников, на бровях, на сколотых углах старого дома Рудневых. Дом этот, черный от времени и сырости, больше не жил – его разбирали, растаскивали по бревнам, как павшую лошадь растаскивают волки. Четыре мужика из бригады «Заготстроя» работали молча, с какой-то ожесточенной медлительностью. Слова застревали в горле, вязли в этой густой, промозглой тишине, нарушаемой только скрипом ломов да глухим стуком топора по неподатливому дереву.
Бригадир Степан, мужик кряжистый, с лицом, выдубленным ветрами и сорокаградусной, сплюнул на ладони и снова всадил лом в щель между досками веранды. Дерево, пропитанное десятилетиями дождей, поддалось с влажным, рвущимся звуком, похожим на стон. Из-под доски пахнуло. Запах был густой, тяжелый, не похожий на обычную прель подпола. В нем смешались сладость гниющих листьев, острая нота плесени и что-то еще, третье, еле уловимое, отчего внутри неприятно сжималось.
– Сгило тут все к чертям, – прохрипел Митя, самый молодой из бригады, худой парень с вечно испуганными глазами. Он спрыгнул с крыльца и заглянул в образовавшуюся дыру. – Тьма одна.
Степан выворотил доску до конца. Она рассыпалась в руках трухлявой щепой. Теперь дыра была достаточно широкой, чтобы просунуть голову. Но никто не спешил. Запах усилился, стал навязчивым, почти осязаемым. В нем появилась землистая, подвальная глубина.
– Животина какая сдохла, поди, – предположил третий рабочий, пожилой, беззубый Петрович, но сказал это без уверенности, скорее, чтобы нарушить молчание.
Степан молча взял у Мити фонарь – трофейный, немецкий, с тусклой, желтой линзой. Присел на корточки, направил луч в темноту. Свет выхватил спрессованную за годы землю, переплетенные корни, ржавый гвоздь, осколок бутылочного стекла. Он повел лучом дальше, вглубь, под центральную часть веранды. И замер.
– Это что еще за… – начал он и осекся.
Луч фонаря уперся во что-то белое. Неправильно белое. Не камень, не грибок плесени. Форма была знакомой и оттого жуткой. Округлая, с темными провалами глазниц и неестественно широкой, застывшей ухмылкой. Череп. Он лежал на боку, наполовину погруженный в землю, и словно смотрел прямо на Степана.
Митя, стоявший за спиной, тоже увидел. Он тихо охнул и отступил на шаг. Петрович и четвертый, молчаливый Федор, подошли ближе. Теперь смотрели все четверо. Степан медленно повел лучом дальше. Рядом с черепом из земли торчали изогнутые дуги ребер, похожие на обломки старой корзины. Чуть дальше виднелась еще одна кость, длинная, похожая на берцовую. И еще одна. И еще. Это был не просто череп, это был целый скелет, беспорядочно сваленный в яму.
– Война, – выдавил наконец Петрович. – Немец, поди. Или наш, безымянный.
Степан покачал головой. Он прошел всю войну сапером, насмотрелся на останки в любой стадии разложения. Он знал, как выглядят солдатские могилы, даже самые спешные. В них всегда был какой-то порядок, пусть и страшный. Здесь же порядка не было. Была яма, набитая человеческими частями, как мешок – картошкой.
– Не война это, – глухо сказал он. – Не так хоронили. Его… бросили.
Он снова взял лом и с треском оторвал соседнюю доску, потом еще одну. Теперь яма под верандой была видна почти полностью. И то, что они увидели, заставило их замолчать надолго.
Скелет был не один. Их было три. Они лежали друг на друге, в чудовищном переплетении костей. Нижний почти ушел в землю, от него остались лишь самые крупные фрагменты. Средний сохранился лучше, он лежал на спине, раскинув руки, словно в последнем объятии. А верхний, самый недавний, казалось, был сброшен сверху небрежно, как мусор. Его череп и смотрел на них из темноты. Три безмолвных свидетеля, запечатанные под верандой на десятилетия.
Работа встала. Мужики отошли от дома, закурили. Махорка горчила сильнее обычного. Никто не смотрел на особняк, но каждый чувствовал его тяжелый, давящий взгляд. Дом перестал быть просто грудой старых бревен. Он стал местом преступления.
– Надо в милицию, – сказал Митя дрожащим голосом.
– Надо, – согласился Степан, тяжело затягиваясь. – Куда ж теперь денешься.
Участковый Павел Егорович Грачёв приехал через час на своем дребезжащем «ИЖе». Мотоцикл вяз в раскисшей дороге, оставляя за собой глубокую колею. Грачёв был молод, ему не было и тридцати, но война оставила на его лице след глубокой, не по годам зрелой усталости. Он спрыгнул с мотоцикла, отряхнул с сапог комья грязи и подошел к бригаде.
– Что у вас тут? – спросил он без предисловий. Голос у него был ровный, спокойный.
Степан молча кивнул в сторону веранды.
Грачёв подошел, заглянул в дыру. Его лицо на мгновение напряглось, но он не подал виду. Он видел смерть сотни раз – в окопах, в госпиталях, на сожженных полях. Но эта смерть была другой. Тихой, домашней, спрятанной под половицами. Оттого она казалась еще более мерзкой.
– Всем стоять здесь, – приказал он рабочим. – Ничего не трогать.
Он вернулся к мотоциклу, достал вещмешок. Из него извлек папку с бумагами, карандаш и тот же немецкий фонарь, только помощнее. Натянул на руки грубые брезентовые перчатки. Затем, не колеблясь, спрыгнул в яму.
Внизу запах был еще гуще. Запах сырой земли, тлена и застоявшегося времени. Грачёв включил фонарь. Первым делом он осмотрел кости верхнего скелета. Мужской, судя по строению таза. Кости были желтоватые, но крепкие. Он присел на корточки, осторожно разгребая пальцами в перчатках землю вокруг черепа. Ничего.
Он перевел внимание на второй скелет, тот, что лежал на спине. Он был меньше, изящнее. Возможно, женский. Луч фонаря скользнул по черепу, и Грачёв заметил маленькое круглое отверстие у виска. Аккуратное, с ровными краями. Пуля. Он провел пальцем по земле под черепом, нащупал что-то твердое, металлическое. Сплющенный кусочек свинца. Он аккуратно завернул его в носовой платок и положил в карман.
Самый нижний скелет был в худшем состоянии. Кости потемнели, стали хрупкими, почти сливались с землей. Он был почти полностью погребен под своими соседями по могиле. Грачёв начал осторожно разгребать землю и истлевшие остатки одежды вокруг грудной клетки. Его пальцы наткнулись на что-то холодное и круглое. Он извлек находку на свет. Это была пуговица. Серебряная, потускневшая от времени, но все еще сохранившая четкий рельеф. На ней был вытиснен двуглавый орел. Грачёв повертел ее в руках. Таких пуговиц он не видел ни на одной военной форме. Это было что-то старое, дореволюционное.
Рядом с пуговицей он заметил клочок ткани, чудом уцелевший в земле. Это была не грубая солдатская шинель и не крестьянский армяк. Плотная, тяжелая парча с выцветшим, но все еще различимым золотым узором.
Грачёв вылез из ямы. Лицо его было серьезным. Он снял перчатки и сделал несколько записей в своей папке. Каждая буква ложилась на бумагу ровно, четко.
– Это не война, – сказал он, обращаясь скорее к себе, чем к застывшим рабочим. – Это было давно. Очень давно.
Он обошел дом. Особняк смотрел на него пустыми окнами, как слепой старик. Облупившаяся краска, проржавевшая крыша, заросший бурьяном сад, где сквозь переплетение ветвей виднелась покосившаяся беседка. Когда-то здесь кипела жизнь, звучала музыка, смеялись люди. Теперь дом был лишь оболочкой, хранящей в своем чреве страшную тайну.
Из соседних домов уже выглядывали люди. Старуха в темном платке, мужик с топором в руках, остановившийся на полпути к дровянику. Они не подходили близко, просто стояли и смотрели. В их взглядах не было простого любопытства. Был страх. Застарелый, въевшийся страх, который заставлял их держаться подальше от этого места. Они знали или догадывались. Всегда догадывались.
Грачёв подошел к Степану.
– Ты, – он указал на Митю, – поедешь со мной в поселок. Свидетелем будешь. Остальные – здесь. Оцепить веревкой. Никого не подпускать. Я оставлю Федора за старшего. Если кто сунется – гнать в шею. Поняли?
Мужики молча кивнули. Радости от такой ответственности никто не испытывал.
Пока Митя заводил мотоцикл, Грачёв еще раз посмотрел на дом. Веранда с ее вскрытым нутром казалась кровоточащей раной. Он вдруг ясно понял, что это не просто убийство. Это архив. Архив чужих грехов, который пролежал в земле почти тридцать лет. И теперь этот архив вскрыли. А значит, кому-то придется прочитать его до конца.
Он почувствовал, как по спине пробежал холодок, не имеющий ничего общего с осенней сыростью. Это дело было ему не по росту, как отцовский тулуп. Здесь не пахло пьяной поножовщиной или кражей мешка картошки. Здесь пахло старыми деньгами, старыми обидами и той жестокостью, которая не кричит, а шепчет, прячась за респектабельными фасадами. Он – простой участковый, прошедший войну, привыкший к ясным приказам и понятным врагам. А здесь враг был невидим, он растворился во времени, оставив после себя лишь три груды костей и серебряную пуговицу с проклятым орлом.
Грачёв сел в люльку мотоцикла.
– Поехали, – бросил он Мите.
Мотоцикл взревел, разбрызгивая грязь. Уезжая, Грачёв обернулся. Дом Рудневых тонул в серых сумерках. Он молчал. Но участковый уже слышал его голос – тихий, скрипучий шепот, который будет преследовать его в ближайшие дни и ночи. Шепот о том, что прошлое никогда не умирает. Оно просто ждет под гнилыми досками, пока кто-нибудь не придет с ломом. Он знал, что должен доложить обо всем в Калинин. И он знал, что оттуда пришлют кого-то, кто умеет слушать такие дома.
Осенний путь
Водка в граненом стакане казалась мутной, как болотная вода. Я смотрел не на нее, а сквозь нее, на пыльный прямоугольник на стене, где раньше висела их фотография. Пыль не лжет. Она обрисовывает контуры того, чего больше нет, с протокольной точностью. Жена, смеющаяся в объектив. Сын у нее на коленях, серьезный, как маленький комиссар. Шесть лет прошло с той ночи, когда их не стало, а прямоугольник все еще был на месте. Я не стирал его. Это было единственное доказательство того, что они вообще были.
Комната была не жильем, а камерой хранения для одного человека и его воспоминаний. Железная кровать. Стол, заваленный старыми делами, которые я иногда перечитывал, как другие читают романы. Стул. Окно, выходившее на кирпичную стену соседнего дома, вечно мокрую, плачущую ржавыми потеками. Воздух в комнате был плотным, пропитанным запахами холодной махорки, нестираной одежды и той особой пустоты, которая поселяется в доме, когда из него уходит жизнь. Тишина давила на уши, становилась физически ощутимой, как вата, засунутая в горло. Я пил, чтобы разжижить эту тишину, но она только становилась гуще.
Телефон зазвонил. Резко, визгливо, как пила по металлу. В моей камере хранения он был чужеродным предметом, послом из мира, к которому я больше не принадлежал. Я не шелохнулся. Пусть звонит. Пусть надорвется. Трубка дребезжала на рычаге, вибрировала, словно в предсмертных судорогах. Я досчитал до десяти. Он не унимался. Кто-то на том конце провода был очень упрямым. Или очень отчаявшимся. Эти две категории людей всегда находили меня, даже когда я зарывался на самое дно.
Я поднялся. Колени хрустнули. Тело стало чужим, неповоротливым механизмом. Я снял трубку.
– Левандовский.
– Аркадий? Семен Громов. Помнишь такого?
Голос был с хрипотцой, прокуренный, знакомый до последней интонации. Громов. Мы вместе начинали на Петровке. Потом его перевели в область, в Калинин. Хороший был опер. Честный, насколько это слово вообще применимо к нашей работе.
– Помню, – ответил я. – Ты еще жив?
– Живее всех живых, – усмехнулся он в трубку. – Слушай, Аркадий. Дело есть.
– У меня нет дел, Семен. Я на пенсии.
– Это не пенсия, это ты в бутылке утонуть пытаешься. Не выйдет. Я пробовал. Дело есть, говорю. Странное. Не для наших дуболомов.
Я молчал, глядя на мокрую стену за окном. Дождь снова начал накрапывать.
– Что за дело? – спросил я, хотя не хотел спрашивать. Язык сам произнес слова. Это был старый рефлекс, как у цирковой собаки, которая слышит знакомую команду.
– Кости нашли. Под Тверью, в одном поселке. Усадьбу старую разбирали, дворянскую. А под верандой – три скелета.
– Война, – сказал я ровно. – Такого добра по лесам еще на сто лет хватит.
– Не война, – отрезал Громов. – Мой участковый, парень толковый, войну прошел, говорит – не то. Лежат неправильно. И вещички при них… дореволюционные. Пуговица с орлом, парча какая-то. Один, похоже, лет тридцать пролежал. Другой – поменьше. Третий… третий вообще свежий. Словно яму одну и ту же несколько раз вскрывали. Кладбище семейное.
Он замолчал, давая мне переварить. Три скелета. Разное время. Одно место. Это была не просто загадка. Это была система. А я всегда любил системы, даже самые уродливые.
– Почему я? – спросил я. – У тебя там целый угрозыск.
– Угрозыск, – хмыкнул Громов. – Им бы кражу козы раскрыть – уже подвиг. А тут копать надо. Глубоко. В прошлое. В грязь. А мои ребята боятся испачкаться. Им отчеты писать надо, показатели выполнять. А это дело… оно неофициальное. Начальство сказало: списать на бандитов времен революции и забыть. Дом снести, кости захоронить. Конец истории.
– Тогда зачем ты звонишь?
– Потому что мне не нравится, когда истории заканчиваются, не начавшись, – голос Громова стал жестче. – Потому что там люди живут, которые боятся. Я их по глазам вижу. Они знают что-то. Молчат, как рыбы. И потому что я помню, как ты работал, Аркадий. Тебе всегда было плевать на начальство. Тебе была важна только сама задачка. Эта – как раз для твоего кривого ума. Приедешь, посмотришь. Неофициально. Как частное лицо. Расходы я оплачу. Если что найдешь – хорошо. Не найдешь – ну, значит, начальство было право. Просто посмотри. У тебя глаз наметанный. Ты увидишь то, чего другие не видят.
Я снова посмотрел на пустой прямоугольник на стене. Задачка. Он был прав, черт бы его побрал. Мой ум, не занятый делом, начинал пожирать сам себя, перемалывая старые воспоминания, старую боль, старую вину. Он был как мельница, в которую давно не засыпали зерна, и жернова стирали друг друга в пыль. А тут – зерно. Три скелета под гнилой верандой.
– Хорошо, – сказал я. – Диктуй адрес.
Поезд на Калинин отходил поздно вечером с Ленинградского вокзала. Я ехал в общем вагоне, жестком и гулком, как железный ящик. Свет был тусклый, от одной лампочки под потолком, покрытой слоем копоти. Пахло мокрыми шинелями, махоркой, кислым хлебом и человеческой усталостью. Этот запах был главным запахом эпохи. Люди сидели, привалившись друг к другу, спали в неудобных позах, уронив головы на грудь. Их лица в полумраке казались серыми масками, вырезанными из дерева. Демобилизованные солдаты, женщины с детьми, ехавшие в разоренные деревни, мешочники с тощими узлами. Страна ехала, переваливаясь с боку на бок, скрипя и охая, как мой вагон.
Я не спал. Я смотрел в черное окно, где отражалось мое собственное лицо и лица спящих за моей спиной. Иногда черноту прорезали редкие огни станций, выхватывая из темноты облезлые здания вокзалов, фигуры дежурных с фонарями, женщин с ведрами горячей картошки. Поезд замедлял ход, и в вагон врывался холодный, сырой воздух, пахнущий углем и железом. Потом снова рывок, и снова бесконечный стук колес, отбивающий один и тот же ритм: было-прошло, было-прошло.
Это было не просто путешествие. Это было погружение. С каждым километром от Москвы я словно опускался все глубже в прошлое – и страны, и свое собственное. Я вспомнил другую поездку, в сорок первом. Теплушка, набитая такими же молчаливыми мужиками. Тогда мы ехали на фронт. Тогда впереди была ясность. Враг. Задача – убить его. Все просто. А что сейчас? Враг был мертв, но ясности не наступило. Она сменилась вязкой, серой неопределенностью.
В кармане пальто я нащупал маленькую, истертую фотографию, которую всегда носил с собой. Ту самую, что раньше висела на стене. Я не доставал ее, просто держал в руке, чувствуя пальцами гладкую поверхность. Она не грела. Она была якорем, который не давал мне окончательно уплыть. Или, наоборот, тянул на дно. Я и сам уже не знал.
В Калинине я сошел на перрон под мелкий, моросящий дождь. Город, едва начавший отстраиваться после оккупации, выглядел как раненый, который пытается встать на ноги, но снова и снова падает в грязь. Руины соседствовали с наспех сколоченными бараками. Люди шли, опустив головы, пряча лица от дождя и взглядов. У вокзала меня ждала полуторка, покрытая брезентом. За рулем сидел хмурый парень в армейском бушлате. Он не спросил, кто я. Просто кивнул на кузов.
– Садитесь. От Громова.
Я закинул свой тощий вещмешок и залез под брезент.
Дорога в поселок была не дорогой, а направлением. Машину швыряло из стороны в сторону по раскисшей колее. Грязь чавкала под колесами, взлетала комьями, стучала по брезенту. Я сидел на жесткой доске, вцепившись в борт, и смотрел на проплывающий мимо пейзаж. Он был написан одной краской – серой. Серые поля, с которых уже убрали скудный урожай. Серые перелески с голыми, черными деревьями, похожими на обугленные спички. Серые избы с провалившимися крышами. Иногда попадались остовы сожженной техники, вросшие в землю, ставшие частью этого унылого ландшафта.
Война ушла отсюда три года назад, но земля все еще помнила ее. Она кровоточила ржавчиной, была усеяна шрамами воронок и окопов, затянутых жухлой травой. Мир казался выцветшим, лишенным всякой надежды на цвет.
Я думал о трех скелетах. Кто они? Почему их похоронили так, словно избавлялись от ветоши? Убийство – это всегда нарушение порядка. А три убийства в одном месте, растянутые во времени – это уже извращенная форма этого самого порядка. Кто-то методично, год за годом, зачищал пространство вокруг себя, используя землю под верандой как личный архив для своих мертвецов. Это была работа не маньяка, не убийцы в припадке ярости. Это была работа бухгалтера. Кровавого, терпеливого бухгалтера, который аккуратно списывал людей со счетов.
Шофер молчал всю дорогу. Один раз он достал кисет, свернул козью ножку, прикурил и протянул кисет мне. Я отказался. Он пожал плечами и убрал табак. Мы были двумя незнакомцами, запертыми в трясущемся ящике посреди бесконечного осеннего болота. И в этом молчании было больше смысла, чем в тысяче слов. Каждый нес в себе свою войну, свой страх, свою тишину. Говорить было незачем.
Через час тряски машина замедлила ход и съехала с колеи к нескольким домам, разбросанным у кромки леса. Поселок. Он ничем не отличался от десятков таких же, которые я видел по дороге. Несколько уцелевших дореволюционных дач, почерневших и покосившихся, и несколько приземистых послевоенных избушек. Грязь здесь была еще гуще. Дождь, казалось, шел не переставая с самого сотворения мира.
Машина остановилась у крайнего дома, маленького, но еще крепкого. На крыльце стоял молодой человек в милицейской шинели. Он был высокий, широкоплечий, с простым, обветренным лицом и ясными, серьезными глазами. Он смотрел на меня с плохо скрываемым любопытством и толикой недоверия. Это, видимо, и был участковый Грачёв, тот самый «толковый парень».
– Левандовский Аркадий Семенович? – спросил он, протягивая руку. Ладонь была жесткая, мозолистая.
– Он самый, – ответил я, спрыгивая на землю. Сапоги сразу утонули в грязи по щиколотку. Я выпрямился, отряхнул с пальто капли дождя и посмотрел вдаль, туда, куда указывала дорога.
Метрах в двухстах, на небольшом пригорке, темнел силуэт. Большой, разлапистый, он походил на скелет доисторического животного, застывшего посреди серого поля. Два этажа, мезонин, остатки колонн. И веранда, зияющая черной дырой. Дом Рудневых.
Он стоял молча, окутанный туманом и дождем. Но я уже чувствовал его. Чувствовал холод, который исходил не от погоды. Это был холод застоявшегося времени, холод невысказанных тайн и застарелой крови, въевшейся в дерево.
– Вот он, наш ребус, – сказал Грачёв, проследив за моим взглядом. Голос у него был глухой.
Я кивнул. Я приехал. Путь закончился. Моя апатия, моя московская тишина остались где-то там, за сотнями километров разбитых дорог. Здесь была работа. Здесь был сломанный механизм, который нужно было разобрать по косточкам. Буквально. Я достал из кармана папиросы, закурил. Дым смешался с влажным воздухом.
– Ведите, – сказал я Грачёву. – Показывайте ваше кладбище.
И мы пошли по грязи к дому, который ждал. Он ждал долго. Теперь он дождался.
Дом, который ел своих хозяев
Грязь под сапогами была жирной, голодной. Она чавкала, присасывалась, не хотела отпускать, словно пыталась утянуть в свою безразличную, холодную утробу. Каждый шаг требовал усилия, воли. Грачев шел впереди, привычно, не выбирая дороги. Для него это была просто работа. Для меня – ритуал погружения. Мы не говорили. Слова тонули в этой вязкой тишине, разбавленной лишь шелестом дождя по брезенту моей шляпы и скрипом старых деревьев в запущенном парке.
Дом вырастал из тумана медленно, нехотя, как больной из забытья. Он не был просто старым. Старость бывает благородной, как морщины на лице мудреца. Это было гниение. Дерево стен потемнело, местами покрылось зеленым бархатом мха. Резьба на карнизах оплыла, потеряла форму, будто таяла под нескончаемыми дождями. Окна, без стекол, с забитыми кое-как досками, смотрели слепыми глазницами мертвеца. Он не просто стоял на земле. Он врос в нее, пустил корни, и теперь земля медленно забирала его обратно.
– Оцепили сразу, как только наткнулись, – глухо сказал Грачев, не оборачиваясь. – Мужики рабочие сидят в правлении, водку пьют. Боятся. Говорят, место нечистое.
– Они правы, – ответил я. – Только нечисть тут не из тех, что креста боится.
Мы подошли к веранде. Или к тому, что от нее осталось. Часть крыши обвалилась, открыв небу почерневшие стропила. Половицы были вскрыты, словно грудная клетка при анатомическом вскрытии. Края досок были трухлявыми, рассыпались в пальцах влажной коричневой пылью. Внизу, под тем местом, где когда-то, наверное, стояло кресло-качалка и пили чай, зияла яма. Неглубокая, метра полтора. Сырая земля, перемешанная с истлевшими листьями, строительным мусором и чем-то еще. Запаха не было. Не тот резкий запах разложения, который я знал по своей работе. Этот был другим. Глубоким, въевшимся, сладковато-земельным. Запах времени, переварившего плоть.
– Вот здесь, – Грачев ткнул сапогом в край ямы. – Лежали один на другом. Верхний почти на поверхности, нижнего пришлось откапывать. Словно в несколько приемов закладывали.
Я опустился на колено, не обращая внимания на мокрую грязь. Земля под верандой была плотной, слежавшейся. Она хранила секреты лучше любого сейфа. Я зачерпнул горсть. Холодная, липкая. Просеял сквозь пальцы. Ничего. Обычная земля. Но я смотрел не на нее. Я смотрел на саму яму, на ее структуру. Это была не могила. Могилу копают с уважением или со страхом. Эту яму вырыли торопливо, небрежно. Просто дыра, чтобы спрятать мусор. Человеческий мусор.
– Что нашли? Кроме костей.
Грачев протянул мне небольшой сверток из мешковины. Я развернул его на уцелевшей ступеньке. Внутри лежали две вещи. Первая – серебряная пуговица. Тусклая, покрытая черным налетом, но форма сохранилась идеально. На ней был вытиснен какой-то герб: переплетенные буквы, кажется, «Р» и «К», под маленькой короной. Работа тонкая, дорогая. Такую не пришьют к крестьянской рубахе или солдатской гимнастерке.
Второй предмет был комок истлевшей ткани. Когда-то это был, наверное, бархат или тяжелый шелк винного цвета. Сейчас он распадался от прикосновения, но в одном месте сохранился крошечный фрагмент золотой вышивки. Узор был сложный, растительный. Я поднес его к глазам. Это была часть манжеты или воротника. Женского платья. Очень дорогого.
– Жертвы не были простыми людьми, – сказал я вслух, скорее для себя, чем для Грачева.
– Это мы и без вас поняли, Аркадий Семенович, – пробурчал участковый. – Дворяне, поди. Или купцы какие. В девятнадцатом году тут всякое бывало. Красные грабили, белые грабили, зеленые тоже не отставали. Списали бы на них, и дело с концом.
Я не ответил. Я смотрел на пуговицу. Она была застегнута. Это значило, что ее срезали не с одежды, а оторвали вместе с куском жилета или сюртука. Возможно, в борьбе. Или же человек был уже мертв, и его тащили, цепляясь за одежду.
– Всю землю из ямы собрали?