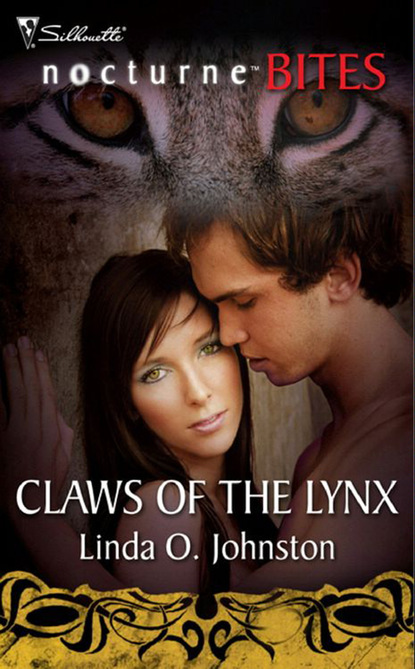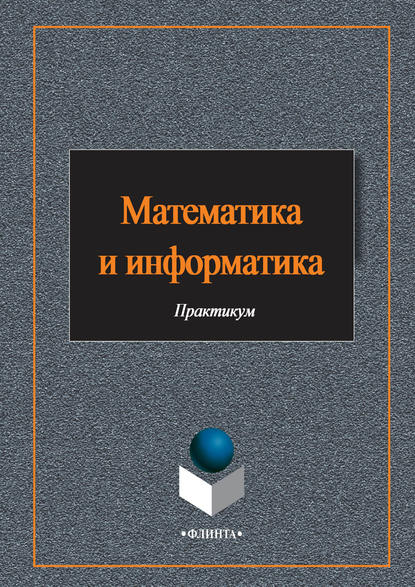Дело на старой веранде

- -
- 100%
- +
– Так точно. В мешки сложили. В сарае стоят.
– Хорошо. После осмотра дома прикажете просеять ее. Каждую горсть. Через мелкое сито. Мне нужно все, что не является землей, камнями или корнями. Зубы, пули, монеты, осколки. Все.
Грачев посмотрел на меня с удивлением, но кивнул. Он был исполнителен. Это хорошее качество. Оно избавляло от необходимости объяснять, что дьявол, как и истина, всегда в мелочах.
Я поднялся и шагнул через порог в дом.
Воздух внутри был неподвижным и тяжелым, как вода на дне колодца. Он ударил в ноздри сложным букетом запахов: острая вонь плесени, сухая, щекочущая горло пыль, и тот самый сладковатый, едва уловимый оттенок тлена, который я почувствовал у ямы. Здесь он был сильнее. Дом дышал им.
Мы оказались в просторном холле. Сквозь заколоченные окна пробивались тонкие полоски серого света, рисовали на полу и стенах косые решетки. В этих полосках, как насекомые в янтаре, застыли, кружась, мириады пылинок. С потолка свисали клочья паутины, похожие на седые волосы. На стенах, под облупившейся штукатуркой, проступали контуры когда-то висевших картин – более темные прямоугольники на выцветшем фоне. Призраки фамильных портретов. Они смотрели на меня с пустых стен, и я почти слышал их безмолвный вопрос: «Кто ты такой?».
Под ногами скрипнула половица. Звук был громким, протестующим. Он прокатился по всему дому, разбудив эхо в дальних комнатах. Этот дом не любил чужаков. Он привык к тишине. Или к тем звукам, которые стали частью его жизни – скрипу половиц под знакомыми шагами, шепоту в темных углах, может быть, даже крикам, которые впитали в себя эти стены.
– Гостиная, – Грачев указал на широкую двустворчатую дверь.
Одна створка была сорвана с петель и прислонена к стене. Мы вошли. Огромная комната, должно быть, бывшая бальная зала. Высокие потолки с осыпавшейся лепниной. В углу – рояль с поднятой крышкой, похожий на черный гроб. Клавиши были выбиты, струны порваны и торчали во все стороны, как ребра скелета. Я подошел и нажал на уцелевшую клавишу. Рояль издал глухой, дребезжащий стон. Звук агонии.
Я прошелся по комнате, оставляя на толстом слое пыли четкие следы. Мои шаги были первым событием, произошедшим здесь за много лет. Я был нарушителем, вторгшимся в чужой, застывший сон. В дальнем конце комнаты, у окна, выходившего в заросший сад, валялись осколки фарфора – остатки разбитой вазы. А рядом, на полу, я увидел темное пятно. Старое, въевшееся в дерево. Я присел на корточки, коснулся пальцем. Сухое, шершавое. Это могло быть что угодно. Пролитое вино. Чернила. Но расположение… оно было похоже на брызги.
– Что там? – спросил Грачев, подходя ближе.
– Ничего, – ответил я, поднимаясь. – Просто тень. Здесь все – просто тени.
Мы прошли дальше. Столовая с длинным дубовым столом, покрытым липкой пылью. Кухня с огромной русской печью, в зеве которой чернела вековая сажа. Везде одно и то же: запустение, разруха, следы поспешного бегства. Или не бегства. Скорее, внезапной остановки жизни. Как будто в один момент все просто встали и вышли. Или их вынесли.
– Кабинет, – сказал Грачев, толкая тяжелую, обитую кожей дверь.
Эта комната отличалась от остальных. Она была меньше, темнее. И в ней сохранился порядок. Жуткий, неживой порядок. Вдоль стен – книжные шкафы с пустыми полками. Книги, видимо, давно растащили на растопку. Посреди комнаты – массивный письменный стол. На нем не было ни пылинки. Кто-то ухаживал за этим местом. Или приходил сюда, чтобы вспомнить.
Я подошел к столу, провел рукой по гладкой, холодной поверхности. Дерево было почти черным, полированным. Я выдвинул ящик. Пусто. Другой. Третий. Все были пусты. Но в последнем, на самом дне, я нащупал неровность. Ногтем подцепил край. Двойное дно. Тайник. Я посмотрел на Грачева. Он наблюдал за мной, не двигаясь. Я медленно поднял фальшивую панель.
Внутри лежала единственная вещь. Маленькая фотография в овальной рамке. Я достал ее. С карточки на меня смотрел мальчик. Лет семи-восьми. Светлые волосы, серьезные, не по-детски взрослые глаза. Он был одет в матросский костюмчик и сидел на стуле, крепко сжимая в руках деревянную саблю. Фотография была старая, выцветшая, но лицо ребенка было видно отчетливо. В его взгляде не было страха. Было удивление. И какая-то тихая печаль.
– Кто это? – спросил Грачев шепотом.
– Один из хозяев, – сказал я, переворачивая рамку. На обратной стороне выцветшими чернилами было написано: «Алеша. 1926 год».
Я положил фотографию обратно и закрыл тайник. Этот мальчик. Что с ним стало? Вырос? Уехал? Или…
Я отошел от стола и начал осматривать пол. Паркет был темный, дубовый. У самого стола, там, где должно было стоять кресло, доски были светлее, потертые. Но не это привлекло мое внимание. Сбоку, ближе к камину, несколько половиц отличались по цвету. Они были чуть темнее, и фактура дерева на них была смазана. Словно их скоблили. А потом покрыли лаком или морилкой, пытаясь скрыть следы.
Я снова опустился на колени. Провел пальцами по доскам. Гладкие. Слишком гладкие. Я достал из кармана перочинный нож и кончиком лезвия осторожно поскреб в щели между половицами. На лезвии осталась крошка чего-то темного, почти черного, с красноватым оттенком. Я поднес к носу. Запаха не было. Слишком много времени прошло.
– Сюда, – позвал я Грачева. – Посвети.
Участковый достал из кармана тяжелый фонарь, щелкнул тумблером. Яркий желтый луч вырвал из полумрака кусок пола. Теперь я видел отчетливо. Пятно. Большое, неправильной формы. Его пытались оттереть, но оно въелось в дерево. Кровь впитывается глубоко. Ее почти невозможно вывести до конца. Она остается в порах древесины навсегда, как молчаливый свидетель.
– Думаете, кровь? – голос Грачева был напряжен.
– Думать – это роскошь. Я протоколирую. Пол в кабинете имеет следы зачистки. Причина неизвестна.
Я встал и отряхнул колени.
– Пойдем наверх.
Лестница на второй этаж была широкой, с резными перилами. Но каждая ступенька стонала под нашим весом, будто жаловалась на боль. Второй этаж был царством спален. Двери были распахнуты, приглашая войти. Мы заглянули в несколько комнат. Везде та же картина: пустые кровати с проржавевшими сетками, разбитые зеркала трюмо, шкафы с выломанными дверцами. В одной из комнат на полу валялся одинокий детский ботинок. Маленький, стоптанный. Он лежал так, словно его только что потеряли.
Но одна дверь была закрыта.
Я взялся за ручку. Заперто.
– Ломать? – спросил Грачев.
– Подожди.
Я осмотрел замок. Старый, врезной. Ключа не было. Я приложил ухо к двери. Тишина. Но не такая, как во всем доме. Эта была другой. Напряженной. Словно за дверью кто-то затаил дыхание. Чушь. Просто игра воображения.
– Давай, – сказал я.
Грачев навалился плечом. Дверь затрещала, но выдержала. Он навалился еще раз. С треском сухого дерева замок вылетел из гнезда, и дверь распахнулась внутрь.
Комната была маленькой, почти пустой. Узкая железная кровать, маленький столик. Окно с решеткой. Больше похоже на тюремную камеру, чем на спальню в дворянском особняке. Но не это было странным. Я подошел к двери и осмотрел ее с внутренней стороны.
Она была вся исцарапана.
Длинные, глубокие борозды шли сверху вниз. Словно кто-то царапал ее ногтями. Отчаянно, долго, пытаясь выбраться. У самого пола царапины сходились в одну точку, образуя неглубокую выемку. Я провел по ней пальцем. Дерево было отполировано до блеска.
Кто-то сидел здесь, на полу, прижавшись спиной к стене, и год за годом, день за днем, царапал эту дверь.
– Что за чертовщина… – пробормотал Грачев.
Я молчал. Я пытался представить этого человека. Его отчаяние. Его безнадежность. Это не была комната для сна. Это была комната для медленного умирания.
На чердак вела узкая, почти вертикальная лесенка. Грачев лезть отказался, сославшись на то, что ступеньки гнилые. Я полез один. Фонарь в зубах, я карабкался вверх, в пыльную темноту.
Чердак был завален хламом. Сломанная мебель, старые сундуки, дырявые ведра. Воздух был сухим и пах мышами. Луч фонаря скользил по стропилам, выхватывая из темноты коконы паутины, похожие на саваны. Я прошелся вдоль центральной балки, стараясь не наступать на прогнившие доски. В дальнем конце чердака, у торцевой стены, я заметил нечто странное. Кирпичная кладка дымохода была ровной, покрытой слоем сажи. Но рядом с ней, в деревянной обшивке стены, была какая-то… пустота. Нет, не дыра. Просто участок стены, где доски прилегали друг к другу не так плотно. И цвет дерева был другой. Свежее. Словно этот кусок стены когда-то вынимали, а потом поставили на место.
Я постучал по нему костяшками пальцев. Звук был глухой, но за ним, как мне показалось, была пустота. Небольшое пространство. Тайник? Или что-то еще?
Я запомнил это место. Еще одна зарубка в памяти. Этот дом был как шкатулка с секретом. Вернее, как матрешка. Открываешь одну тайну, а внутри еще несколько, одна страшнее другой.
Мы спустились вниз. Снаружи уже начало темнеть. Серый дневной свет сменился лиловыми сумерками. Дождь прекратился, но с мокрых веток все еще падали тяжелые капли. Я снова вышел на веранду и закурил. Дым был горьким, но он очищал легкие от пыли и запаха тлена.
Грачев стоял рядом, молчал. Он ждал распоряжений. Он уже понял, что это дело не про бандитов и не про революцию. Оно было гораздо хуже. Оно было про людей.
– Значит, так, – сказал я, выбрасывая папиросу. – Дом опечатать. Никого не пускать. Даже партийное начальство. Сошлись на меня, скажи, следователь из Москвы приказал. Пусть Громову звонят, он подтвердит.
– Сделаю.
– Землю из-под веранды просеять сегодня же. Все, что найдете, в отдельный пакет и мне на стол.
– Есть.
– И последнее. Мне нужны списки. Всех, кто жил в этом доме с, допустим, восемнадцатого года. И всех, кто живет в поселке сейчас. Особенно старожилов. Мне нужны их истории. Официальные и те, что они рассказывают шепотом после второй стопки.
– Это будет непросто, Аркадий Семенович. Люди здесь молчаливые.
Я посмотрел на темнеющий силуэт дома. Он смотрел на меня в ответ своими пустыми глазницами.
– Я знаю, – сказал я. – В этом доме молчат даже мертвые. Придется заставить говорить живых.
Я уходил от особняка, не оглядываясь. Но я чувствовал его взгляд в спину. Холодный, тяжелый, внимательный. Он не был просто местом преступления. Он был соучастником. Он видел все, он помнил все. Он переварил своих хозяев, спрятал их кости, впитал их кровь и страх. И теперь он ждал, кто кого. Я его или он меня. Это дело перестало быть для меня просто задачкой. Оно стало личным. Этот дом был оскорблением порядка. И я собирался разобрать его по бревнышку, по дощечке, по самому последнему гвоздю, пока он не отдаст мне все свои тайны.
Мария
Флигель, где доживала свой век последняя из Рудневых, был пристройкой, вросшей в бок большого дома, как гриб-паразит в тело умирающего дерева. От главного крыльца к нему вела едва заметная тропинка, вытоптанная в глинистом месиве. Мы шли по ней с Грачевым, и каждый шаг отдавался в ушах влажным, сосущим звуком. Воздух здесь был другим. Если в самом особняке пахло пылью и забвением, то здесь, у жилья, к этому букету примешивался тонкий, едва уловимый запах дыма из трубы и чего-то кислого, больничного – то ли валерьянки, то ли отвара из трав. Запах выживания.
Дверь была обита черным дерматином, из прорех которого торчала свалявшаяся пакля. Грачев постучал – негромко, но настойчиво. Три костяных удара, прозвучавшие в этой тишине как выстрелы. За дверью наступила пауза. Не та пауза, когда человек идет из дальней комнаты, а та, когда он стоит у самого порога, не дыша, и решает, стоит ли впускать беду. Наконец, послышался шорох, скрежет засова, который не смазывали, казалось, с самой революции.
Дверь приоткрылась на ширину ладони. В щели показался глаз. Выцветший, испуганный, окруженный сеткой мелких, как паутина, морщин.
– Кто? – голос был тихим, надтреснутым, как старый фарфор.
– Милиция, Мария Петровна, – ровно ответил Грачев. – Поговорить нужно.
Засов проскрежетал снова, и дверь открылась.
Женщина на пороге была похожа на собственную тень. Высокая, когда-то, должно быть, статная, сейчас она ссутулилась, будто невидимый груз давил ей на плечи. Темное платье без всяких украшений висело на ней, как на вешалке. Седые волосы были туго стянуты в узел на затылке, открывая высокий, чистый лоб, на котором застыла одна-единственная складка – след долгой, сосредоточенной тревоги. Но главным были глаза. Огромные, серые, они смотрели мимо нас, сквозь нас, на что-то, что видели только они. В их глубине не было слез. Там была сушь, выжженная пустыня, где когда-то плескалось море горя.
– Проходите, – сказала она без всякого выражения, отступая в темную прихожую.
Внутри было тесно и до стерильности чисто. Эта чистота была не от любви к порядку, а от страха перед хаосом. Накрахмаленная салфетка на тумбочке, выскобленный до желтизны деревянный пол, медный таз в углу, начищенный до такого блеска, что в нем искаженно отражалось мое лицо. Пахло дешевым мылом и сушеными травами, висевшими пучками у печки. Это было убежище. Маленькая крепость, осажденная со всех сторон миром, прошлым и собственной памятью.
Она провела нас в единственную комнату. Железная кровать, покрытая лоскутным одеялом. Стол у окна, накрытый скатертью с вышитыми по углам васильками. В красном углу – темная икона в простом окладе, перед которой теплилась крошечная лампадка. Ее неровный свет выхватывал из полумрака лицо Богоматери – скорбное и всепонимающее.
– Садитесь, – она указала на две табуретки, а сама осталась стоять у печи, прижавшись к теплым кирпичам, словно ища у них защиты. Руки ее были сцеплены в замок на животе. Пальцы – длинные, аристократические – непрерывно и мелко подрагивали.
Я сел. Грачев остался у двери, превратившись в часть интерьера. Я не спешил. Я дал тишине сделать свою работу. Она сгустилась, стала почти осязаемой. В ней громко, как молот по наковальне, стучал ходики на стене. Тик-так. Тик-так. Отсчитывали время, которого у этой женщины, казалось, уже не осталось.
– Мария Петровна, – начал я тихо, почти безразлично. – Вы – вдова Петра Игнатьевича Руднева, последнего официального владельца усадьбы?
Она кивнула. Один резкий, птичий кивок.
– Ваш муж пропал без вести на фронте?
– Погиб, – поправила она. Голос был ровным, заученным. – Похоронка пришла в сорок третьем. Под Курском.
– Ясно. А вы живете здесь с тех пор?
– Здесь я родилась. Здесь и умру. Куда мне еще идти? Нас… таких… нигде не ждут.
Она произнесла это «таких» с едва заметной горечью. Клеймо. «Бывшие». Невидимая татуировка на лбу, которую не смыть ни временем, ни лояльностью новой власти.
– Нам известно, что при разборе старой веранды были сделаны находки, – я перешел к делу, но все так же спокойно, будто сообщал о погоде.
Ее пальцы сжались сильнее, побелели костяшки.
– Я слышала, – прошептала она. – Рабочие говорили. Кости. Война… Столько народу полегло.
– Это не военные, Мария Петровна. Экспертиза это подтвердит. Останки пролежали в земле очень долго. Некоторые – лет тридцать.
Тик-так. Тик-так. Часы отбивали секунды. Она молчала. Ее лицо превратилось в маску. Ни одной эмоции. Только глаза стали еще темнее, еще глубже.
– Я ничего не знаю об этом, – сказала она наконец. Слова прозвучали глухо, как будто она произнесла их со дна колодца. – Дом старый. Проклятый. В нем всегда что-то случалось. Дед мой говорил, что еще при его отце тут утопленницу из пруда вытащили. Место такое.
– Место, – согласился я. – Или люди. Скажите, вы помните конюха Ивана? Он служил у вашего отца вплоть до девятнадцатого года.
Ее плечи едва заметно дрогнули.
– Я была тогда ребенком. Смутно помню. Кажется, был такой. Говорили, он сбежал, украв у отца деньги и драгоценности. Время было такое… страшное.
– Да, страшное. Все спишет, – я помолчал. – А сестру вашу, Аглаю Петровну, вы помните хорошо?
Удар достиг цели. Ее маска треснула. По щеке медленно, словно нехотя, поползла слеза. Одна-единственная. Она не смахнула ее. Она дала ей дойти до подбородка и там застыть блестящей каплей.
– Аглая… – выдохнула она. – Она уехала. В двадцать четвертом. За границу. К родственникам в Париж.
– Есть письма от нее? Хоть одно?
– Нет. Связь прервалась. Вы же знаете, как тогда было. Писать из-за границы – все равно что донос на себя и на родных отправить.
– Знаю, – кивнул я. – Поэтому и спрашиваю. Очень удобно. Человек исчезает, а всем говорят, что он уехал в Париж. И никто не проверит. Никто не спросит. Правда, Мария Петровна?
Она отвернулась к окну. За мутным стеклом не было ничего, кроме серого неба и черных, мокрых веток. Она смотрела туда, в эту пустоту, словно искала там ответы. Или спасение.
– Я не понимаю, о чем вы, – ее голос зазвенел от сдерживаемого напряжения. – Вы пришли обвинять меня? В чем? В том, что я родилась в этом доме? В том, что дожила до седых волос, похоронив всех, кого любила?
– Я никого не обвиняю. Я ищу факты. В земле под верандой вашего родового дома лежат три трупа. Это факт. Один из них, возможно, тот самый конюх, что «сбежал с деньгами». Второй, возможно, женщина, которая «уехала в Париж». Я просто складываю два и два.
Я достал из кармана платок, в который завернул пуговицу. Развернул и положил ее на стол, на белоснежную скатерть. Тусклый кусочек серебра на фоне вышитых васильков. Получился натюрморт. Смерть среди уюта.
– Вам знакома эта вещь?
Она бросила на пуговицу короткий, панический взгляд и тут же отвела глаза, словно обожглась.
– Нет. Я никогда ее не видела.
Она лгала. Бездарно, отчаянно. Вся ее фигура кричала об этом. Я видел, как напряглась ее спина, как она втянула голову в плечи.
– Это пуговица с гербом. На ней две буквы. «Р» и «К». Рудневы и… кто еще? Ковалевы? Был такой фабрикант в уезде, Ковалев. Конкурент вашего деда. Он тоже исчез в девятнадцатом. Говорят, эмигрировал. У вас в семье все любили эмигрировать, когда становилось неудобно.
– Уходите, – прошептала она. – Умоляю вас, уходите. Оставьте мертвых в покое. Их не вернуть. А живым вы сделаете только хуже.
– Хуже, чем есть? – я усмехнулся. – Мария Петровна, вы живете в тени этого дома, как в тюрьме. Вы боитесь каждого шороха. Вы вздрагиваете от стука в дверь. Разве это жизнь? Иногда правда, даже самая страшная, приносит облегчение. Как операция, которая удаляет опухоль. Больно, но потом можно дышать.
– Вы ничего не понимаете, – она повернулась ко мне. Ее глаза горели сухим, лихорадочным огнем. – Правда не лечит. Она убивает. Она сжигает все дотла. И тех, кто виноват, и тех, кто просто стоял рядом.
Она вдруг засуетилась, подошла к столу.
– Вы, должно быть, с дороги… Холодные… Я сейчас чаю согрею.
Это был маневр. Попытка сменить тему, спрятаться за привычными, домашними ритуалами. Вернуться в мир, где есть только заварка, кипяток и скатерть с васильками. Где нет костей под верандой и призраков прошлого.
– Не беспокойтесь, – сказал я, но она уже не слушала.
Она двигалась по своей маленькой комнате, как автомат. Достала с полки чайник, загремела чашками. Ее движения были резкими, порывистыми. Я наблюдал за ней, не двигаясь. Я видел, как трясутся ее руки, когда она наливает воду из ведра. Как она просыпает заварку мимо жестяной банки. Она пыталась построить вокруг себя стену из бытовых мелочей, но стена эта была картонной.
Я дал ей довести этот спектакль до конца. Она поставила на стол две чашки с мутной, слабой заваркой и блюдце с колотым сахаром. Села напротив. Взяла чашку обеими руками, чтобы скрыть дрожь, и сделала маленький глоток. Я к своей не притронулся.
– Вы сказали, дом проклят, – я вернулся к началу разговора, разрушая ее хрупкое укрытие. – Что вы имели в виду?
– То и имела, – она не смотрела на меня, ее взгляд был прикован к чашке. – В нем умирали. Не своей смертью. Отец… он застрелился. В тридцать седьмом. Когда за его партнером пришли. Сказал, что не хочет ждать своей очереди. Мать после этого угасла за год. Муж… погиб. Сын…
Она запнулась. Ее дыхание перехватило.
– Сын? – мягко подтолкнул я. – Что с вашим сыном?
– Он… утонул, – выдавила она. – В речке. Десять лет назад. Ему было восемь. Несчастный случай.
Восемь лет. Алеша. 1926 год. Фотография из тайника в столе всплыла у меня перед глазами. Серьезный мальчик в матроске. Если он родился в двадцать шестом, то в тридцать седьмом ему должно было быть одиннадцать, а не восемь. Мелочь. Нестыковка. Люди часто путают даты, особенно когда говорят о горе. Но в моем ремесле не бывает мелочей. Бывают ниточки, за которые нужно тянуть.
– Мои соболезнования, – сказал я ровным голосом. – Потерять ребенка – самое страшное.
Она ничего не ответила. Просто сидела, сгорбившись над своей чашкой, и ее плечи мелко-мелко тряслись. Она не плакала. Она просто рассыпалась на части изнутри.
Я понял, что на сегодня достаточно. Давить дальше – значило сломать ее. А сломанный свидетель бесполезен. Она была ключом, это я чувствовал каждой клеткой. Но ключ этот был хрупким, заржавевшим. Одно неверное движение в замке – и он обломится, навсегда оставшись в скважине.
Я встал.
– Спасибо за чай, Мария Петровна. Мы, возможно, еще зайдем.
Она даже не подняла головы. Словно окаменела.
– У меня к вам будет одна просьба, – добавил я уже у двери. – Если вы что-нибудь вспомните… что-нибудь важное… дайте знать участковому. Не пытайтесь действовать сами. В вашем доме поселилось зло. Очень старое. И оно не любит, когда его тревожат.
Грачев вышел первым. Я задержался на пороге на секунду. Она все так же сидела за столом. Ее фигура в сером полумраке комнаты была похожа на памятник скорби. Но я видел не только горе. За ним, в том, как она сжимала чашку, как низко опустила голову, пряча лицо, проступало что-то еще. Стыд. Вина. Не та вселенская вина выжившего, которую я видел у сотен людей, прошедших войну. Это была другая, конкретная, адресная вина. Она была не просто жертвой проклятого дома. Она была его хранительницей. И соучастницей его молчания.
Мы вышли на улицу. Сырой вечерний воздух ударил в лицо, очищая легкие от спертой атмосферы ее комнаты. Уже почти стемнело. В единственном окне флигеля зажегся тусклый желтый свет. Маленький огонек в океане осенней тьмы. Осажденная крепость.
– Ну что, Аркадий Семенович? – нарушил молчание Грачев. – Пустая трата времени. Боится, как все. И ничего не скажет.
– Она уже сказала, Павел Егорыч. Даже больше, чем думает, – ответил я, закуривая. – Она не боится нас. Она не боится власти. Она боится правды. Это совсем другой страх. Он не заставляет молчать. Он заставляет лгать.
Я затянулся горьким дымом и посмотрел на черный силуэт большого дома. Он нависал над маленьким флигелем, как огромная хищная птица над гнездом. Я подумал о царапинах на двери запертой комнаты. О выскобленном пятне крови на полу в кабинете. О фотографии мальчика в тайнике. И о женщине, которая сидит сейчас в освещенном окне и пьет остывший чай, пытаясь согреть душу, в которой давно поселился вечный лед.
Она знала все. Или почти все. Какая-то клятва, данный или вынужденный обет молчания, держал ее язык крепче любых замков. Но в каждой лжи есть трещина. И я собирался найти ее. Даже если для этого придется расковырять всю ее жизнь до самого основания.
Первое досье
Дождь прекратился. Но лучше не стало. Сырость просто сменила агрегатное состояние: из падающей воды она превратилась в густой, обволакивающий туман, который полз от реки, цепляясь за голые ветки деревьев и оседая на стеклах крошечного окна моей временной каморки. Комната, выделенная мне в здании сельсовета, пахла мышами, мокрой штукатуркой и скукой. Железная кровать с провисшей сеткой, стол, хромой стул и голая лампочка под потолком, испачканная мухами. Обстановка, располагающая либо к написанию доноса, либо к самоубийству. Я выбрал третье.
Стакан был граненый, тяжелый. Водка – ледяная, из бутылки, которую я держал за окном, в авоське. Я налил до краев, не глядя. Выпил залпом, не закусывая. Огонь прошел по пищеводу, ударил в желудок, и по телу медленно поползла теплая, тяжелая волна. Она не приносила облегчения. Она просто отодвигала реальность на расстояние вытянутой руки, заключая ее в мутное стекло, сквозь которое все казалось чуть менее резким, чуть менее отвратительным.
Передо мной на столе лежал блокнот. На чистой странице было выведено одно слово: «Мария». Я смотрел на него, и в голове снова и снова прокручивался наш разговор. Ее испуганные глаза, в которых ужас был так глубок, что давно вытеснил все остальные чувства. Ее дрожащие руки, пытающиеся построить баррикаду из чайной чашки. Ее ложь. Ложь была не в словах, а в паузах между ними. В том, как она отводила взгляд, когда я упоминал сестру. В том, как сбилась, говоря о возрасте утонувшего сына. Она была живым сейфом, набитым чужими тайнами, и ржавела изнутри под их тяжестью. Каждая ее фраза была как кость, брошенная собаке, – чтобы отвлечь, увести в сторону от главного. А главное пряталось там, в глубине, и сторожило его нечто более сильное, чем страх перед человеком в потертом пальто.