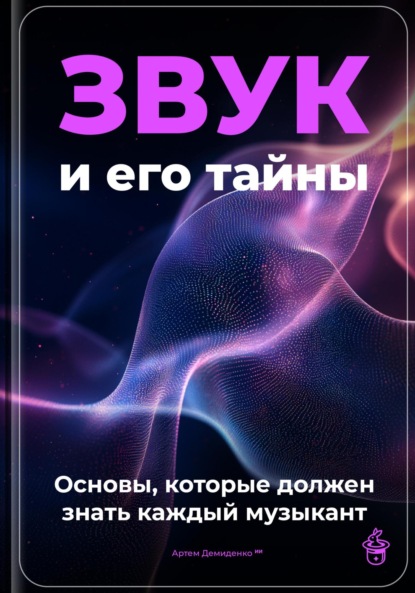Дело о госпитальной сестре

- -
- 100%
- +
Прасныш. Название кольнуло память. Лето пятнадцатого года. Катастрофа. Великое отступление, оставившее врагу Польшу, Галицию, часть Прибалтики. Праснышская операция была одним из самых кровавых и неудачных эпизодов этого отступления. Огромные потери, неразбериха, слухи о предательстве в штабах, о снарядном голоде, о бездарном командовании. Белозерцев помнил сухие сводки Ставки и то, о чем шептались в кулуарах – о прорыве немцев там, где его не ждали, словно кто-то указал им самое уязвимое место в обороне.
Он отложил папку Григорьева и взялся за следующую. Поручик Якушев, Алексей Петрович. Из мещан, вольноопределяющийся. И снова та же строка, тот же каллиграфический росчерк: «Зачислен в списки 114-го пехотного Новоторжского полка». Белозерцев замер. Он перечитал строку еще раз, потом заглянул в дело Григорьева. Сомнений не было. Он почувствовал, как по спине пробежал холодок, не имевший ничего общего с ночной сыростью. Это было ощущение, знакомое каждому следователю: момент, когда разрозненные, случайные точки на карте дела вдруг начинают выстраиваться в линию, пока еще тонкую, пунктирную, но уже указывающую направление. Он быстро пробежал глазами послужной список Якушева. Молодой, произведен в офицеры уже на фронте за отличие. Последняя запись: «Сего года, июля первого дня, в арьергардных боях при отходе от Прасныша получил пулевое ранение в плечо».
Два из двух. Совпадение? Он не верил в них. Совпадения были уделом романистов. В реальной жизни за ними почти всегда стояла закономерность. С сухим, неприятным чувством в груди он потянулся к последней папке. Сомов, Игнатий Павлович. Капитан, артиллерист. Но артиллерийские батареи всегда придавались пехотным полкам для поддержки. Он открыл папку, и его взгляд сразу нашел нужную графу. «Прикомандирован к 114-му пехотному Новоторжскому полку в качестве командира 3-й батареи N-ской артиллерийской бригады».
Есть. Нить, связывавшая этих троих, была найдена. Это была не сестра милосердия, не карточный долг, не случайная госпитальная инфекция. Это был 114-й пехотный Новоторжский полк. И кровавое лето под Праснышем.
Белозерцев поднялся и прошелся по комнате. Желтый свет лампы выхватывал из полумрака то угол кровати с казенным одеялом, то графин с водой, то его собственное отражение в темном стекле окна – изможденное лицо, резкие тени под скулами. Он больше не видел трех отдельных убийств. Он видел единый, цельный замысел. Кто-то методично, одного за другим, убирал офицеров одного полка, выживших в одной и той же мясорубке. Зачем? Ответ напрашивался сам собой: они были свидетелями. Свидетелями чего-то такого, что не должно было стать достоянием гласности. Чего-то более важного, чем жизни трех человек. Возможно, они знали, почему оборона под Праснышем рассыпалась, как карточный домик. Возможно, они знали имя того, кто указал немцам дорогу.
Он вернулся к столу. Теперь он смотрел на бумаги другими глазами. Это были не просто биографии. Это были обвинительные заключения, выписанные смертью. Он снова и снова перечитывал рапорты, наградные листы, пытаясь найти в сухом канцелярите намек на то, что же их объединяло, кроме полка и места последнего боя. Но документы молчали. Они фиксировали лишь внешнюю канву событий. Чтобы понять суть, нужно было говорить с живыми. Или найти то, что мертвые успели сказать или написать перед смертью.
В дверь тихо постучали. Белозерцев вздрогнул от неожиданности, вырванный из глубин своих размышлений.
– Войдите.
На пороге возник Захарченко с закопченным чайником в одной руке и двумя стаканами в граненых подстаканниках в другой. Он внес в комнату запах махорки и сырой шинели.
– Решил, может, взбодриться надобно, ваше высокоблагородие, – пробасил он, ставя свой нехитрый провиант на угол стола. – Ночь долгая. Бумаги – они душу сушат.
Он налил в оба стакана мутную, горячую жидкость, пахнущую скорее веником, чем чаем. Белозерцев молча кивнул в знак благодарности. Присутствие пристава нарушило его уединение, но сейчас, возможно, это было к лучшему. Ему нужен был взгляд со стороны. Взгляд человека, который знал этот город и его обитателей.
– Что-нибудь вычитали интересное в этих каракулях? – спросил Захарченко, с удовольствием отхлебывая из своего стакана.
– Они служили в одном полку, – ровным голосом произнес Белозерцев, наблюдая за реакцией пристава. – Все трое. 114-й Новоторжский. И все получили ранения в одном и том же месте с разницей в несколько дней. Под Праснышем.
Захарченко перестал пить. Он поставил стакан, и его добродушное лицо стало серьезным. Он был не так прост, как хотел казаться.
– Прасныш… – он медленно покрутил ус. – Слыхали. У нас тут из-под него много народу привезли. И в наш госпиталь, и в другие лазареты. Говорили разное. Что патронов не подвезли. Что генералы проморгали. А иные шептали – мол, не обошлось без Иуды. Что карты с нашими позициями у фрица на руках оказались раньше, чем у наших ротных командиров. Брехня, конечно… наверное.
– В этом мире нет ничего невероятного, пристав, – Белозерцев взял стакан. Горячее стекло обожгло пальцы. – Особенно на войне. Кто-то очень не хочет, чтобы выжившие под Праснышем офицеры рассказывали свои истории. Настолько не хочет, что готов достать их даже здесь, в глубоком тылу, на больничной койке.
Захарченко присвистнул.
– Вот оно как, Арсеньич… Стало быть, дело-то не в сестрице вовсе? И не в долгах? Дело-то… государственное?
– Сестра Воскресенская, – Белозерцев сделал глоток горького напитка, – либо самое удобное прикрытие для убийцы, либо самая несчастная женщина в этой губернии, которой выпало трижды оказаться не в том месте и не в то время. Пока я склоняюсь ко второму. Убийца умен. Он выбрал тихое, незаметное орудие. Яд, который имитирует сердечный приступ. И козла отпущения – сестру милосердия, чье чрезмерное сострадание легко выдать за злой умысел.
Он замолчал, глядя на разложенные на столе папки. Три оборванные жизни. Три бумажных призрака. Теперь он знал их общее прошлое. И это прошлое отбрасывало длинную, кровавую тень на тихие палаты калужского госпиталя. Расследование вышло из стен больницы и шагнуло далеко за пределы города. Его нити тянулись туда, на запад, к линии фронта, в штабные землянки и грязные окопы. И тот, кто дергал за эти нити, был врагом куда более опасным, чем простая отравительница. Это был враг, носивший, возможно, русский мундир, и обладавший властью затыкать рты не только пулями на передовой, но и тихим ядом в тылу.
– Надо проверить всех, кто имел отношение к этому полку, – сказал Белозерцев, скорее себе, чем приставу. – Всех, кто выжил и попал сюда, в Калугу. Всех, кто их навещал. Любую связь.
Он чувствовал, как внутри зарождается холодный азарт охотника, вышедшего на крупного зверя. Дело перестало быть рутиной. Оно обрело масштаб. И в этом масштабе ощущался ледяной сквозняк надвигающейся беды, которая была неизмеримо больше, чем смерть трех офицеров.
Шепот в перевязочной
На следующее утро госпиталь предстал перед Белозерцевым в ином свете. Не как место преступления, а как сложный, живущий по своим законам организм. Утренний обход был подобен приливу: он начинался в кабинете главного врача и расходился по коридорам волнами белых халатов, звяканья инструментов в металлических лотках и приглушенных голосов. Следователь, представившийся чиновником из Петрограда, инспектирующим деятельность Земского союза, получил полную свободу передвижения. Он не спешил, позволяя рутине поглотить его, растворить его чужеродную фигуру в общей суете. Он наблюдал.
Его первой целью был младший персонал – санитары, сестры-хозяйки, те, кто составлял кровеносную систему этого дома скорби. Они были повсюду и нигде, их глаза видели все, а языки, при должной сноровке, развязывались легче, чем у врачей, скованных корпоративной этикой. Он заговорил со старым санитаром, седым, как лунь, солдатом-инвалидом с пустым рукавом, который тот по привычке закладывал за пояс. Они стояли в курилке – сыром, выложенном кафелем закутке, где чадил едкий дым махорки.
– Сестра Воскресенская? – переспросил старик, прищурив единственный глаз. – Ангел, ваше благородие. Не человек – ангел. Другие-то как? Смену отбыла – и в обчежитие, отдыхать. А эта до последнего. Уж и с ног валится, а все сидит возле тяжелого, платочек ему мокрый на лоб кладет, шепчет что-то. Солдатики наши ее матерью кличут. У нее в руках боль-то будто затихает. Я сам видал: корчится боец в горячке, ругается, а она подойдет, руку на лоб положит, и он затихает, глядит на нее, как на икону. Грех про нее дурное думать. Великий грех.
Он говорил просто, без пафоса, как о чем-то само собой разумеющемся. Для него святость Анны была фактом, не требующим доказательств. Белозерцев слушал, кивал, а сам отмечал эту почти религиозную преданность, которую вызывала сестра. Такая репутация могла быть как щитом, так и самой изощренной маской.
Совсем иную картину он услышал в бельевой, где две сестры, постарше и поопытнее, пересчитывали окровавленные бинты. Одна из них, полная женщина с недовольным, одутловатым лицом, на его осторожный вопрос об Анне лишь фыркнула.
– Воскресенская-то? С причудами барышня. Гордая. Себя не жалеет, это да. Только оно, знаете ли, не от доброты сердечной, а от гордыни великой. Будто она одна тут страдалица за всех. С нами почти не говорит, все в себе. После дежурства сядет в уголке с книжкой, и не дозовешься. Экзальтированная особа. У нее жених на фронте погиб, вот она и носит по нему траур вселенский. Делает из своего горя подвиг. А у кого тут не горе? У каждой второй либо муж, либо брат под пулями ходит. Только мы слезами палаты не заливаем, работаем. А ее это сострадание… оно какое-то неживое, книжное. Чрезмерное. Так люди себя не ведут.
Белозерцев отметил про себя это слово – «чрезмерное». Оно уже звучало. Чрезмерное сострадание, чрезмерная самоотверженность. То, что для одних было святостью, для других выглядело отклонением от нормы, почти подозрительным. Образ Анны двоился, расслаивался, отказываясь принимать четкие очертания. Он был то иконой, то искусной имитацией. Истина, как всегда, лежала где-то в неуловимом пространстве между этими двумя полюсами.
Оставив персонал, он перешел к главному – к раненым. Он шел по палатам, длинным, гулким, как пеналы, комнатам, где на железных койках лежали остатки полков и дивизий. Воздух здесь был спертым, пахло потом, лекарствами и несбывшимися надеждами. Он задавал общие вопросы: о питании, об уходе, о работе сестер. Имя Анны Воскресенской всплывало постоянно. Для этих людей, вырванных из ада передовой, она была тонкой нитью, связывавшей их с миром, где еще существовали доброта и забота. Ее имя произносили с благоговением, с тихой нежностью, как имя далекой возлюбленной или покойной матери.
Он задержался в седьмой палате, той самой, где умер капитан Сомов. Его койка у окна уже была занята. Новый постоялец, безусый прапорщик с простреленной грудью, дышал хрипло и смотрел в потолок невидящими глазами. Белозерцев присел на табурет у соседней койки, где лежал пожилой унтер-офицер, фейерверкер-артиллерист с перебитыми ногами, лежавшими в громоздкой лубяной конструкции. Лицо у него было морщинистое, дубленое, как старая кожа, а в выцветших глазах светился цепкий, не по-солдатски умный огонек.
– Инспекция, значит, ваше благородие? – хрипло спросил он, когда Белозерцев закончил свои казенные расспросы. – Все ли по форме, все ли по уставу… Только какой тут устав, когда человеку половину нутра выворотило. Тут один устав – выжить.
– И тем не менее, порядок важен, – уклончиво ответил Белозерцев. – От него зависит, сколько из вас вернется домой, а сколько… останется здесь.
– Это да, – фейерверкер тяжело вздохнул. – Порядка тут, слава Богу, хватает. Сестрицы стараются. Особенно покойный капитан хвалил Анну Николаевну. Говорил, она ему сестру родную напоминает. Всегда слово доброе найдет.
Белозерцев почувствовал, что подошел к цели. Он достал портсигар, протянул унтеру. Тот с благодарностью взял папиросу.
– А навещали капитана? Родственники, друзья?
– Кто ж его тут навестит? Он сам не калужский, смоленский. Жена с сыном далеко. Так, бывало, заходили сослуживцы из других лазаретов, кто на ногах. Посидят, поговорят о фронте, повздыхают. Обычное дело.
– Только сослуживцы? – Белозерцев чиркнул спичкой, поднес огонь к папиросе унтера, затем прикурил сам. Его движения были нарочито медленными, расслабленными. Вопрос прозвучал как бы между прочим, из праздного любопытства.
Унтер глубоко затянулся, выпустил облако сизого дыма. Он на мгновение задумался, поскреб небритый подбородок.
– А ведь и вправду… Был тут один. Не из военных. Штатский. За день до того, как капитан… преставился. Вечером приходил.
Внутри у Белозерцева все замерло. Он ощутил то знакомое чувство холодной, кристаллической ясности, которое приходило в момент, когда расследование нащупывало твердую почву. Он не подал виду, лишь стряхнул пепел в подставленную унтером консервную банку.
– Родственник, должно быть.
– Да кто ж его знает. Капитан его нам не представил. Тот подошел, они вполголоса поговорили минут десять, не больше. Я и внимания особо не обратил, дремал. Думал, может, из какой конторы по денежным делам. Вид у него был… солидный.
– Солидный? – повторил Белозерцев. – Что вы имеете в виду?
– Ну… не наш брат, не служивый. И не купец. Одет чисто, в пальто доброго сукна, шляпа. Немолодой. Лица я толком не разглядел, смеркалось уже, а лампу еще не зажгли. Он спиной ко мне большей частью стоял. Высокий, сухой. Говорил тихо, а капитан ему почти не отвечал, только кивал. Потом тот ушел, а капитан до самого отбоя лежал молча, в одну точку глядел. Будто пришибленный. Я еще спросил его: «Что, ваше благородие, новости нехорошие с родины?» А он только рукой махнул, мол, отстань. А наутро… вот оно как вышло.
Штатский. За день до смерти. Разговор, после которого Сомов был «будто пришибленный». Это была не просто зацепка. Это был первый реальный след, ведущий за пределы госпиталя, за пределы простой версии с сестрой-отравительницей. Кто-то пришел извне. Кто-то принес капитану весть или угрозу, которая так его потрясла. И на следующий день капитан был мертв.
– А вы не сообщали об этом… никому? Приставу, например?
Фейерверкер усмехнулся кривой усмешкой.
– А что сообщать-то, ваше благородие? Что к офицеру посетитель приходил? Да тут к ним каждый день ходят. Кто ж знал, что оно так обернется? Да и не спрашивал никто. Пристав-то наш все вокруг сестрицы Анны крутился, как кот вокруг сметаны. А я что? Я человек маленький. Мое дело – лежать смирно да ждать, когда кости срастутся.
Белозерцев докурил папиросу до самого мундштука и тщательно раздавил окурок. Он задал еще несколько ничего не значащих вопросов, поблагодарил унтера за беседу и поднялся. Внутренне он ликовал, но внешне оставался все тем же скучающим петроградским чиновником. Он медленно пошел по коридору, но теперь его взгляд был иным. Он больше не изучал персонал или обстановку. Он искал в этом замкнутом, пахнущем смертью мире следы вторжения извне.
Посетителей в госпиталь пускали в определенные часы. Был журнал, в который записывали всех приходящих. Но человек в хорошем пальто и шляпе, пришедший к офицеру с «конфиденциальным» разговором, вряд ли стал бы утруждать себя записью в журнале у вахтера. Он мог пройти вместе с толпой, мог воспользоваться протекцией кого-то из врачей. Кого-то вроде доктора Штерна, который имел безграничную власть в этих стенах.
Он остановился у высокого окна в конце коридора. За мутным стеклом, искаженным водяными потоками, расстилался все тот же унылый пейзаж. Небо было низким, свинцовым, неотличимым по цвету от мокрых крыш. Он смотрел на эту безрадостную картину, но видел совсем другое. Он видел фигуру в темном пальто, неслышно идущую по этим гулким коридорам. Фигуру, которая принесла не гостинцы и слова утешения, а смертный приговор. Убийца был не здесь. Или, по крайней мере, не только здесь. Убийство было спланировано и подготовлено снаружи. А здесь, в стерильной тишине палат, был лишь приведен в исполнение его последний акт.
И Анна Воскресенская в этой схеме занимала свое, теперь уже почти очевидное, место. Она не была ни святой, ни дьяволом. Она была идеальным инструментом. Ее безупречная репутация, ее предсказуемые действия, ее постоянное присутствие возле умирающих – все это делало ее идеальным громоотводом, который должен был принять на себя весь удар, пока настоящие преступники растворятся в промозглом тыловом тумане.
Белозерцев отвернулся от окна. Туман начинал рассеиваться. Впереди, в этом лабиринте чужой боли, забрезжил слабый, едва заметный свет. И вел он к неясному силуэту таинственного штатского посетителя. Нужно было придать этому силуэту имя и лицо.
Красная сельдь на серебряном подносе
Дверь в учительскую отворилась без стука, и на пороге, заполнив собой почти весь проем, возник Захарченко. Он не вошел, а скорее ввалился, неся перед собой ауру мокрой шинели, табачного дыма и плохо скрываемого триумфа. В одной руке он держал несколько бумаг, так бережно, словно это были не казенные листы, а выигрышный лотерейный билет. Его щеки раскраснелись от быстрой ходьбы и внутреннего азарта, а пышные усы, казалось, топорщились от возбуждения.
– На ловца и зверь, Станислав Арсеньич! – пророкотал он, роняя на стол свою находку. – Пока вы тут с тонкими материями разбираетесь, мы, люди простые, по сусекам скребем. И вот, поскребли!
Белозерцев медленно поднял голову от разложенных перед ним схем госпиталя, на которых он пытался воссоздать маршруты дежурных сестер. Он окинул пристава холодным, вопросительным взглядом, не разделяя его энтузиазма. Суетливость всегда вызывала в нем подозрение. Она была признаком либо дилетантства, либо хорошо разыгранного спектакля.
– Это из личных вещей капитана Сомова, – Захарченко ткнул толстым пальцем в бумаги. – Перетряхивали его сундучок в каптерке еще раз, по вашей же указке. Более дотошно. И вот, под подкладкой, в потайном кармашке. Аккуратненько было припрятано.
На столе лежали два документа. Первый был долговой распиской, выписанной на плотном бланке с водяными знаками. Убористый, бисерный почерк гласил, что капитан Игнатий Павлович Сомов должен «известному ему лицу» две тысячи рублей – сумму по тем временам колоссальную, равную годовому жалованью полковника, – и обязуется вернуть долг до первого ноября сего года с процентами. Подпись капитана, размашистая, с офицерским нажимом, выглядела подлинной.
Второй документ был полной противоположностью первому. Клочок дешевой оберточной бумаги, исписанный печатными, криво скачущими буквами, словно выведенными неумелой или намеренно искаженной рукой. Текст был коротким и злым: «Срокъ близко капитанъ. Деньги или пуля. Третьего не дано». Ни подписи, ни даты.
Захарченко сиял. Для него картина дела обрела наконец ясные, привычные очертания. Исчезли туманные намеки на военные тайны, шпионаж и прочую столичную заумь. Все свелось к простой, как обух, и вечной, как мир, истории.
– Карточный долг, ваше высокоблагородие, – изрек он с весом прокурора, произносящего обвинительную речь. – Проигрался наш герой-артиллерист в пух и прах. Ростовщик нажал, пригрозил. А наш Сомов, видать, заплатить не смог. Вот кредитор и привел угрозу в исполнение. Тихо, без шума, чтобы долг на нем не повис. А сестрица Воскресенская… просто оказалась рядом. Идеальное прикрытие.
Белозерцев молчал. Он взял расписку, поднес ее к свету, изучая бумагу, чернила. Затем так же внимательно осмотрел записку с угрозой. Буквы были выведены с чрезмерным нажимом, оставлявшим на обороте листа рельефный след. Угроза была слишком явной, слишком театральной. Она походила не на послание безжалостного кредитора, а на реплику злодея из бульварного романа.
– Кто этот «известный ему лицу»? – спросил он, не отрывая взгляда от бумаги.
– А вот это самое интересное! – Захарченко выпрямился. – Я навёл справки у знающих людей. В городе у нас есть только один человек, который дает в долг такие суммы под такие проценты. Абрам Юдович Гинзбург. Держит на Торговой улице суконную лавку, а в закулисье, так сказать, промышляет совсем другим товаром. Деньгами. Личность известная, но скользкая. Ни разу за руку не был пойман.
– Вы говорили с ним?
– Еще нет. Ждал вас. Дело деликатное, Гинзбург этот – паук, враз в свою паутину запутает. Тут нужен ваш подход, столичный.
Следователь аккуратно положил бумаги на стол, выровняв их по краю промокашки. Что-то в этой находке его настораживало. Она была слишком своевременной. Слишком идеальной. Вчера он нащупал тонкую, но прочную нить, ведущую к Праснышской операции. А сегодня ему на серебряном подносе преподносили совершенно иную версию – простую, бытовую, почти вульгарную. Она была настолько логична, что выглядела фальшиво. Словно кто-то, зная ход его мыслей, решил подбросить ему новую, более соблазнительную дичь, чтобы увести в сторону от основного следа. Но игнорировать ее он не мог. Это было бы профессиональной ошибкой.
– Хорошо, – сказал он, поднимаясь. – Нанесем визит господину Гинзбургу. Посмотрим на этого паука в его логове.
Суконная лавка Гинзбурга на Торговой улице благоухала нафталином, пылью и сухим, специфическим запахом шерсти. С потолка свисали тяжелые рулоны драпа, бостона, шевиота, создавая в помещении густой полумрак. За прилавком дремал сонный приказчик. Захарченко, не обращая на него внимания, решительно прошел вглубь лавки и постучал костяшками пальцев в неприметную, обитую войлоком дверь.
После недолгой паузы дверь приоткрылась, и в щели показался острый, птичий нос и один цепкий, черный глаз.
– Лавка закрывается, господа, – прозвучал дребезжащий голос.
– Полиция, – коротко бросил Захарченко, отстраняя дверь плечом.
Логово паука оказалось небольшой, заваленной бумагами конторой. Единственное окно выходило в глухой, замусоренный двор и было заставлено горшками с геранью, давно засохшей. Воздух был спертым, пахло сургучом, мышами и дешевыми сигарами. Сам Абрам Юдович Гинзбург был невысоким, сухоньким стариком в ермолке и потертом жилете, на котором блестела массивная золотая цепь от часов. Его лицо, покрытое сеткой мелких морщин, было непроницаемо, но в глубине маленьких, умных глаз при виде Белозерцева, одетого в безупречный столичный костюм, промелькнула тень тревоги.
– Чем могу служить, господа? – он указал на два колченогих стула, а сам остался стоять за своей массивной конторкой, словно за бруствером.
Белозерцев не сел. Он медленно обошел комнату, скользя взглядом по полкам с гроссбухами, по счетам на гвозде, по массивным деревянным счетам. Он давал Гинзбургу время осознать серьезность визита, позволяя тишине и неопределенности сделать свою работу.
– Капитан Игнатий Павлович Сомов, – произнес он наконец, остановившись прямо напротив ростовщика. Голос его был тихим, но в тесной комнатке прозвучал оглушительно. – Вам знакомо это имя?
Гинзбург на мгновение замер. Его тонкие, бескровные губы сжались в нить. Он перевел взгляд с Белозерцева на грузную фигуру Захарченко, стоявшего у двери, и, казалось, взвешивал варианты ответа.
– Возможно, – осторожно произнес он. – Через мою лавку проходит много господ офицеров. Я не могу упомнить всех.
Белозерцев молча положил на конторку долговую расписку. Гинзбург посмотрел на нее, и его лицо не изменилось, но Белозерцев заметил, как напряглись пальцы старика, лежавшие на краю стола.
– Две тысячи рублей, – продолжил следователь все тем же ровным тоном. – Крупная сумма. Такое не забывается.
Гинзбург тяжело вздохнул. Он понял, что отпираться бессмысленно.
– Да, я ссудил господину капитану эту сумму, – признался он, не отводя взгляда. – Под разумный процент, разумеется. Он был человеком чести. Я был уверен, что он вернет долг.
– Тем не менее, вы сочли нужным напомнить ему о сроке в весьма недвусмысленной форме, – Белозерцев добавил на конторку записку с угрозой.
При виде этого клочка бумаги Гинзбург вздрогнул. Его лицо впервые утратило свою непроницаемость. На нем отразился неподдельный страх.
– Это не мое! – выкрикнул он, и его голос сорвался на визгливую ноту. – Я… я никогда не пишу таких… таких гадостей! Я коммерсант, господин следователь, а не бандит с большой дороги! Мое оружие – это вексель, судебный пристав, но не… не это!
Его страх выглядел искренним. Белозерцев видел достаточно лжецов, чтобы отличить игру от подлинного ужаса. Гинзбург боялся. Он боялся не того, что его уличили в убийстве, а того, что его могут в нем обвинить.