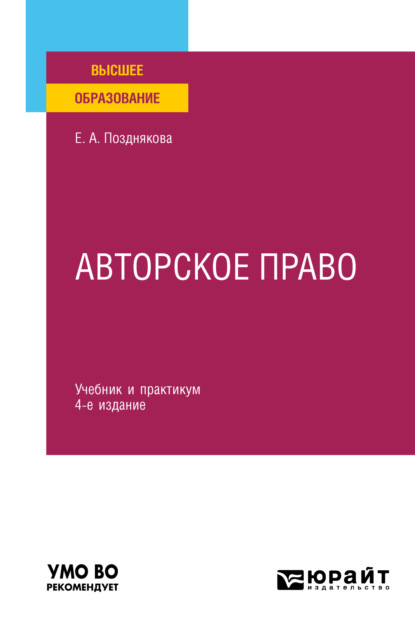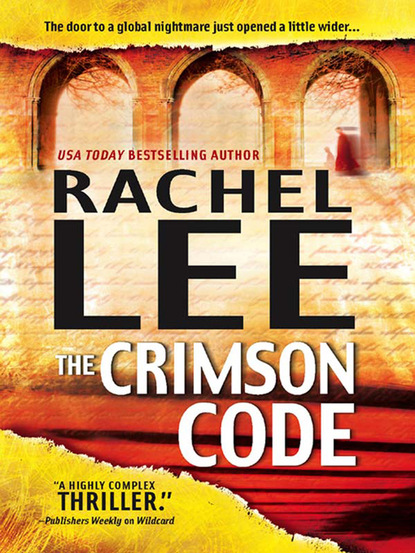Дело о мятежной губернии

- -
- 100%
- +
– Вы слышали их разговор?
– Нет. Дверь в кабинет обитая. Но я слышала голоса. Вернее, голос. Голос гостя. Георгий говорил тихо, как обычно. А тот… у него был низкий голос. Очень уверенный. Он не кричал, нет, но в его тоне была… сталь. Я не разбирала слов, лишь этот ровный, давящий гул.
– Вы можете описать этот голос? Был ли в нем какой-то акцент? Особенности произношения?
Она нахмурилась, пытаясь ухватить ускользающую деталь.
– Акцент… Да. Пожалуй. Не сильный, едва заметный. Немецкий, как у Георгия, но другой. Более жесткий, что ли. Словно он рубит слова. Я не могу объяснить точнее. Это было… чужое. Нездешнее.
Низкий голос. Легкий акцент. Поздний визит. Губернатор отпускает прислугу. Все это складывалось в картину тайной, чрезвычайно важной встречи. Встречи, которая, по всей видимости, закончилась для фон Цандера фатально.
– Как долго продолжался визит?
– Около часа. Может, чуть больше. Я слышала, как они вышли. Георгий сам провожал его. Я слышала, как щелкнул замок на парадной двери. Потом шаги мужа по коридору… он не вернулся сразу в кабинет. Он прошел в библиотеку. Я слышала, как он наливает себе коньяк. Он почти никогда не пил один. Только если был сильно расстроен.
– И после этого вы его больше не видели?
Она отрицательно качнула головой. Крупная, одинокая слеза скатилась по ее щеке, оставляя влажный след на напудренной коже.
– Я уснула. Я приняла капли… Я так устала от всего этого. А утром… Утром горничная нашла…
Она закрыла лицо руками, и ее плечи затряслись в беззвучных рыданиях. Корсет больше не мог сдерживать ее горе. Оно вырвалось наружу, сокрушая остатки самообладания.
Я поднялся. Допрос был окончен. Продолжать его было бы не просто бессмысленно, но и жестоко. Я получил все, что мог. Даже больше, чем рассчитывал.
Картина преступления, еще час назад казавшаяся плоской и двумерной, как агитационный листок, обрела глубину, объем и зловещие тени. Революционеры-фанатики отступали на задний план, превращаясь в удобную декорацию. А на авансцену выходили могущественные враги из Петербурга, грязный «денежный спор», сожженные документы и таинственная ночная фигура с низким голосом и легким акцентом.
Убийство губернатора переставало быть актом политического террора. Оно становилось последним аргументом в споре, который велся в тишине правительственных кабинетов и дорогих ресторанов. Исполнители могли быть кем угодно – наемными бандитами, обманутыми идеалистами, агентами охранки. Но заказчики… заказчики сидели где-то там, в столице, и их руки действительно были достаточно длинны, чтобы дотянуться до Заволжска и заставить замолчать несговорчивого губернатора.
Я тихо вышел из комнаты, оставив Анну Федоровну наедине с ее горем и призраками, населявшими мертвый дом. На улице меня снова окутала промозглая сырость. Дождь усилился, превратившись в холодный, отвесный ливень. Он хлестал по брусчатке, по голым деревьям, по крышам домов. Он смывал грязь с улиц, но я чувствовал, что мы все погружаемся в другую грязь – липкую, вязкую, из которой не было выхода.
Я шел по пустынной Соборной площади, не замечая ни ветра, ни воды, заливавшей мне лицо. Толпа зевак уже разошлась, оцепление было снято. Город жил своей обычной, больной жизнью. В голове у меня стучало: «денежный спор», «предательство в Петербурге», «таинственный гость». Эти обрывки фраз, этот шепот вдовы, были куда более весомой уликой, чем аккуратно подброшенная прокламация. Они уводили меня с широкой, хорошо освещенной дороги, на которую меня так старательно толкали, на узкую, темную тропу. И я понимал, что эта тропа ведет в трясину, где каждый следующий шаг может оказаться последним. Но другого пути у меня больше не было. Режиссер этого кровавого спектакля допустил ошибку. Он не учел шепот вдовы. И теперь я шел по его следу.
Красная гвоздика
Подброшенная на месте преступления прокламация эсеров была ложью. Но ложь, дабы доказать ее природу, надлежит сперва исследовать со всей дотошностью истины. Это был один из первых принципов, усвоенных мною еще на университетской скамье, и сейчас, в мире, где сами понятия истины и лжи превратились в разменную монету, он казался единственным надежным инструментом. Я должен был пройти по фальшивому следу до самого его тупика, чтобы с полной уверенностью заявить: он фальшив. И чтобы, возможно, в этом тупике разглядеть едва заметную тропу, ведущую к правде.
Путь к революционному подполью Заволжска, как и ко всему по-настоящему гнилому в этом городе, лежал через кабаки рабочих слободок. Имя, которое я держал в уме, было Филин. Не столько имя, сколько кличка, прилипшая к мелкому скупщику краденого и держателю слухов, как банный лист. Он обитал в трактире «Волжская вобла» на самой окраине Заречья, в лабиринте немощеных переулков, где грязь никогда не просыхала, а воздух был густым от угольного дыма и безнадежности.
Я сменил форменное пальто на потертый штатский пиджак и старую, потерявшую форму шляпу – нелепый маскарад, который вряд ли мог кого-то обмануть, но хотя бы не кричал о моем положении на всю улицу. «Волжская вобла» встретила меня волной теплого, кислого смрада. Пахло дешевой махоркой, пролитой водкой, вареной капустой и мокрыми, немытыми телами. Низкий потолок, закопченный до черноты, давил, а тусклый свет единственной керосиновой лампы выхватывал из полумрака серые, одутловатые лица, обращенные к мутным стаканам. Здесь не разговаривали, а бормотали, не смеялись, а кашляли. Время здесь не шло, а гнило.
Филина я нашел в самом дальнем углу, за липким столом, похожим на операционный стол неудачливого хирурга. Он был маленьким, юрким человечком с бегающими глазками и редкой, влажной бороденкой. Увидев меня, он не удивился, но съежился, словно в ожидании удара. Его профессия предполагала регулярное общение с людьми моего склада, но не предполагала к нему привыкания.
Я сел напротив, не снимая шляпы. Воздух вокруг нас был настолько плотным, что его можно было резать ножом. Филин втянул голову в плечи и уставился на свои грязные ногти.
– Здравствуй, Игнат, – сказал я тихо.
– Ваше благородие, – просипел он, не поднимая глаз. – Какими судьбами в наш вертеп? У нас тут людишки все больше серые, незаметные. Для вас интереса не представляют.
– Мне нужны не серые, Игнат. Мне нужны красные.
Он дернулся, и его взгляд метнулся по сторонам. В этом углу нас никто не слушал, каждый был поглощен собственной тоской, но страх был рефлексом, вшитым в самую его суть.
– Не по моей части, господин следователь. Политика – она, знаете ли, барская забава. Мы люди простые. Украл, выпил – в тюрьму. Вся наша политика.
Я молча положил на стол несколько кредитных билетов. Бумажки были мятыми, влажными от сырости моего кармана. Филин посмотрел на них, как на раскаленные угли. Он хотел их, но боялся обжечься.
– Я слышал, боевая дружина эсеров в последнее время активизировалась, – продолжил я тем же ровным голосом. – Собираются где-то. Говорят о делах громких.
– Много чего говорят, – уклончиво пробормотал он. – Язык без костей.
– Убийство губернатора – дело громкое. Самое громкое из всех возможных. Мне нужно знать, где они собираются. И когда.
Филин облизнул пересохшие губы. Его пальцы подрагивали, медленно подползая к деньгам. Он боролся сам с собой, взвешивая на невидимых весах мой гнев и гнев тех, о ком я спрашивал. Мой гнев был здесь и сейчас. Их – где-то там, но куда более окончательный.
– Это не они, ваше благородие, – вдруг прошептал он, наклонившись через стол. От него пахло чесноком и страхом. – Зуб даю, не они. Они бы уже на всех углах трубили. Для них теракт – это как спектакль. Афиша нужна. А тут… тихо.
– Это будет решать следствие, – отрезал я. – А твое дело – отвечать на вопросы. Где?
Он сдался. Рука, похожая на птичью лапку, метнулась и накрыла деньги, в мгновение ока спрятав их в недрах своего рваного армяка.
– Старая типография купца Блинова, за товарной станцией. Там уже лет пять как все проржавело. Сегодня собираются. Как стемнеет совсем. Часов в девять, может, в десять.
– Как туда попасть незамеченным?
– У них часовые. Но в заборе со стороны оврага есть лаз. Старый, еще мальчишки лазили. Они про него не знают. Пролезете, а там по задней стене пожарная лестница на второй этаж. Окно в переплетный цех всегда разбито. Оттуда все слышно будет, они в большом печатном зале собираются.
– Пароль? Знак?
Филин на мгновение замялся, словно отдавал самое ценное.
– Если спросят, скажете: «Зарей взойдет». Но лучше, чтоб не спрашивали. У них там народ нервный. Особенно барышня ихняя, Кленова. Та сначала стреляет, потом думает, стоит ли спрашивать. Говорят, у них еще знак есть… гвоздика красная в петлице. Но вам оно без надобности, если через лаз…
Он умолк, выложив все, что знал. Теперь он был пуст и хотел только одного – чтобы я исчез. Я поднялся.
– Если эта информация окажется ложной, Игнат…
– Чистая правда, ваше благородие, – зачастил он, снова пряча глаза. – Чтоб мне с этого места не встать.
Я не сомневался, что это правда. Страх – самый надежный источник информации. Я повернулся и пошел к выходу, чувствуя на спине его испуганный и одновременно жадный взгляд. Я вынырнул из душного марева трактира обратно в промозглую сырость октябрьского вечера. Город погружался в сумерки. Фонари еще не зажгли – экономили керосин. В сизой дымке тонули силуэты домов, а редкие прохожие казались бесплотными тенями. У меня было несколько часов, чтобы превратиться в одну из них.
Заброшенная типография Блинова походила на скелет доисторического чудовища, выброшенный на окраину цивилизации. Она чернела на фоне мутного, беззвездного неба, и ветер гудел в ее разбитых окнах, словно в пустых глазницах черепа. Я нашел лаз в гнилом заборе именно там, где указывал Филин. Узкая щель, пахнущая прелой листвой и тленом. Протиснувшись, я оказался на заросшем бурьяном дворе, в вязкой, чавкающей под ногами грязи.
Пожарная лестница оказалась ржавым, хрупким сооружением, которое стонало и шаталось под каждым моим движением. Каждый скрип отдавался в моем мозгу набатом. Я поднимался медленно, вжимаясь в холодную, мокрую кирпичную стену, чувствуя себя неуклюжим грабителем. Наконец, пальцы нащупали зазубренный край разбитого окна.
Внутри переплетного цеха царил мрак, сгущенный запахом старой бумаги, клея и мышиного помета. Я двигался на ощупь, спотыкаясь о какие-то ящики, пока не наткнулся на дверной проем, ведущий на внутренний балкон, нависавший над главным печатным залом. Отсюда, из-за перил, заваленных какими-то рулонами и старыми подшивками газет, открывался вид на сцену внизу.
Зал был огромен. Печатные станки, застывшие посредине, походили на древние алтари, покрытые саваном из пыли и паутины. В центре, в круге света от нескольких расставленных на ящиках фонарей «летучая мышь», собралось около двух десятков человек. Мужчины и женщины. Студенты в потертых тужурках, рабочие в промасленных куртках, несколько человек с лицами, которые я бы назвал интеллигентными, если бы не жесткая, фанатичная складка у губ. Они стояли или сидели на ящиках, и неровный свет фонарей бросал на их лица резкие тени, делая их похожими на заговорщиков с полотен Караваджо. Они говорили вполголоса, но гул их речей, усиленный акустикой огромного пустого зала, доносился до меня обрывками фраз: «…провокация властей…», «…терпение народа…», «…нельзя ждать…».
Внезапно разговоры стихли. Из боковой двери вышла она. Вера Кленова. Я видел ее фотографии в жандармских досье, но они не передавали и сотой доли той энергии, что исходила от этой хрупкой, невысокой девушки. Коротко стриженные темные волосы, простая темная блуза, почти мужская. Но глаза… В неверном свете фонарей они горели темным, неугасимым огнем. Это был взгляд человека, который не просто верит в свою идею, а живет внутри нее, дышит ею, и готов сжечь в ее пламени и себя, и весь остальной мир. Она не шла – она несла себя сквозь почтительное молчание, и в этом молчании была и преданность, и страх.
Она остановилась в центре круга, обведя собравшихся долгим, тяжелым взглядом.
– Товарищи, – ее голос был на удивление сильным и чистым, без тени сомнения. – Я собрала вас, потому что в городе произошло событие, которое касается всех нас. Убит тиран. Убит палач Заволжской губернии, барон фон Цандер.
По толпе пронесся возбужденный гул. Кто-то даже не сдержал радостного возгласа. Высокий рабочий с широким, скуластым лицом, шагнул вперед. В его петлице я разглядел алую гвоздику.
– Так это наша работа, Вера Николаевна? – спросил он с плохо скрытой гордостью. – Наконец-то! Давно пора было!
Кленова медленно повернула голову в его сторону. Ее взгляд был холодным, как сталь. Гул мгновенно стих.
– В этом и есть главный вопрос, Степан. Если бы это была наша работа, ты бы знал об этом первым, как руководитель боевой группы. Но ни ты, ни я, ни Центральный комитет не отдавали такого приказа.
Наступила ошеломленная тишина. Она была настолько плотной, что я слышал, как потрескивают фитили в фонарях. Лица, только что сиявшие отмщением, теперь выражали растерянность.
– Как… не мы? – пробормотал Степан. – Но кто же тогда? Анархисты?
– Анархисты бы уже обклеили весь город своими воззваниями, – резко ответила Кленова. Она сделала шаг вперед, и свет фонаря упал на ее бледное, напряженное лицо. – Вы не понимаете, что произошло? Нас обошли. Кто-то нанес удар, который должны были нанести мы. Кто-то украл наше право на справедливую месть!
Ее голос звенел от ярости. Я слушал, затаив дыхание. Это было именно то, что я должен был услышать. Подтверждение, высказанное не для чужих ушей, а в кругу своих.
– Но какая разница, кто это сделал? – раздался другой голос, принадлежавший пожилому человеку в пенсне, похожему на земского учителя. – Собаке – собачья смерть. Народ ликует. Разве не это главное?
– Главное?! – Кленова развернулась к нему так резко, что он отшатнулся. – Главное, Илья Маркович, это контроль! Революция – это не стихийный бунт, это наука! Каждый выстрел, каждый акт террора должен быть выверен, как ход в шахматной партии. Он должен служить нашей цели, приближать ее, а не создавать хаос, которым воспользуются другие! Убийство губернатора сейчас, когда мы не готовы взять власть, это провокация!
– Провокация? – недоверчиво переспросил Степан. – Против кого?
– Против нас! – почти выкрикнула Кленова. – Нас выставляют слепой, разрушительной силой! На нас повесят это убийство, охранка начнет аресты, наша организация будет обезглавлена накануне решающих событий! Кто-то очень умный и очень жестокий разыгрывает свою партию, используя нас как пешек. Нам подбросили труп тирана, чтобы потом под этим предлогом уничтожить нас всех!
Она говорила страстно, убежденно, и я видел, как ее слова проникают в сознание этих людей, сменяя радостное возбуждение на тревогу и злость. Она была абсолютно права в своих выводах, хоть и не знала всей картины. Режиссер этого спектакля действительно играл против всех.
– Что же делать? – спросил кто-то из темноты.
– Искать, – отрезала Кленова. – Мы должны узнать, кто это сделал. Найти их раньше, чем жандармы. Узнать, кто стоит за ними. И заставить их заплатить. За то, что они посмели говорить от имени революции. За то, что они поставили нас под удар.
Она умолкла, тяжело дыша. Собрание было окончено. Цель моего визита была достигнута с исчерпывающей полнотой. Теперь нужно было уходить. Незаметно, как тень.
Я начал медленно, миллиметр за миллиметром, отступать назад, в спасительную темноту переплетного цеха. Люди внизу уже начали расходиться, забирая фонари, и зал снова погружался во мрак. Я уже почти скрылся в дверном проеме, когда моя нога, нащупывая опору, наткнулась на что-то твердое. Стопка старых, окаменевших от времени газет. Она качнулась с сухим, предательским шелестом. Я замер, превратившись в камень.
Внизу, в тающем круге света, резко обернулась Кленова. Ее инстинкты были острее, чем у любого из ее соратников.
– Кто там? – ее голос, как выстрел, ударил в тишину.
Степан и еще двое рабочих, державших фонари, замерли. Их головы вскинулись вверх, в сторону балкона. Луч одного из фонарей метнулся по перилам, прошелся совсем рядом с моим укрытием и двинулся дальше. Я вжался в стопку рулонов, почти перестав дышать. Сердце колотилось о ребра с такой силой, что, казалось, этот стук должен быть слышен внизу.
– Наверное, крысы, Вера Николаевна, – неуверенно сказал Степан. – Их тут полно.
Но она не слушала. Ее взгляд был прикован к моему углу. Она знала. Или чувствовала.
– Проверить, – приказала она ледяным тоном.
Я понял, что ждать больше нельзя. Одним движением я развернулся и бросился вглубь цеха, в абсолютную темноту. Позади раздались крики и топот ног по гулкой чугунной лестнице, ведущей на балкон.
Начался слепой, безумный бег. Я несся напролом, выставив вперед руки, спотыкаясь о невидимые препятствия, сшибая какие-то стеллажи, которые падали с оглушительным грохотом. Этот грохот был моим единственным ориентиром для преследователей. Я должен был найти окно, то самое, через которое вошел.
Сзади уже слышалось тяжелое дыхание. Они были здесь, на втором этаже. Луч фонаря метался по стенам, выхватывая из мрака силуэты станков, похожих на орудия пыток. Я шарахнулся в сторону, уходя от света, и спиной почувствовал сквозняк. Окно!
Не раздумывая, я вскочил на подоконник. Внизу чернела бездна двора. Прыгать было чистое самоубийство. Лестница! Я нащупал ее холодные, скользкие от дождя ступени. В тот же миг в оконном проеме появилась фигура Степана. В руке у него блеснуло что-то тяжелое. Револьвер.
– Стой, шпик!
Я не стал ждать второго приглашения. Я рухнул на лестницу, скорее скользя, чем спускаясь, обдирая руки о ржавый металл. Вспышка, грохот выстрела. Пуля с визгом выбила кусок кирпича рядом с моей головой.
Я спрыгнул с последних ступеней, по колено уйдя в вязкую грязь. Еще один выстрел. Я рванулся к забору, к спасительному лазу. За спиной слышался топот – они тоже спускались. Я нырнул в узкую щель, раздирая одежду о гнилые доски, и вывалился в переулок.
Бег по ночным улицам Заречья был кошмаром. Ноги вязли в грязи, легкие горели, каждый вздох отдавался болью в боку. Я не оглядывался, но слышал за собой крики и топот нескольких пар ног. Они знали эти лабиринты лучше меня. Я петлял, сворачивал в первые попавшиеся проулки, надеясь лишь на случай.
В одном из тупиков я увидел низкую калитку, ведущую в чей-то двор, заваленный бочками и дровами. Нырнул туда, проскочил мимо сорвавшейся с цепи, захлебывающейся лаем собаки, и перемахнул через ветхий забор на другой стороне. Я оказался в следующем переулке за мгновение до того, как мои преследователи ворвались в тупик. Я слышал их ругань, лай собаки, и, прижавшись к стене дома, скользнул прочь, в темноту.
Я остановился только через несколько кварталов, вжавшись в темную арку ворот, когда убедился, что погони больше нет. Я стоял, опираясь руками о колени, и пытался восстановить дыхание. Тело била дрожь – от холода, усталости и пережитого напряжения. Я был покрыт грязью, одежда порвана, руки кровоточили.
Я выпрямился и посмотрел на свои ладони. В одной из них я все еще сжимал клочок красной ткани, сорванный с чьей-то петлицы во время падения с лестницы. Красная гвоздика. Символ их веры, их ярости.
Версия с революционерами была мертва. Я получил этому неопровержимое доказательство. Но цена этого знания оказалась высока. Теперь я был не просто безымянным следователем, идущим по следу. Теперь у моего врага, кем бы он ни был, появились невольные и очень опасные союзники. Те, кто не убивал губернатора, теперь будут охотиться на меня с не меньшим ожесточением, чем настоящие убийцы. Они видели мое лицо. Они знали, что я – «шпик». В этом тонущем в хаосе городе я только что лишился единственного, что у меня было – анонимности. Я стал мишенью для всех.
Архив жандарма
Обращение в жандармское управление было сродни добровольному визиту в зубоврачебный кабинет, где лекарь славился не мастерством, а любовью к ржавым щипцам и полным пренебрежением к страданиям пациента. Человек моего ведомства, судебный следователь, служитель Закона, видел в Отдельном корпусе жандармов не союзника, а скорее уродливое отражение в кривом зеркале. Мы искали истину, опираясь на улики и факты; они – истину, назначенную свыше, подгоняя под нее и факты, и человеческие судьбы. Мы оперировали параграфами Уложения о наказаниях, они – страхом, доносами и той всепроникающей паутиной тайного надзора, что опутывала империю от великосветских салонов до фабричных бараков. Идти к ним означало признать собственное бессилие, признать, что логика закона пасует перед иррациональностью хаоса, в который погружалась страна.
Но у меня не оставалось выбора. Погоня в лабиринте зареченских трущоб и яростные, полные фанатичной убежденности слова Веры Кленовой окончательно разбили простую и удобную версию, подброшенную мне на паркете губернаторского кабинета. Убийцы были не пламенными революционерами. Или, по крайней мере, не этими. Это означало, что я должен был вернуться к другой, куда более тонкой и опасной нити – к шепоту вдовы. К ее словам о «предательстве в Петербурге», о «денежном споре» и о таинственном ночном визитере. Эти материи были слишком эфемерны для моего инструментария – протоколов, допросов, очных ставок. Это была территория политических интриг, тайных операций, государственных тайн. Территория, на которой жандармы чувствовали себя как рыба в мутной, холодной воде.
Губернское жандармское управление располагалось в казенном здании на Адмиралтейской улице, в строении угрюмом и неприступном, словно крепость, обороняющаяся от самого времени. Двуглавый орел над входом был покрыт патиной, отчего казался не символом власти, а скорее доисторической окаменелостью. Даже воздух здесь был другим – спертый, пахнущий сургучом, дешевым табаком и застарелой пылью казенных архивов. Запах не жизни, но консервации. Внутри царила тишина, не умиротворяющая, а напряженная, словно натянутая струна. Редкие чиновники в синих мундирах передвигались по стертым каменным плитам коридоров с бесшумной поспешностью призраков, и во взглядах, которые они бросали на меня, читалось застарелое, профессиональное недоверие ко всякому чужаку.
Ротмистра Станислава Адамовича Рокотова я нашел на втором этаже, за массивной дубовой дверью без таблички, лишь с вытертым до блеска медным номерком. Его кабинет был полной противоположностью царившему снаружи запустению. Идеальный порядок, граничащий со стерильностью. Начищенный до зеркального блеска паркет, массивный письменный стол из темного дерева, на котором бумаги лежали не стопками, а идеальными прямоугольниками. Ни единой пылинки. Воздух был пропитан ароматом дорогого табака и едва уловимым запахом одеколона с нотками сандала. Все здесь говорило о человеке, который не просто контролирует окружающее его пространство, но подчиняет его себе, лепит по своему образу и подобию.
Сам ротмистр, поднявшийся мне навстречу из-за стола, идеально вписывался в этот интерьер. Высокий, широкоплечий, в безупречно сидящем мундире, он двигался с хищной, экономной грацией крупного зверя. Короткая военная стрижка, жесткие черты лица, которое казалось высеченным из камня, и глаза. Необыкновенного, почти прозрачного голубого цвета, холодные и пронзительные, как осколки льда. В них не было ни эмоций, ни сочувствия – лишь острый, оценивающий ум и глубоко укоренившийся цинизм. Он смотрел на мир так, как энтомолог смотрит на бабочку, уже зная, куда именно вонзит булавку.
«Судебный следователь Лыков, – представился я, протягивая руку. – По делу об убийстве его превосходительства барона фон Цандера».
Он не пожал мою руку, лишь едва заметно кивнул, указав на жесткое кресло для посетителей. Его жест был не столько оскорбителен, сколько констатировал факт: мы находились на разных уровнях иерархии, не служебной, но какой-то иной, более фундаментальной.
«Наслышан, господин следователь. Весь город гудит, словно растревоженный улей, – его голос был ровным, безэмоциональным, с легкой, почти неуловимой насмешкой. – И, смею предположить, вы пришли ко мне не для того, чтобы поделиться успехами в расследовании».
Я сел. Кресло было неудобным, оно заставляло сидеть прямо, в напряженной позе. Еще одна деталь продуманного им мира.
«Я пришел за информацией, ротмистр, – сказал я прямо. – Версия о причастности к убийству социалистов-революционеров, как мне представляется, не выдерживает критики».