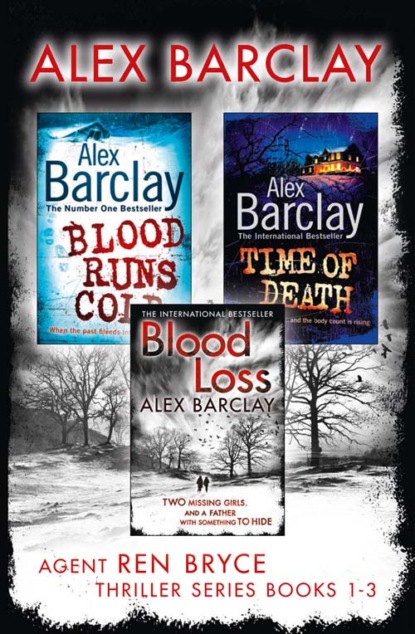Дело о погибшем символисте

- -
- 100%
- +

Холодный свет газовых рожков
Пролетка, качнувшись на ухабе, замерла у массивной, облупившейся арки, ведущей в один из тех петербургских дворов, что напоминали скорее каменные колодцы, выгребные ямы для небесной хляби. Лютов расплатился с извозчиком, не глядя сунув ему монету, и шагнул под своды. Воздух здесь был гуще, неподвижнее, пропитанный запахами сырости, гниющего мусора и неизбывной кошачьей мочи. Фонарь над входом в парадную шипел, как злобный гусь, и проливал на мокрые плиты желчный, неверный свет. У дверей его уже поджидал городовой Фомич, грузный, обмякший мужчина, чье лицо под козырьком фуражки казалось вылепленным из серого воска.
«Здравия желаю, господин пристав», – выдохнул он облачком пара, переминаясь с ноги на ногу. Его сапоги хлюпали в невидимой луже.
«Что у вас?» – голос Лютова был резок и сух, как треск ломаемой ветки. Он не любил прелюдий.
«Так вот, в квартире номер семь… господин Вересаев, Адриан Захарович. Писатель. Дворник утром дверь обнаружил не запертой, заглянул, а там…» – Фомич неопределенно махнул варежкой в сторону темного пролета лестницы. «Нехорошо там, Игнат Арсеньевич. Срам один».
«Срам – это ваша работа, Фомич. Ведите».
Лестница была крутой и темной, со стертыми до глянца ступенями и стенами, покрытыми слоистой, как геологический разрез, штукатуркой. Пахло затхлостью, вареной капустой и мышами. Лютов поднимался, не держась за липкие перила, его начищенные сапоги отбивали четкий, размеренный ритм. Он мысленно проклинал всех писателей столицы, их привычку жить в мансардах, их склонность к театральным эффектам даже в вопросах собственной кончины. На четвертом этаже, у единственной двери, обитой потрескавшимся темно-красным сукном, их встретил мертвенный покой. Дверь была приоткрыта.
Фомич замялся, но Лютов, не дожидаясь приглашения, толкнул ее плечом и вошел.
Первое, что ударило в нос, – это не запах. Вернее, не тот запах, которого он ожидал. Воздух в передней был тяжелым, вязким, словно его можно было резать ножом. Смесь дорогого табака, пролитого вина, старых книг и чего-то совершенно чуждого – сладковато-пряного, как в церковной лавке. Ладан. Или какая-то заморская смола. Лютов поморщился. Он шагнул дальше, вглубь квартиры, и остановился на пороге комнаты, из которой лился тусклый свет.
Это была не комната. Это была внутренность больной, лихорадочной фантазии, вывернутая наружу и обретшая плоть. Пространство, казалось, корчилось и пульсировало под гнетом того, что с ним сотворили. Все стены, от высокого, с лепной розеткой, потолка до самого пола, были испещрены, изъязвлены, покрыты сложной и пугающей вязью белых символов. Круги, вписанные в треугольники, спирали, закручивающиеся в бездну, глаза без зрачков, неведомые буквы, похожие на переломанных насекомых, – вся эта каллиграфия безумия, казалось, сочилась со стен, стекала на пол, карабкалась на мебель. Газовые рожки на стенах шипели, и в их неровном, подрагивающем свете знаки оживали, тени от них сплетались в жутком танце.
В самом центре этого хаоса, на дорогом персидском ковре, лежало тело.
Оно было расположено с нарочитой, продуманной симметрией. Руки раскинуты, ноги вытянуты. Голова чуть запрокинута, открывая бледную, гладко выбритую шею. Покойный был молод, лет тридцати, с тонкими, аристократическими чертами лица, которые даже сейчас, в неподвижности, сохраняли отпечаток высокомерия. Темные, вьющиеся волосы разметались по ковру. Он был одет в просторную шелковую рубаху багряного цвета и черные брюки. Босой. Вокруг тела на полу был начертан огромный пятиконечный знак, заключенный в круг. Тело лежало точно в его центре, как жертва на алтаре.
Лютов молча, не двигаясь, окинул взглядом всю картину. Его мозг, приученный к порядку, к логике причин и следствий, на мгновение отказался обрабатывать увиденное. Это было не место преступления. Это была декорация, сцена для какого-то чудовищного спектакля. Он перевел взгляд с тела на стены, со стен на разбросанные повсюду предметы: курильницы из потускневшей меди, стопки книг в кожаных переплетах, человеческий череп, служивший, по-видимому, пепельницей, несколько пустых бутылок из-под вина, опрокинутый бокал, из которого на ковер натекла темная лужица. Все это было частью постановки, каждый предмет кричал о своей значимости.
«Вот, извольте видеть», – прошептал сзади Фомич, боязливо заглядывая приставу через плечо. «Чертовщина какая-то. Бесовские знаки».
Лютов медленно выдохнул. «Фомич, чертовщина – это когда протокол не составлен. Оцепите лестницу. Никого не впускать, никого не выпускать. Дворника ко мне. И пошлите за судебным лекарем, за доктором Шульгиным. Скажите, дело срочное и… необычное».
Он не договорил. Не было нужды. Городовой, обрадованный возможностью покинуть это место, поспешно ретировался, его тяжелые шаги загрохотали по лестнице.
Оставшись один, Лютов сделал то, что делал всегда. Он начал препарировать хаос, раскладывать его на составные части. Он заставил себя не видеть всей картины целиком, этого грандиозного и тошнотворного полотна. Его взгляд сузился, сфокусировался на деталях.
Первое. Символы на стенах. Нанесены белой краской. Мазки ровные, уверенные. Рука, державшая кисть, не дрожала. Это не было работой сумасшедшего в припадке. Это было methodical, almost painstaking work. Он подошел к стене, едва не коснувшись носком сапога одного из лучей начертанной на полу звезды. Наклонился, вглядываясь в линии. Краска свежая, еще не до конца высохшая, со специфическим запахом олифы, который едва пробивался сквозь ладанный дурман.
Второе. Тело. Он обошел его по кругу, ступая осторожно, словно по минному полю. Присел на корточки, не касаясь покойного. Лицо Вересаева было спокойным, почти безмятежным. Никаких признаков борьбы, никаких ссадин или кровоподтеков. Губы чуть приоткрыты, синюшного оттенка. Он осторожно взял покойного за запястье. Кожа была холодной, но не ледяной. Трупное окоченение уже начало развиваться в мышцах челюсти и шеи. Смерть наступила несколько часов назад. Поздним вечером или в начале ночи. На шее, руках, видимых участках тела – никаких следов насилия. Ни уколов, ни странгуляционной борозды.
Третье. Обстановка. Он встал и начал медленный, методичный осмотр комнаты. Двигался по часовой стрелке. Письменный стол у окна. Завален бумагами, исписанными витиеватым, неразборчивым почерком. Стихи. Лютов скривился. Чернильница, перья, сургуч. Все на месте. Он выдвинул ящик стола. Аккуратно сложенные рукописи, пачка визитных карточек: «Адриан Вересаев, поэт». Ничего необычного. В другом ящике – револьвер «Смит и Вессон» в кобуре. Лютов достал его, выщелкнул барабан. Все шесть патронов на месте. Не стреляли. Он положил оружие на место.
Книжные полки до самого потолка. Он пробежался взглядом по корешкам. Французские поэты вперемешку с трактатами по алхимии. Элифас Леви, Папюс, книги с каббалистическими символами на обложках. «Молот ведьм». На одной из полок стояла фотография в серебряной рамке. Молодая женщина с темными, огромными глазами и гордым, чуть презрительным выражением лица. Ее взгляд, казалось, следил за ним. Лютов задержался на ней на мгновение дольше, чем на всем остальном.
Он подошел к окну. Тяжелые бархатные шторы были плотно задернуты. Он отодвинул край. Окно выходило во двор-колодец. Створка была заперта изнутри на шпингалет. Он проверил второе окно – то же самое. Входная дверь, как сообщил Фомич, была не заперта, но прикрыта. Замок был исправен.
Значит, убийца либо ушел, не заперев за собой, либо был впущен добровольно, и Вересаев сам не запер дверь. Или… Лютов отогнал третью мысль. Он не верил в самоубийства, обставленные с такой помпой. Самоубийство – акт отчаяния, а здесь все дышало гордыней и представлением.
Вернулся дворник, Прохор, – маленький, иссохший старик с испуганными, выцветшими глазами. Он стоял на пороге, крестясь и бормоча что-то себе под нос.
«Кто нашел?» – спросил Лютов, не повышая голоса.
«Я, барин, я… – зашептал Прохор. – Утром обход делал, гляжу – дверь не на замке. Я постучал – тихо. Еще постучал. Ну, думаю, мало ли… приоткрыл, а там…» – он снова осенил себя крестным знамением. «Свят, свят, свят. Сатанинское отродье…»
«Когда в последний раз видели его живым?»
«Вчерась вечером. Часов в девять, может. Он возвращался. Не один».
Лютов замер. «Подробнее».
«С ним господин был. Высокий такой, в шляпе. Лица не разглядел, темно было. Они поднялись, и все. Больше я никого не видел».
«Гости часто бывали?»
«Почитай, каждый день. Все какие-то… шумные. Девицы, поэты эти… до утра сидят, кричат, стихи свои читают. А в последние дни тихо стало. Вот вчера только этот господин приходил».
«Хорошо. Идите, Прохор. И никому ни слова».
Дворник скрылся, и почти сразу же на лестнице послышались новые шаги, на этот раз уверенные и неторопливые. В комнату вошел доктор Шульгин. Это был полный, лысоватый мужчина лет пятидесяти, с усталыми, но умными глазами за стеклами пенсне. От него пахло карболкой и хорошим табаком – запахи, которые показались Лютову самыми приятными и здоровыми в этом проклятом месте.
«Игнат Арсеньевич, – кивнул он, ставя на пол свой саквояж. – Вы умеете находить самые живописные уголки нашего города».
Его взгляд скользнул по стенам, по телу, и в нем не отразилось ни удивления, ни страха. Лишь профессиональный интерес.
«Что скажете, Карл Федорович?»
Шульгин подошел к телу, опустился на одно колено. Его пухлые, но ловкие пальцы приподняли веко покойного, проверили зрачок, ощупали шею, грудную клетку. Он действовал без спешки, с сосредоточенностью часовщика.
«Интересно, – пробормотал он наконец, выпрямляясь. – Весьма. Никаких видимых повреждений. Абсолютно. Асфиксии нет, признаков утопления, очевидно, тоже. Кожные покровы чистые. Похоже на отравление».
«Яд?»
«Вероятно. Какой-нибудь алкалоид. Цианиды дали бы характерный запах горького миндаля. Морфий или опиум – резкое сужение зрачков. Здесь зрачки расширены, но не чрезмерно. Может быть, что-то из группы атропина. Белладонна, белена… Или что-то более экзотическое. Без вскрытия и анализа содержимого желудка – это гадание на кофейной гуще».
«Время смерти?»
«Судя по температуре тела и развитию rigor mortis, я бы сказал, от шести до восьми часов назад. То есть, где-то между десятью вечера и полуночью».
Шульгин снова оглядел комнату. «Какая безвкусица, – заметил он спокойно. – Вся эта мишура. Рассчитано на впечатлительных барышень. Полагаю, наш поэт сам все это и нарисовал?»
«Рука твердая, – отозвался Лютов. – Слишком твердая для человека, собирающегося отойти в мир иной».
«Или для человека, который уже принял яд, – согласился доктор. – Многие яды нервно-паралитического действия вызывают тремор, судороги. А здесь, посмотрите, – он указал на край звезды, начертанной на полу. – Линия идеальная. Проведена с помощью бечевки и гвоздя в центре, как циркулем. Холодный расчет, а не мистический экстаз».
Лютов кивнул. Его собственные мысли обрели точную формулировку. Расчет. Вот ключевое слово. Вся эта комната была одним большим, продуманным расчетом. Но с какой целью? Замаскировать убийство под ритуальное самоубийство? Отвлечь внимание от истинных мотивов?
«Осмотрите бокал, Игнат Арсеньевич, – посоветовал Шульгин, собирая свои инструменты. – И бутылки. Если яд был в вине, там могут остаться следы».
Он закончил свой осмотр и поднялся. «Заключение я подготовлю к утру, после вскрытия. Санитаров прислать?»
«Да. Через час».
Когда доктор ушел, Лютов снова остался один. Тишина в комнате стала плотнее, гуще. Шипение газовых рожков казалось голосом этого места. Он подошел к опрокинутому бокалу. Тонкое, дорогое стекло. На донышке застыла капля темно-красной жидкости с белесым осадком. Он взял со стола чистый лист бумаги и осторожно, кончиком ножа, соскреб немного этого осадка. Свернул бумагу в аккуратный пакетик и убрал в карман. Затем обследовал бутылки. Три пустых из-под дорогого французского вина. Одна была открыта совсем недавно – сургучная пробка лежала рядом. Он осторожно обнюхал горлышко. Тонкий винный аромат, и больше ничего.
Он снова прошелся по комнате, теперь уже вглядываясь не в общую картину, а в мельчайшие детали, в то, что выбивалось из общего строя. Пыль на книгах. Отсутствие пыли на некоторых. Значит, их часто брали в руки. Какие именно? Он запомнил названия. Пепельница-череп. В ней было несколько окурков дорогих папирос с золотым ободком. Марка, которую предпочитал сам Вересаев, судя по открытому портсигару на столе.
Он заглянул под стол, под диван, обитый потертым зеленым бархатом. Ничего. Его взгляд снова вернулся к телу, лежащему в центре этого нарисованного хаоса. Каким же надо быть самовлюбленным павлином, чтобы даже собственную смерть превратить в такое представление? Или это не его представление? Может, он был лишь актером, марионеткой в чужом спектакле?
Мысль о посетителе, о котором говорил дворник, не выходила из головы. Высокий господин в шляпе. Кто он? Друг? Враг? Соучастник этого ритуала? Убийца?
Лютов подошел к камину. Он был холодным, его не топили. На мраморной полке стояли бронзовые часы под стеклянным колпаком. Они остановились. Стрелки показывали без четверти двенадцать. Случайность? Или еще одна деталь постановки? Лютов не верил в такие случайности. Время смерти, указанное часами, почти совпадало с предварительным заключением Шульгина. Слишком аккуратно.
Рядом с часами стояла небольшая латунная шкатулка с восточным орнаментом. Он открыл ее. Внутри, на бархатной подушечке, лежали курительные шарики опиума. Несколько штук отсутствовало. Возможно, причина смерти была здесь. Но Шульгин говорил о расширенных зрачках, а опиум должен был их сузить. Не сходится.
Он уже собирался закрыть шкатулку, как вдруг заметил нечто чужеродное. Забившуюся в угол, почти невидимую на темном бархате. Это был окурок. Но не папиросы, а дешевой, скрученной из махорки папироски. Такой, какие курят рабочие на фабриках или портовые грузчики. Абсолютно неуместный предмет в этой богемной роскоши, среди дорогих папирос и опиумных шариков.
Лютов осторожно, двумя пальцами, извлек его. Окурок был смят сильными пальцами, потушен о дно шкатулки. Он поднес его к носу. Резкий, горький запах дешевого табака.
Он выпрямился, зажав окурок в ладони. Весь этот мистический маскарад, все эти знаки на стенах, пентаграммы, остановившиеся часы – все это вдруг потеряло свое значение, съежилось, превратилось в шелуху, в дымовую завесу. А в центре остался вот этот маленький, грязный обрывок реальности. Улика. Настоящая, материальная, понятная.
Посетитель, о котором говорил дворник, курил не дорогие папиросы. Он курил махорку. Он не принадлежал к миру поэтов и мистиков. Он был чужим здесь.
Лютов разжал ладонь и посмотрел на окурок. Холодный свет газовых рожков блеснул на его обветренном лице, и в серых глазах впервые за этот вечер появилось что-то похожее на интерес. Представление закончилось. Началась работа.
Театр теней и восковых фигур
Утренний свет, процеженный сквозь грязные стекла и тяжелый бархат штор, был скуп и немощен. Он лишь придал сероватый, трупный оттенок белому безумию стен и лицу покойного на персидском ковре. Лютов стоял у окна, глядя не во двор-колодец, а на отражение комнаты в стекле – призрачное, размытое, словно эскиз к уже законченному полотну. Работа, как он ее понимал, требовала порядка, а начинать ее предстояло в эпицентре хаоса. Он ждал. Ждал актеров, которые придут оплакивать своего премьера и разыгрывать следующий акт этой пьесы.
Они начали прибывать ближе к десяти, поодиночке и небольшими группами, привлеченные вестью, что разнеслась по богемным кофейням и салонам быстрее газетного экстренного выпуска. Их шаги на лестнице были неровными, голоса – приглушенными до порога и взлетающими до театральных высот сразу за ним. Первым вошел низкорослый художник в бархатной блузе, испачканной краской так живописно, что пятна казались частью замысла. Увидев тело, он замер, картинно прижав руку к губам, его глаза наполнились ужасом, который был слишком велик для его маленького лица. За ним вплыла дама в траурной вуали, сквозь которую, впрочем, просвечивали ярко подведенные глаза. Она издала протяжный, мелодичный стон и опустилась на ближайший стул, изящно заламывая руки в перчатках.
Вскоре комната, еще час назад бывшая молчаливым святилищем смерти, наполнилась шорохом платьев, запахом духов, лаванды и папиросного дыма, который смешивался с застарелым ладаном, создавая тошнотворную какофонию ароматов. Они двигались по комнате, как тени в паноптикуме, обходя тело, очерченное невидимой границей благоговения или брезгливости. Они касались стен с символами, словно пытаясь прочесть последнее послание пророка, шептались, вздыхали, стреляли друг в друга взглядами, полными скорби, любопытства и затаенного торжества.
Лютов наблюдал за ними из своего угла, неподвижный, как предмет мебели. Его помощник, Петр Самойлов, молодой человек с честными глазами и вечно удивленным выражением лица, уже прибыл и теперь стоял рядом, сжимая в руках папку для протоколов. Он смотрел на собравшихся с плохо скрываемым восторгом, словно попал на страницы модного романа.
«Игнат Арсеньевич, – прошептал он, – это же все… весь цвет. Вон тот, с моноклем, – критик Далматов. А дама в зеленом – поэтесса Ирэн Адлер, она ему стихи посвящала… Говорят, они были… близки».
«Близки к чему, Петр? – глухо отозвался Лютов, не отрывая взгляда от толпы. – К истине или к наследству?»
Самойлов смущенно кашлянул.
Лютов решил, что сцена достаточно насытилась эмоциями. Он вышел в центр комнаты, и его грузная, основательная фигура в простом суконном сюртуке мгновенно нарушила хрупкую композицию скорби. Разговоры смолкли. Десятки пар глаз уставились на него.
«Господа, – его голос прозвучал в этой комнате неуместно громко, как удар молотка по стеклу. – Пристав второго участка сыскной полиции Игнат Лютов. Мне необходимо будет задать каждому из вас несколько вопросов. Прошу по одному».
Он указал на маленький кабинет, смежный с гостиной. Там было чуть меньше символов на стенах и чуть больше воздуха.
Допросы превратились в фарс, как он и ожидал. Они входили в кабинет, садились напротив него и начинали вещать. Они не давали показаний, они творили эпитафии.
Художник, назвавшийся Всеволодом Брамским, говорил о «космической ране», нанесенной русской культуре, о «звезде, сорвавшейся с небослона». На прямой вопрос, когда он в последний раз видел Вересаева, Брамский закатил глаза и прошептал: «Мы виделись позавчера в астрале. Его душа была неспокойна. Темные вихри клубились вокруг его ауры».
Поэтесса Ирэн Адлер, откинув вуаль и обнажив заплаканное, но тщательно напудренное лицо, декламировала, что Адриан был «не человеком, но чистым духом, облеченным в хрупкую плоть». Она утверждала, что он предчувствовал свою гибель, что его последние стихи были пронизаны «танатологическими мотивами». Когда Лютов попросил ее уточнить, не говорил ли покойный о конкретных угрозах, она посмотрела на него с состраданием, как на неразумное дитя. «Угрозы? Ему угрожала сама серость этого мира, господин пристав. Пошлость бытия точила его, как червь – яблоко».
Критик Далматов говорил долго и путано, пересыпая речь французскими фразами и цитатами из Ницше. Из его потока сознания Лютов выудил одну крупицу факта: Вересаев в последнее время был одержим идеей некоего «великого делания», которое должно было даровать ему «власть над материей и духом». Что это означало, критик пояснить не мог, или не хотел, предпочитая рассуждать о «гностическом поиске» и «трансцендентальном прорыве».
Каждый из них лгал. Не обязательно о фактах – возможно, они их и не знали. Они лгали в самой манере своей скорби. Их горе было представлением, тщательно срежиссированным и исполненным для самих себя и друг для друга. Они были и актерами, и зрителями в этом театре теней. Лютов методично записывал их цветистые показания в протокол, его перо двигалось ровно и бесстрастно, превращая метафизические стенания в сухие строчки полицейского документа. Он чувствовал, как его терпение, обычно прочное, как канат, истончается до состояния паутины. Он искал трещину в этом монолите экзальтации, маленькую деталь, которая не вписывалась бы в общую картину.
И тут в комнате появилась она.
Она не вошла, а возникла в дверном проеме, словно материализовавшись из полумрака парадной. Шум в гостиной снова стих, но на этот раз тишина была иной – не выжидающей, а почтительной. Лютов поднял глаза от протокола и на мгновение забыл о вопросе, который собирался задать очередному свидетелю.
Это была женщина с фотографии. Княжна Лидия Орбельяни.
Вживую она была еще более поразительна. Высокая, с неестественно прямой спиной, она стояла в простом, но безукоризненно сшитом черном платье, которое не столько скрывало, сколько подчеркивало тонкую, сильную фигуру. Ее иссиня-черные волосы были собраны в тяжелый узел на затылке, открывая длинную шею и чистую линию челюсти. Но главным были лицо и глаза. Бледная, почти прозрачная кожа, тонко очерченные губы с чуть опущенными уголками и огромные, темные, как колодцы, глаза под изломом соболиных бровей. В них не было ни истерики, ни показного горя. Лишь глухая, застывшая печаль и ум, холодный и острый, как скальпель хирурга. Она несла свою красоту не как дар, а как бремя, с достоинством и легкой усталостью.
Она обвела комнату медленным взглядом, который, казалось, проникал сквозь людей и вещи. Ее взгляд не задержался ни на теле, ни на символах на стенах. Он остановился на Лютове. В нем не было ни страха, ни заискивания. Только спокойная, оценивающая внимательность.
Лютов поднялся. Что-то в этой женщине требовало этого жеста. «Княжна Орбельяни?»
Она слегка кивнула. Ее голос оказался низким, с легкой, едва уловимой хрипотцой, которая делала его еще более завораживающим. «Вы – пристав Лютов». Это был не вопрос, а утверждение.
«Прошу», – он указал ей на кабинет, жестом выпроваживая оттуда критика Далматова, который все еще пытался вставить в свои показания что-то о «воле к власти».
Когда они остались одни, и Лютов закрыл дверь, отсекая гул голосов из гостиной, он почувствовал, как изменилась атмосфера. Напряжение стало плотным, осязаемым. Он сел за стол, она – напротив. Ее движения были плавными и экономными. Она не теребила перчатки, не поправляла прическу. Она просто сидела, прямая и неподвижная, как фигура из черного базальта.
«Вы были близки с господином Вересаевым», – начал Лютов, снова констатируя факт.
«Я была его другом, – ровным голосом ответила она. Взгляд ее был прямым. – И единственным человеком, который говорил ему правду».
«И какой была последняя правда, которую вы ему сказали?»
На ее губах промелькнула тень улыбки, печальной и мимолетной, как зимнее солнце. «Что он заигрался. Что его театр поглотит его самого. Что маска, которую он носит, приросла к лицу, и скоро под ней ничего не останется».
Лютов внимательно следил за ней. Ее слова были так же метафоричны, как и у прочих, но в них не было фальши. Они звучали как диагноз.
«Вы говорите о его увлечении… всем этим?» – Лютов неопределенно кивнул в сторону гостиной.
«Адриан верил, что поэзия – это магия, способная изменять реальность. А потом решил, что и магия может стать поэзией. Он собирал вокруг себя восторженных глупцов, которые принимали красивую фразу за откровение, а сложный ритуал – за действие. Он был для них божеством. И ему это нравилось».
«А для вас он кем был?» – нажал Лютов.
Она на мгновение отвела взгляд, посмотрев на свои руки в черных перчатках, лежавшие на коленях. «Он был гениальным поэтом. И несчастным человеком, который отчаянно пытался стать чем-то большим, чем он есть. Пытался дотянуться до образов, которые сам же и создавал».
«Когда вы видели его в последний раз?»
«Позавчера вечером. Он приходил ко мне. Мы говорили».
«О чем?»
«О его новом замысле. Он говорил, что стоит на пороге великого открытия. Что скоро он докажет всем, что его учение – не пустые слова. Он был… возбужден. Как никогда прежде».
«Он упоминал об угрозах? О врагах?»
«У гения не бывает врагов, господин пристав. Только завистники. А их у Адриана было больше, чем поклонников».