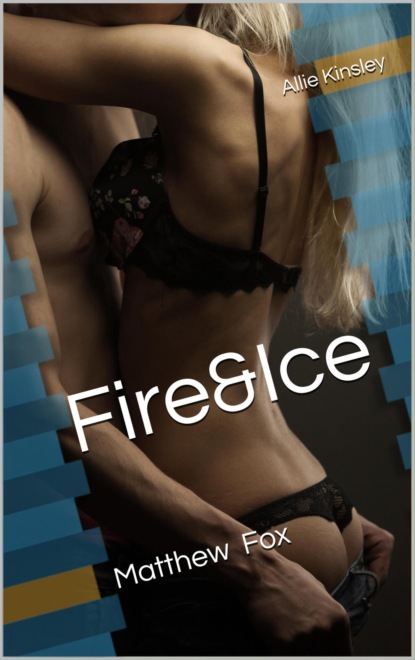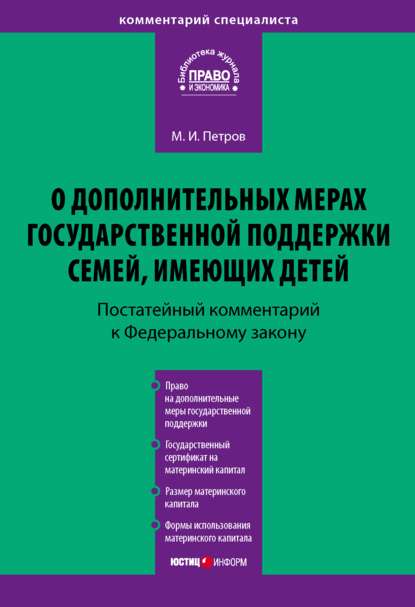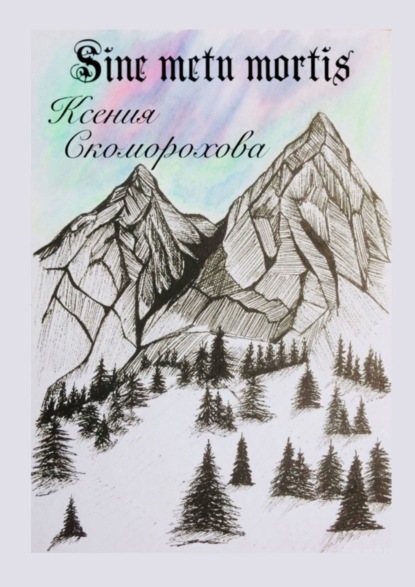Дело о погибшем символисте
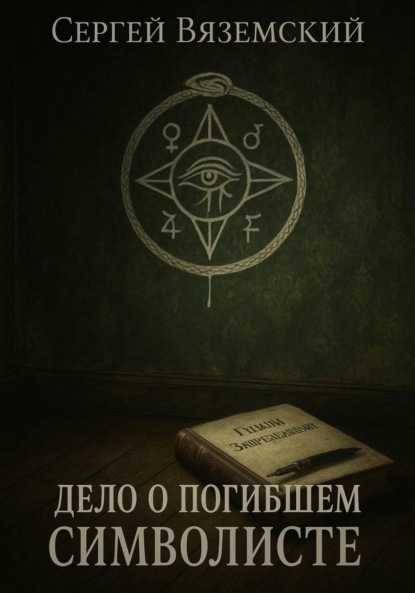
- -
- 100%
- +
Она произнесла это так спокойно, что фраза прозвучала еще весомее.
«Можете назвать конкретные имена?»
«Зачем? Вы и сами их скоро услышите. Они придут к вам первыми, чтобы излить свою желчь под видом гражданского долга».
Она словно читала его мысли. Лютов почувствовал укол раздражения, смешанного с невольным уважением. Эта женщина была не из тех, кого можно было сбить с толку или застать врасплох. Она вела свою игру, и правила этой игры знал только она.
«На фотографии в его комнате… это вы», – сказал он, меняя тактику.
«Да. Это подарок. Двухлетней давности». Ни тени смущения.
«Дворник утверждает, что вчера вечером, около девяти, Вересаев вернулся домой не один. С ним был высокий господин в шляпе».
Ее лицо осталось непроницаемым. «Я не знаю, кто бы это мог быть. Круг общения Адриана был обширен и весьма… специфичен».
Она поднялась, давая понять, что разговор окончен. «Если я понадоблюсь вам еще, вы знаете, где меня найти, господин пристав. Мой адрес есть в любой адресной книге».
Она вышла из кабинета так же бесшумно, как и вошла. Лютов смотрел ей вслед. Он не получил от нее почти никакой фактической информации, но узнал больше, чем за все предыдущие допросы. Он увидел трещину в монолите. Лидия Орбельяни не была частью этого театра. Она была его самым внимательным и, возможно, самым циничным зрителем. И она чего-то боялась. Этот страх прятался глубоко за ее холодным спокойствием, но он был там. Лютов умел чувствовать страх.
Не успела дверь за княжной закрыться, как Самойлов просунул голову в кабинет.
«Игнат Арсеньевич, там… пришел поэт Рогожин. Константин Рогожин. Он требует вас видеть. Говорит, у него есть сведения чрезвычайной важности».
«Вот и первый завистник пожаловал, – пробормотал Лютов. – Как по расписанию. Зови».
Константин Рогожин оказался полной противоположностью тому образу, который Лютов составил себе, исходя из слов княжны. Он не был ни высоким, ни статным. Худощавый, нервный человек лет тридцати пяти, с жидкими белокурыми волосами, прилипшими к вспотевшему лбу, и злыми, бегающими глазками. Одет он был в поношенный, но с претензией на элегантность сюртук. Он буквально ворвался в кабинет, не дожидаясь приглашения.
«Пристав Лютов? Я Рогожин. Константин Рогожин. Я поэт. И я пришел сказать вам правду об этом… самозванце!»
Он выпалил это на одном дыхании, и в его голосе смешались праведный гнев и плохо скрываемое злорадство.
Лютов молча указал ему на стул. Рогожин сел на самый краешек, наклонившись вперед, словно готовясь к прыжку.
«Я хочу официально заявить, – начал он, тыча в воздух костлявым пальцем, – что смерть Вересаева – это не потеря для русской словесности, а ее очищение! Он был шарлатаном! Гением саморекламы, а не поэзии! Он воровал чужие идеи, облекал их в мистический туман и продавал экзальтированным дурам и пресыщенным меценатам!»
«Это ваше литературное мнение, – спокойно прервал его Лютов. – Меня интересуют факты, относящиеся к его смерти».
«Факты? – взвизгнул Рогожин. – Вот вам факт! Его убили! И убил его кто-то из его же своры! Кто-то из этих сектантов, которых он поил вином и кормил баснями про эликсир бессмертия! Он же брал у них деньги! Крупные деньги! Обещал им вечную молодость, власть, что угодно! Они поверили, а когда поняли, что их обманули…» Он выразительно щелкнул пальцами.
«У вас есть доказательства? Имена? Суммы?»
«Доказательства! – Рогожин истерически рассмеялся. – Весь город гудит об этом! Спросите у купца Рябушкина, не вложил ли он десять тысяч в вересаевский проект по созданию философского камня! Спросите у вдовы генерала Мещерской, не отдала ли она фамильные бриллианты за право присутствовать на ритуале вызова духа Аполлона!»
Лютов записывал. Имена были ценнее любых проклятий. «Вы, как я понимаю, недолюбливали покойного».
«Недолюбливал? – глаза Рогожина опасно сузились. – Я его презирал! Он опошлил все, к чему прикасался! Он превратил высокое искусство в балаган, в спиритический сеанс для скучающих дам! Я говорил ему это в лицо! На последнем поэтическом вечере в «Логове Химеры» я назвал его тем, кто он есть – талантливым вором и торговцем воздухом!»
«Когда это было?»
«Неделю назад. Он еще пообещал стереть меня в порошок, уничтожить как поэта. Грозился… Но я его не боюсь! Правда всегда сильнее!»
Эта тирада выглядела бы убедительнее, если бы руки Рогожина не дрожали так сильно.
«Где вы были вчерашним вечером, господин Рогожин? Скажем, между десятью и полуночью?» – вопрос Лютова упал в раскаленную атмосферу комнаты холодным камнем.
Рогожин запнулся. Его лицо на мгновение утратило свой обличительный пыл. «Я? Я был дома. Один. Работал над новой поэмой».
«Кто-то может это подтвердить?»
«Я живу один, господин пристав. Поэту для творчества нужно уединение, а не свидетели».
Он сказал это с вызовом, но в его глазах мелькнула паника. Идеальный подозреваемый. Явный мотив – профессиональная зависть и личная ненависть. Слабое, никем не подтвержденное алиби. И слишком большая, слишком показная готовность сотрудничать со следствием.
«Благодарю вас за информацию, господин Рогожин. Вы нам очень помогли», – Лютов поднялся, давая понять, что допрос окончен.
Рогожин, явно не ожидавший такого быстрого завершения, смешался. Он, видимо, рассчитывал на более долгую и драматическую сцену. Он вышел, что-то бормоча себе под нос о справедливости и посмертном позоре.
Когда за ним закрылась дверь, Лютов еще несколько минут стоял неподвижно. Затем подошел к окну и чуть отодвинул тяжелую штору. День уже клонился к вечеру. Внизу, во дворе, санитары грузили в фургон обитый черной клеенкой короб. Представление действительно закончилось. Началась работа.
Он вернулся к столу и посмотрел на свои записи. Список имен, перечень мотивов, клубок из ненависти, обожания, денег и мистической чепухи. Все это было фасадом, декорацией. Он перебирал в уме лица: маска трагического художника, маска скорбящей поэтессы, маска желчного завистника. И холодное, прекрасное лицо княжны Орбельяни, которое не было маской, а скорее – зеркалом, отражающим все это уродство, но не впускающим его внутрь.
Он достал из кармана маленький бумажный пакетик и высыпал на чистый лист протокола смятый окурок дешевой махорки. Этот маленький, грязный обрывок реальности казался ему единственным подлинным предметом в этом театре теней и восковых фигур. Он был ключом. Лютов еще не знал, к какой двери, но был уверен – именно этот ключ, а не заклинания с исписанных стен, откроет ему правду.
Шепот в зазеркалье
Кабинет пристава в Сыскном отделении был обителью порядка, выстроенной посреди городского хаоса. Воздух здесь был сух, пах сургучом, дешевым табаком и холодной золой из чугунной печки. Бумаги на столе Лютова лежали не стопками, а бастионами, выстроенными с военной точностью. Каждый рапорт, каждое донесение, каждый протокол занимали свое, строго определенное место. Это был мир прямых углов и ясных формулировок, мир, где у каждого явления была своя карточка в каталоге и своя причина, поддающаяся логическому объяснению.
Сейчас посреди этого бастиона, на промокательной бумаге, испачканной чернилами, как на алтаре, лежали изъятые из квартиры Вересаева бумаги. Они были чужеродным элементом, вторжением кривых линий и туманных намеков в царство непреложных фактов. Лютов получил разрешение на полный обыск еще утром, но лишь к вечеру, когда город за окном начал растворяться в сизых сумерках, он смог уединиться с этими бумажными призраками. Самойлов был отослан с поручениями, не терпящими отлагательств, но на деле призванными лишь обеспечить его начальнику несколько часов тишины.
Он начал с вороха разрозненных листков, исписанных лихорадочным, рваным почерком. Стихи. Вернее, их зародыши, обрывки, метафизические судороги, застывшие в чернилах. «Лиловый сумрак пьет кровавый сок заката…», «Мой череп – чаша для вина забвенья…», «Сквозь трещины в эмали мирозданья сочится первородный мрак…». Лютов читал их не как поэзию, а как показания свидетеля. Свидетеля ненадежного, склонного к преувеличениям и истерии, но все же единственного, кто видел последние дни Адриана Вересаева изнутри. Он искал не образы, а факты, погребенные под ними. Искал имена, даты, намеки на страх или угрозу. Но находил лишь высокопарную тоску и тщательно культивируемое отчаяние. Это был язык не для общения, а для самолюбования. Пристав с отвращением отложил поэтические черновики в сторону. Они были лишь дымовой завесой.
Затем он взялся за переписку. Письма от восторженных поклонниц, полные туманных признаний и предложений принести себя в жертву искусству. Записки от издателей, где вежливые формулировки едва скрывали раздражение из-за сорванных сроков. Несколько писем от матери из провинции, написанных простым, корявым почерком, полных бытовых забот и тревоги о здоровье «ненаглядного Адрюши», которые, судя по всему, оставались без ответа. Ничего. Пустая порода.
И лишь на самом дне картонной папки, перевязанной выцветшей лентой, он нашел то, что искал. Три пухлые тетради в тисненых кожаных переплетах. Это не были обычные дневники. На обложке первой, из черной кожи, был вытиснен серебром уроборос – змей, кусающий собственный хвост. На второй, багряной, – перевернутая пентаграмма. На третьей, цвета старого пергамента, – странный знак, похожий на ключ и одновременно на стилизованный глаз.
Лютов закурил. Дым от его простой папиросы смешался с воображаемым запахом ладана, который, казалось, въелся в эти страницы. Он открыл первую тетрадь. Почерк здесь был иным, нежели в стихах. Не рваным, а каллиграфически выверенным, с причудливыми росчерками и завитушками. Это был почерк человека, убежденного, что он пишет не для себя, а для вечности. Записи велись нерегулярно, датировались не числами, а фазами луны или астрологическими событиями. «В ночь, когда Марс вошел в дом Скорпиона…», «На исходе тринадцатого лунного дня…».
Первые страницы были наполнены философскими эссе, размышлениями о гностиках, катарах, о природе зла и иллюзорности материи. Лютов пропускал эти пассажи, его взгляд, натренированный на вычленение сути в потоке словесной шелухи, скользил по строкам, выхватывая ключевые слова. И вскоре он их нашел.
«Великое Делание близится к завершению. Сосуд почти готов. Осталось лишь очистить металлы, отделить золото от свинца. Дух должен восторжествовать над косной плотью, воля – над роком».
Великое Делание. Эта фраза повторялась снова и снова, становясь лейтмотивом всего повествования. Лютов поначалу счел это очередной поэтической метафорой, но чем дальше он читал, тем яснее понимал: для Вересаева и его окружения это было нечто большее. Это была цель, проект, смысл существования. Он писал об этом с одержимостью алхимика, стоящего у своего атанора. Речь шла о какой-то грандиозной духовной трансформации, о достижении бессмертия и власти над реальностью. Лютов хмыкнул. В его мире «Великое Делание» обычно сводилось к получению крупной суммы денег или устранению конкурента. Он был уверен, что и здесь, за всей этой мистической риторикой, скрывается нечто столь же прозаичное.
А затем появилось и второе название.
«Собрание прошло успешно. Новички трепетали, в их глазах был священный ужас и восторг. Они еще не готовы понять истинную природу нашего пути, но семена посеяны. Дети Люцифера узрят свет, который несет их отец. Свет знания, свет свободы от ветхих догм. Я говорил им о падении как о высшем полете, о тени как об источнике всякого сияния. Они слушали, затаив дыхание. Особенно молодой химик, в его глазах горит подлинный огонь познания. Книготорговец же, как всегда, молчал, но его молчание весомее тысячи слов».
Дети Люцифера. Так они себя называли. Лютов откинулся на спинку стула. Картина начинала приобретать очертания. Не просто кружок по интересам, не салонные беседы за бокалом вина. Тайное общество. Со своими ритуалами, иерархией, целями. Вересаев был не просто участником, он был их пророком, их демиургом. Он упивался этой ролью. Страницы дневника были полны самолюбования. Он описывал, как манипулировал своими последователями, как играл на их страхах и надеждах, как вел их к «просветлению», которое, по сути, было лишь полной покорностью его воле.
«Они видят во мне проводника, но не понимают, что я и есть путь. Каждый их вздох, каждая мысль – лишь эхо моей воли. Я леплю их души, как гончар лепит глину. Я – их Пигмалион, а они – моя оживающая Галатея. Они готовы отдать все за каплю истины из моих рук: деньги, репутацию, даже жизнь. И они отдадут».
Пристав почувствовал знакомое, холодное раздражение. Он видел таких «пророков» и раньше, хоть и меньшего калибра. Мелкие мошенники, гипнотизеры, создатели финансовых пирамид. Механизм был тот же: найти человеческую слабость, жажду чуда, страх перед пустотой – и предложить взамен простую, пусть и лживую, истину. Вересаев лишь облек старое как мир шарлатанство в более изысканную форму. Он торговал не эликсирами молодости, а гностическими прозрениями. Но суть от этого не менялась.
Он перевернул несколько страниц. Тон записей начал меняться. В спокойное, самодовольное повествование стали вплетаться нотки тревоги.
«Снова этот спор. Он не понимает. Его прагматичный ум видит в Великом Делании лишь инструмент, грубый рычаг для переустройства материального мира. Он говорит о жертвах, о необходимости, о цели, оправдывающей средства. Он хочет превратить наш храм в политический застенок. Его холодная логика – яд для нашей веры. Он видит в Люцифере не светоносного гения, а лишь бунтовщика. В его глазах сталь, а не звездный свет. Я начинаю опасаться, что создал нечто, что уже не могу контролировать. Змей, которого я пригрел, может ужалить меня самого».
Лютов выпрямился. Вот оно. Первая трещина. Первый настоящий конфликт, не придуманный, а реальный. Вересаев не называл имени. Он всегда писал о членах своего кружка иносказательно: «химик», «книготорговец», «поэт» (явно не Рогожин, того он презирал открыто), «молчаливая дева». Но за этими масками скрывались реальные люди. И один из них, «прагматик со сталью в глазах», пошел против своего учителя.
Он листал дальше. Записи становились все более отрывочными, лихорадочными. Уверенность пророка сменилась страхом марионетки, осознавшей, что нити ведут не в ее руки.
«Сегодня он принес яд. Сказал – для опыта. Демонстрация власти над жизнью и смертью. Я смотрел на кристаллики в фиале, и мне показалось, что я смотрю в бездну. Он улыбался, но глаза его были как два колодца, затянутые льдом. Он говорил, что истинная воля не боится смерти, что она может пройти сквозь нее, как нож сквозь масло. Это было испытание. Для меня. Он проверял, насколько далеко я готов зайти. Или он просто показывал мне, чем все может кончиться».
Последняя запись была сделана за два дня до смерти.
«Великое Делание требует последней жертвы. Великий Магистр должен стать вратами. Он должен умереть, чтобы возродиться. Так он сказал. Он убедил остальных. Они смотрят на меня с ожиданием, с восторгом фанатиков. Они ждут чуда. А я вижу в их глазах лишь отражение своего конца. Я запер себя в лабиринте, который сам построил. Зеркала отражают не мое лицо, а тысячи масок. И за одной из них – лицо моего убийцы. Шепот в зазеркалье стал громче крика».
Лютов закрыл тетрадь. В кабинете стало тихо. Только слышно было, как потрескивает остывающая печь и как где-то далеко, на улице, крикнул разносчик вечерних газет. Шепот в зазеркалье. Пристав потер уставшие глаза. Он не верил ни в какие ритуальные жертвы и астральные врата. Он верил в человеческую низость.
Вересаев создал игру, но потом один из игроков решил изменить правила. Поэт заигрался в бога, а кому-то из его «апостолов» это надоело. Или же «пророк» стал мешать. Мешать чему-то более реальному, чем духовные поиски. «Прагматик», который хотел превратить храм в «политический застенок». Что это значило?
Мотив вырисовывался. Не ревность отвергнутого любовника, не месть обманутого вкладчика, не зависть литературного соперника. Все это было слишком мелко, слишком очевидно. Настоящая причина была внутри этого гниющего мирка, этого балагана под названием «Дети Люцифера». Внутренний раскол. Борьба за власть над умами и, что вероятнее всего, кошельками адептов. Вересаев потерял контроль над своей паствой и был устранен. Ритуальное убийство было лишь последней, самой грандиозной мистификацией, призванной скрыть банальный силовой переворот в секте. Убийца не просто лишил поэта жизни, он использовал его же собственный язык, его же символы, чтобы совершить идеальное, с его точки зрения, преступление, – то, в котором мотив растворяется в мистическом тумане.
В дверь осторожно постучали.
«Войдите».
На пороге появился Самойлов. В руках он держал поднос с чайником и двумя стаканами в подстаканниках. Выражение его лица было смесью любопытства и благоговейного ужаса.
«Я подумал, Игнат Арсеньевич, вам не мешало бы…»
«Ставьте», – кивнул Лютов, не отрывая взгляда от тетрадей.
Самойлов поставил поднос на угол стола, стараясь не нарушить геометрию бумажных стопок. Его взгляд прикипел к странным символам на переплетах.
«Это… его?» – шепотом спросил он.
«Его, – подтвердил Лютов. – Его исповедь. Или предсмертная записка, растянутая на три тома».
«И что там? Заклинания? Черная магия?» – в голосе помощника слышался неподдельный интерес.
Лютов взял стакан. Горячее стекло обожгло пальцы. Он сделал глоток. Чай был крепкий, горький, именно такой, как нужно.
«Там то, что бывает всегда, Петр. Гордыня, жадность, страх. И много, очень много красивых слов, чтобы все это прикрыть. Наш покойник возомнил себя новым мессией. Собрал вокруг себя дюжину экзальтированных особ и назвал их «Дети Люцифера»».
Самойлов присвистнул. «Вот оно что… Секта. А эти знаки на стенах, пентаграмма… Это, значит, их ритуалы?»
«Это декорации, – отрезал Лютов. – Ширма. Он писал, что они занимались неким «Великим Деланием». Искали бессмертие, власть над материей и прочую чепуху».
«А что, если… – Самойлов понизил голос до заговорщицкого шепота, – что, если они и вправду что-то нашли? И он не захотел делиться? Или, наоборот, хотел остановить их?»
Лютов посмотрел на своего помощника долгим, тяжелым взглядом. В глазах Петра плескался тот самый восторг, та самая жажда чуда, на которых Вересаев и строил свою маленькую империю. В эту минуту пристав понял, насколько сильным было оружие покойного поэта. Оно действовало даже здесь, в прокуренном кабинете Сыскного отделения, даже в пересказе скептика.
«Петр, – медленно произнес он, ставя стакан. – Единственное бессмертие, которое существует в этом мире, – это глупость. И единственная власть над материей – это туго набитый кошелек. Вересаев был шарлатаном, который торговал иллюзиями. Но в его пастве, похоже, завелся кто-то более практичный. Кто-то, кому надоели игры в мистику и захотелось реальной власти. Или реальных денег. Вересаев стал помехой. Его убрали. И обставили все так, чтобы мы с тобой пошли по ложному следу, запутались в этих их люциферах и астральных телах».
Он постучал костяшкой пальца по багряной обложке дневника.
«Убийца здесь, Петр. На этих страницах. Он скрывается за одним из этих прозвищ – «химик», «книготорговец», «прагматик». Наша задача – сорвать с него маску. Нам нужен список. Полный список всех, кто входил в этот вертеп. Всех, кто посещал его квартиру, кто слушал его бредни. Начнем с тех, кого мы уже допросили. Далматов, Брамский, поэтесса эта… Проверить их всех. Кто они, откуда у них деньги, с кем связаны. И особенно – Константин Рогожин. Его ненависть слишком проста, слишком театральна. Возможно, он лишь отвлекающий маневр. Но проверить надо. А я пока еще раз пройдусь по этим письменам. Может, между строк найдется что-то еще».
Самойлов, немного разочарованный крушением мистической версии, но воодушевленный ясным планом действий, кивнул и поспешил к выходу.
Лютов остался один. Ночь за окном окончательно вступила в свои права. Свет газового рожка на столе выхватывал из полумрака лишь стол, бумаги и его собственное лицо, резкое, с глубокими тенями под глазами. Он снова открыл дневник. Шепот в зазеркалье. Он должен был понять логику безумия, чтобы найти в ней холодный расчет убийцы. Он должен был сам заглянуть в это кривое зеркало, не боясь увидеть там нечто, что навсегда изменит его собственное отражение. Работа только начиналась.
Чернила и кровь
Кабинет пристава в Сыскном отделении был островом, омываемым ночной тишиной. За окном Петербург растворился в чернильной взвеси, оставив после себя лишь редкие желтые мазки газовых фонарей и глухой, утробный гул, который никогда не покидал город. Лютов сидел за столом, и свет единственной лампы под зеленым абажуром вырезал из полумрака строгий прямоугольник: его руки, лицо с резкими тенями в глазницах и разложенные на промокательной бумаге бумаги Вересаева.
Он уже несколько часов дышал этим чужим, лихорадочным воздухом, запертым в каллиграфических строчках. Дневники поэта лежали перед ним, три тома в тисненых кожаных переплетах, словно три ступени в преисподнюю духа, выстроенную из гордыни и самообмана. Лютов перелистывал страницы медленно, методично, как патологоанатом, исследующий больные ткани в поисках первопричины болезни. Его мозг, привыкший к прямолинейной логике фактов, с трудом переваривал эту вязкую смесь из гностических откровений, алхимических метафор и плохо скрытого упоения властью над чужими душами. «Дети Люцифера». Название отдавало дешевым театром, но люди, скрывавшиеся за ним, были настоящими. И один из них, «прагматик со сталью в глазах», как назвал его Вересаев, оказался убийцей.
Пристав отложил последнюю тетрадь и потер глаза. Голова гудела от чужих мыслей. Он чувствовал себя так, словно долго пробыл в душной, накуренной комнате, где говорили на незнакомом ему языке. Все эти «эоны», «демиурги», «астральные врата» – лишь пышная драпировка, скрывающая простую и уродливую конструкцию. Секта. Вожак. И раскол. Оставалось лишь найти имена и сопоставить их с масками, которые Вересаев так щедро раздавал в своих записях: «химик», «книготорговец», «молчаливая дева».
Он потянулся к стопке писем, отобранных ранее, чтобы еще раз просмотреть их на свежую голову, как вдруг его внимание привлекла тонкая книжица в простом картонном переплете. Это был сборник стихов, изданный малым тиражом, какого-то малоизвестного поэта. Лютов уже пролистал его днем и счел неинтересным. Но сейчас, под другим углом света, он заметил, что между последней страницей и обложкой что-то застряло. Сложенный вчетверо листок почтовой бумаги. Он аккуратно, кончиком ножа, подцепил его и развернул на столе.
Это было письмо. Без даты, без подписи. Почерк был угловатый, нервный, с сильным нажимом, словно пишущий не просто выводил буквы, а вколачивал их в бумагу. Лютову показалось, что он уже видел эти резкие, как удар хлыста, росчерки.
«Вересаев, – читал он. – Ты заигрался. Твоя сцена превратилась в балаган, а твои пророчества – в бредни для пресыщенных меценаток. Ты торгуешь воздухом и называешь это магией, ты облекаешь пустоту в красивые слова и считаешь себя демиургом. Но есть те, кто видит твою ложь. Ты играешь с огнем, который не ты зажег, и скоро он опалит твои павлиньи перья. Ты называешь себя пророком, но ты лишь обманщик, стоящий на пути у настоящего дела. Уйди с дороги. Это не просьба. Это последнее предупреждение. Те, кто следуют за тобой, ослеплены, но прозрение будет жестоким. И для тебя оно станет концом».
Лютов перечитал письмо дважды. Затем еще раз, медленно, вслушиваясь в каждое слово. Это был не лепет экзальтированного адепта. Это была холодная, концентрированная ненависть, облеченная в ту же витиеватую форму, что так любил покойный. Язык врага. Угроза разоблачением. И не только. «Конец» здесь звучал вполне определенно.
Он поднял листок к лампе. Бумага обычная, почтовая. Чернила фиолетовые, стандартные. Никаких водяных знаков. Но почерк… где же он его видел? Память, натренированная годами запоминать детали, подбросила ответ. Протокол допроса свидетелей. Показания поэта, который пришел сам, без приглашения, чтобы излить свою желчь на мертвого конкурента. Константин Рогожин.
Лютов положил письмо на стол, точно улику на судебном заседании. Картина обретала резкость. Мотив, который он счел слишком очевидным, слишком театральным, вдруг оказался подкреплен вещественным доказательством. Профессиональная зависть, помноженная на идеологические разногласия внутри литературного мирка. Рогожин в своих показаниях говорил почти то же самое, что и в письме, лишь другими словами. Он обвинял Вересаева в шарлатанстве, в опошлении высокого искусства.