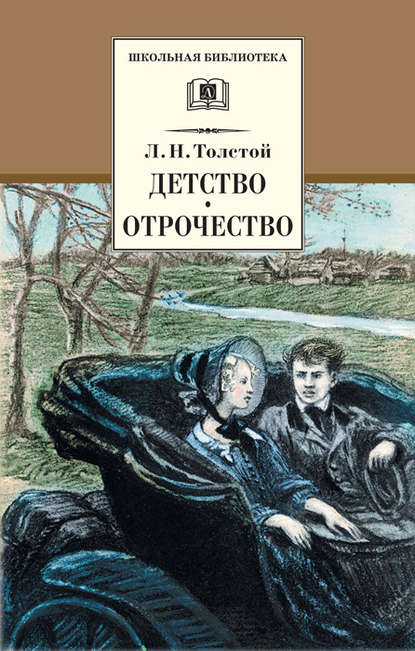Дело о погибшем символисте

- -
- 100%
- +
Конечно, это могло быть простым совпадением. Многие в их кругу думали и говорили так. Но анонимное письмо с прямой угрозой – это уже не салонная критика. Это деяние.
Лютов встал и подошел к окну. Ночь за стеклом была непроницаема. Он не видел ничего, кроме собственного усталого отражения. Первая версия рассыпалась, версия с обманутыми вкладчиками была слишком прямолинейна. Но эта… эта линия была пропитана ядом личной неприязни. Она была живой.
Он вернулся к столу и нажал кнопку электрического звонка. Через минуту в дверях появился заспанный дежурный унтер-офицер.
– Послать двух городовых по адресу: Гороховая, сорок семь, квартира двенадцать. Привезти сюда поэта Константина Ильича Рогожина. Если окажет сопротивление – доставить силой. Исполнять.
Унтер-офицер козырнул и исчез. Лютов остался один. Он сел за стол и снова взял в руки письмо. «Чернила и кровь», – подумал он. Иногда между ними расстояние короче, чем кажется. Он положил листок в центр стола, рядом с остывшим стаканом чая, и стал ждать. Ночная охота началась.
Прошло больше часа. Лютов не двигался, словно впав в оцепенение, но его мозг работал с холодной точностью часового механизма. Он прокручивал в голове сценарии предстоящего допроса, выстраивал ловушки из вопросов, взвешивал каждое слово из первых показаний Рогожина. Он знал этот тип людей: самолюбивые, истеричные, живущие в мире собственных обид, где неосторожное слово критика равносильно удару кинжалом. Такие способны на многое в припадке уязвленной гордости.
Наконец, в коридоре послышались тяжелые шаги и возмущенный, высокий голос. Дверь распахнулась без стука, и на пороге возник Рогожин. Он был еще более жалок и одновременно более агрессивен, чем днем. Поношенный сюртук был надет наспех, белокурые волосы растрепаны. В его злых, бегающих глазках плескалась смесь страха и негодования. За его спиной маячили две внушительные фигуры в полицейской форме.
– Что это значит?! – взвизгнул он, обращаясь к Лютову. – На каком основании?! Я поэт, а не ночной вор! Вы не имеете права врываться ко мне…
– Имею, – спокойно прервал его Лютов, не вставая из-за стола. Он указал на стул напротив. – Садитесь, господин Рогожин. У нас будет долгий разговор.
Городовые, получив от пристава короткий кивок, вышли и притворили за собой дверь. Рогожин смерил Лютова ненавидящим взглядом, но подчинился. Сел на краешек стула, готовый в любую секунду вскочить.
– Я уже все сказал вам днем! – выпалил он. – Я сказал вам правду об этом… самозванце! И вместо благодарности вы присылаете ко мне этих ищеек!
– Вы сказали мне ваше мнение, – поправил Лютов, медленно подбирая слова. Его голос был ровным и лишенным всякой окраски, что действовало на нервы Рогожина сильнее, чем крик. – А меня интересуют факты. Вы утверждали, что говорили Вересаеву в лицо все, что о нем думаете.
– Да! И я не отказываюсь от своих слов! Он был бездарность, раздутая до гения! Он был опухолью на теле русской словесности! Его смерть – это благо!
– Вы также угрожали ему? – вопрос упал в тишину кабинета, как камень в колодец.
Рогожин запнулся. Его лицо на мгновение утратило свою обличительную маску, на нем проступила растерянность.
– Что?.. Я?.. Никогда! Я презирал его, но я поэт, а не убийца! Наши дуэли проходили на страницах журналов, а не в темных подворотнях!
Лютов молча, одним пальцем, подвинул по столу анонимное письмо.
– Ваш почерк, господин Рогожин?
Поэт уставился на листок. Он наклонился, его глаза забегали по строчкам. Лютов наблюдал за ним, не отрываясь. Он видел, как краска отхлынула от лица Рогожина, как на лбу выступили мелкие капельки пота. Пальцы, лежавшие на коленях, сжались в кулаки.
– Это… это провокация! – прошептал он. – Я этого не писал!
– Экспертиза легко установит обратное, – ледяным тоном заметил Лютов. – Я задам вопрос еще раз. Вы писали это письмо?
Рогожин поднял на него взгляд. В глубине его глаз метался страх. Он открыл рот, закрыл. Его показная бравада испарилась, оставив лишь дрожащего, испуганного человека.
– Да, – наконец выдавил он. Голос его был едва слышен. – Писал. Но это было… это была метафора! Литературный прием! «Конец» – это конец его репутации, его влияния! Я хотел разоблачить его, написать разгромную статью! Уничтожить его как кумира, а не как человека!
– Странный способ анонсировать статью, – хмыкнул Лютов. – «Это последнее предупреждение». Звучит вполне материально. Когда вы его написали?
– Неделю назад. Или две… Я не помню! После того вечера в «Логове Химеры», когда он публично оскорбил меня, назвал графоманом и завистником! Я был в ярости… Я написал это в ту же ночь, но… я не отправлял!
– Не отправляли? – бровь Лютова медленно поползла вверх. – Тогда как же оно оказалось у Вересаева?
– Я не знаю! – голос Рогожина снова сорвался на визг. – Я оставил его на столе в редакции «Северного вестника», я там бываю… Думал, передать ему через общих знакомых, чтобы он понял, что я не шучу… А потом одумался, решил, что это недостойно. Что я выше этого. Я думал, я его выбросил… Кто-то мог взять его! Подбросить! Это его дружки! Они хотят свалить все на меня, я знаю!
Он говорил быстро, сбивчиво, захлебываясь словами. Лютов слушал молча, его лицо оставалось непроницаемым. История была слабой, шитой белыми нитками, но страх в глазах поэта был подлинным. Это был страх человека, попавшего в жернова, которых он не понимал.
– Хорошо, – сказал Лютов после долгой паузы. – Допустим. Давайте вернемся к ночи убийства. Ночь с понедельника на вторник. Вы утверждали, что были дома. Одна. И работали над поэмой.
– Да! Да! Я работал! – с готовностью закивал Рогожин, ухватившись за эту, как ему казалось, спасительную нить.
– И никто не может этого подтвердить, – констатировал Лютов.
На лице Рогожина отразилась паника. Он понял ловушку. Он сам предоставил полиции идеальный мотив, а теперь не мог доказать свое алиби.
– Я… я никуда не выходил! Я был дома! Клянусь!
– Ваших клятв недостаточно, господин Рогожин. У вас был мотив. У вас была возможность. И вы угрожали покойному. Картина складывается вполне законченная.
Лютов сделал паузу, давая своим словам впитаться, стать тяжелее. Он видел, как поэт съежился под их весом, как в его глазах отчаяние сменилось ужасом. Он довел давление до предела. Теперь оставалось ждать, сломается ли подозреваемый, или в его слабой защите найдется неожиданная опора.
– Нет… – прошептал Рогожин, качая головой. – Нет, вы не правы. Я… я солгал вам днем.
Лютов замер.
– Солгали? В чем?
– Я был не один, – Рогожин поднял на него затравленный взгляд. – И я был не дома.
– Где же вы были?
– В литературном салоне у графини Толбухиной. На Мойке. Там был поэтический вечер. Я читал стихи. Свои.
Лютов молча смотрел на него, ожидая продолжения. В его серых глазах не было ни удивления, ни доверия. Лишь холодный, взвешивающий анализ.
– Почему вы не сказали об этом сразу? – спросил он. – Алиби в присутствии десятков свидетелей, включая графиню, – это лучшая защита, какую только можно придумать. Зачем лгать и говорить, что вы были дома один?
Рогожин опустил голову. Его плечи поникли. Он вдруг показался маленьким и бесконечно несчастным.
– Потому что… – он выдавил из себя с трудом. – Потому что меня туда не звали. Я… я пришел без приглашения. Адриан был главной звездой вечера. Его ждали. Все ждали. А я… я просто хотел… я хотел, чтобы они услышали и меня. Я хотел доказать, что я не хуже него. Я пробрался в залу, дождался паузы и вышел на середину… и начал читать.
Он замолчал, переживая унижение заново.
– И что же произошло? – тихо подтолкнул его Лютов.
– Они… они слушали. Сначала было тихо. Мне даже показалось, что им нравится. А потом… потом кто-то засмеялся. Потом другой. Графиня сказала, что вечер – частный, и попросила меня удалиться. Это было… это было ужасно. Меня выставили, как мальчишку. Я не хотел, чтобы об этом позоре узнали все… особенно полиция.
Лютов откинулся на спинку стула. История была нелепой, жалкой, но в своей унизительности – пугающе правдоподобной. Она объясняла и ложь, и панику, и ненависть Рогожина к Вересаеву, который даже мертвым продолжал бросать на него свою тень.
– Во сколько это было? – спросил пристав.
– Я пришел около девяти. Читал, наверное, в половине десятого. Меня вывели где-то в десять. Я еще долго бродил по набережной… не помню, когда вернулся домой. После полуночи, точно.
– Кто там был? Назовите имена.
Рогожин начал перечислять. Он называл известные в богемном и светском Петербурге фамилии: критики, издатели, меценаты, поэты. Список был внушительным. И легко проверяемым.
– Граф Апраксин, – бормотал он, – критик Стасовский, издатель Суворин… поэтесса Мирра Лохвицкая… Далматов, тот самый, что был у Вересаева в квартире… Их было человек тридцать, не меньше. Все они меня видели. Все они видели мой позор.
Лютов молча записывал имена. Железное алиби. Даже более чем железное. Десятки свидетелей из высшего общества могли подтвердить, что в предполагаемое время убийства Константин Рогожин находился на другом конце города, устраивая публичный скандал. Он был слишком занят своим унижением, чтобы совершать убийство.
Линия, казавшаяся такой перспективной, рассыпалась в прах. Анонимное письмо оказалось не прелюдией к убийству, а лишь жалким выплеском зависти. Вся эта история с литературным соперничеством была именно тем, чем показалась Лютову с самого начала, – дымовой завесой. Только теперь он понял, что завеса была создана не убийцей, а самой жизнью, слепым стечением обстоятельств. Кто-то умело воспользовался этой очевидной, кричащей ненавистью, зная, что полиция непременно ухватится за нее.
Он поднял глаза на Рогожина. Тот сидел, ссутулившись, – сломленный, опустошенный человек, вывернувший наизнанку свою самую стыдную тайну. В нем не было ничего от хладнокровного убийцы. Только горечь и зависть.
– Можете идти, господин Рогожин, – сказал Лютов. Голос его был ровным, но в нем слышалась тень усталости. – Но не покидайте город. Возможно, вы нам еще понадобитесь. Как свидетель.
Рогожин недоверчиво поднял голову.
– Все?..
– Все. Мы проверим ваши показания. Если все подтвердится, к вам не будет претензий. По крайней мере, по этому делу.
Поэт медленно поднялся. Он постоял мгновение, глядя на Лютова с непонятным выражением – в нем смешались облегчение, стыд и даже какая-то странная, уязвленная благодарность. Затем, не говоря ни слова, он повернулся и вышел из кабинета, тихо притворив за собой дверь.
Лютов остался один в густой тишине. Он посмотрел на список имен в своем блокноте, затем перевел взгляд на анонимное письмо, лежавшее на столе. Главная улика превратилась в макулатуру. Самый очевидный подозреваемый оказался невиновен. Он снова был в исходной точке, в центре комнаты с загадочными символами на стенах. Только теперь он точно знал, что убийцу нужно искать не снаружи, не среди явных врагов и завистников. Убийца был внутри. Один из «Детей Люцифера». Один из тех, кто слушал проповеди Вересаева, смотрел ему в глаза и называл его учителем.
Он скомкал исписанный лист с показаниями Рогожина и швырнул его в сторону мусорной корзины. Комок ударился о стену и упал на пол. Первая версия зашла в тупик, упершись в стену чужого позора. Это означало, что пора перестать ходить вокруг да около и шагнуть прямо в зазеркалье, в которое так настойчиво заглядывал покойный. Туда, где прагматики со сталью в глазах обсуждали Великое Делание. И где-то среди них прятался тот, кто довел это делание до своего кровавого, но логичного конца.
Карта звездного неба
Утро пахло остывшим пеплом и безнадежностью. Лютов сидел за своим столом, превращенным в поле проигранного сражения. Бумаги, донесения, протоколы – все то, что еще вчера казалось оружием, теперь лежало мертвым грузом, арсеналом бесполезного железа. Версия с Рогожиным, такая стройная, такая земная и понятная в своей ядовитой зависти, рассыпалась в прах, оставив после себя лишь горький привкус чужого унижения. Пристав смотрел на аккуратно сложенное анонимное письмо и чувствовал, как следствие вязнет, погружается в туманную трясину мистификаций, из которой ему не за что было уцепиться. Он потер ладонями лицо, ощущая под пальцами сухую, уставшую кожу. В кабинете было холодно, хотя чугунная печка еще хранила слабое тепло.
Дверь скрипнула с деликатностью, на которую способен был только Самойлов, когда хотел о чем-то попросить. Помощник вошел, неся в руках стопку дагерротипных снимков, сделанных в квартире Вересаева. Лицо его было серьезным, но в глубине честных глаз горел тот самый огонек, который Лютов про себя называл «поиском чуда в стоге сена».
«Игнат Арсеньевич», – начал он с той почтительной робостью, которая всегда предшествовала неудобному предложению. – «Я тут снова смотрел на эти… знаки. Фотографии».
Лютов молча поднял на него тяжелый взгляд. Это молчание было страшнее любого окрика. Оно говорило: «Не трать мое время, Петр».
Но Самойлов, набравшись духу, продолжил. «Тут ведь не просто мазня, Игнат Арсеньевич. Посмотрите, как они выведены. Каждый завиток… Я подумал… А что, если это не для нас? Не для полиции? Что, если это язык, который мы просто не понимаем?»
«Язык безумия я понимать и не обязан», – отрезал Лютов, его голос был сухим, как треск старого дерева. – «Моя работа – переводить его на язык Уложения о наказаниях. И пока перевод не складывается».
«Так может, нужен толмач?» – не сдавался Самойлов. Он шагнул к столу и разложил перед приставом несколько фотографий. С глянцевой поверхности глянули спирали, глаза без зрачков, перечеркнутые треугольники. В холодном свете утра они казались еще более чуждыми и бессмысленными. «Я поспрашивал… Есть в университете один человек. Приват-доцент Волынский. Аркадий Иеронимович. Говорят, он о восточных культах, древних алфавитах и всякой такой премудрости знает больше, чем кто-либо в столице. Может, он взглянет? Просто скажет, что это. Вдруг это не просто набор знаков, а… что-то осмысленное?»
Лютов долго смотрел на снимки, потом на взволнованное лицо помощника. Мысль была абсурдной. Тащить вещественные доказательства к какому-то книжному червю, который, несомненно, начнет вещать о проклятиях фараонов и астральных телах. Это было противно всей его натуре. Это было признанием собственного бессилия. Но тупик, в который он зашел, был реален и холоден, как гранитные набережные. Рогожин отпал. Круг «Детей Люцифера» был замкнут сам на себе, говоря на языке, который действительно походил на бред сумасшедшего. Возможно, чтобы понять этот бред, и впрямь нужен был специалист по бреду.
«Хорошо», – выдохнул он, и это слово прозвучало как скрип тюремных ворот. Он почувствовал себя предателем собственных принципов. – «Собирайте снимки. Но если ваш доцент начнет рассказывать мне о влиянии Сатурна на урожайность репы, вы, Петр, лично пойдете опрашивать всех извозчиков от Знаменской до Пяти Углов. Пешком».
Лицо Самойлова просияло. «Никак нет, Игнат Арсеньевич! То есть, да! Слушаюсь!»
Квартира приват-доцента Волынского располагалась на Васильевском острове, в глубине старого доходного дома, чей фасад, казалось, держался лишь на силе привычки и многолетних слоях серой краски. Уже на лестнице их окутал специфический запах – нежилой, но и не мертвый. Запах старой бумаги, кожаных переплетов и слабой заварки. Дверь им открыл сам хозяин – сухопарый, невысокий человек в поношенном домашнем сюртуке, из-под которого виднелся безупречно накрахмаленный воротничок. Его лицо, обрамленное жидкой бородкой клинышком, было бы совершенно непримечательным, если бы не глаза за толстыми стеклами пенсне. Они были невероятно живыми, цепкими и чуть насмешливыми, словно их обладатель давно постиг какую-то важную истину о мире, но не спешил ею делиться.
«Пристав Лютов. А это мой помощник, Самойлов», – представился Игнат, чувствуя себя неуклюжим медведем, вломившимся в лавку древностей.
«Волынский», – кивнул доцент, не выказывая ни удивления, ни особого интереса. – «Прошу».
Он провел их не в гостиную, а прямо в кабинет, который, по сути, и был всей его квартирой и всем его миром. Комната была крепостью, выстроенной из книг. Стеллажи от пола до потолка теснились вдоль всех стен, заставленные томами в строгом, почти военном порядке. На огромном письменном столе, единственном свободном от книжных завалов пространстве, царила такая же педантичная упорядоченность: стопки исписанных листов, баночки с тушью разных цветов, перья, лупы, какие-то медные инструменты непонятного назначения. Воздух был неподвижен и пропитан все тем же запахом вековой пыли, но пыли не бытовой, а благородной, архивной.
«Чем обязан визиту сыскной полиции в мою скромную обитель?» – спросил Волынский, усаживаясь в глубокое кожаное кресло, которое протестующе скрипнуло. Он указал гостям на два жестких стула напротив стола.
Лютов молча выложил на полированную поверхность стола папку со снимками. «Нам нужна ваша консультация, господин доцент. Как специалиста».
Волынский с легким любопытством поправил пенсне и взял верхнюю фотографию. Лютов следил за ним, готовый к любому проявлению шарлатанства: многозначительным вздохам, туманным намекам, ссылкам на тайные знания. Но ничего этого не было. Доцент рассматривал снимок с бесстрастным вниманием энтомолога, изучающего редкое насекомое. Его тонкие пальцы с сухими, ухоженными ногтями осторожно перебирали фотографии одну за другой. Он молчал так долго, что Самойлов начал беспокойно ерзать на стуле. Лютов же, напротив, сидел неподвижно, как изваяние.
Наконец, Волынский отложил последний снимок и сложил руки на столе. Он посмотрел на Лютова поверх стекол пенсне, и в его глазах блеснул огонек почти веселого азарта.
«Весьма, весьма любопытно», – произнес он своим сухим, скрипучим голосом. – «Классический пример того, что принято называть „оккультной абракадаброй“. Рассчитано на то, чтобы произвести максимальное впечатление на профана и одновременно не сказать ничего по существу. Дилетантская мешанина».
Лютов почувствовал прилив глухого раздражения. Все именно так, как он и предполагал. Пустая трата времени. Он уже собрался подняться и прекратить этот фарс.
«Однако…» – продолжил Волынский, и это «однако» повисло в пыльном воздухе, заставив Лютова замереть. Доцент снова взял один из снимков, тот, где был изображен самый сложный узел символов над камином. Он постучал по нему ногтем.
«Однако автор этой, с позволения сказать, композиции, был вовсе не дилетантом. Напротив. Он был виртуозом. Гением стилизации. Посмотрите сюда». Он подвинул снимок ближе. «Вот этот знак. Неофит увидит в нем некий „демонический сигил“. Я же вижу здесь сильно измененный, но абсолютно узнаваемый символ финикийского алфавита. Букву „алеф“. А вот это, – он указал на другой элемент, – выдается за алхимический символ серы, но начертание, угол наклона перекладины… это из ранней греческой астрологической традиции, обозначение дома Марса. А вся эта вязь вокруг… это не просто завитушки для красоты. Это принципы построения гностического шифра-абраксас, где числовое значение букв играет ключевую роль».
Он говорил быстро, увлеченно, словно читал лекцию невидимой аудитории. Его пальцы порхали над фотографией, соединяя разрозненные элементы в единую, пугающую своей сложностью картину. Самойлов слушал, открыв рот. Лютов молчал, но его внутреннее напряжение достигло предела. Он чувствовал, как под его ногами начинает крошиться твердая почва фактов, но вместо болота под ней обнаруживается сложный механизм неведомой конструкции.
«Вы хотите сказать, что это не бессмыслица?» – хрипло спросил он, нарушая собственное молчание.
Волынский рассмеялся. Это был сухой, шелестящий смех, похожий на шорох переворачиваемых страниц. «О, нет, господин пристав! Это не бессмыслица. Это нечто прямо противоположное. Это – избыток смысла. Смысл, который так тщательно спрятан под слоями ложных смыслов, что почти неотличим от их отсутствия. Автор этого послания… а это, несомненно, послание… не просто хотел напугать или впечатлить. Он хотел быть понятым. Но лишь тем, кто обладает ключом».
Он откинулся на спинку кресла и посмотрел на Лютова с живым, почти хищным интересом.
«Вы имеете дело не с безумцем, впавшим в мистический экстаз. Безумец хаотичен. Его рука дрожит. Его символы плывут, искажаются под напором видений. А здесь… посмотрите на твердость линий. На выверенную геометрию. Это работа холодного, расчетливого ума. Ума, который наслаждается собственной сложностью. Это не молитва демону, господин пристав. Это – ребус. Кроссворд. Шифровка».
Лютов медленно выдохнул. Слово «шифровка» прозвучало в этой комнате, полной древних фолиантов, как выстрел. Оно вырвало все происходящее из туманного мира мистики и вернуло на знакомую территорию логики и умысла. Это был уже не шепот из зазеркалья, а конкретное, материальное доказательство.
«Вы можете… это прочесть?» – спросил Самойлов, его голос дрожал от волнения.
Волынский покачал головой. «Не сразу. Это не один шифр, а несколько, вложенных друг в друга. Матрешка. Внешняя оболочка – оккультная символика, рассчитанная на то, чтобы пустить по ложному следу таких, как вы, господа. Простите мой профессиональный цинизм. Внутри, я полагаю, скрывается система, основанная на нумерологии, возможно, на принципах гематрии. Чтобы ее взломать, мне нужно знать ключ. А ключа у меня нет. Мне нужны все изображения. В высоком качестве. И время. Много времени. И много крепкого чая».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.