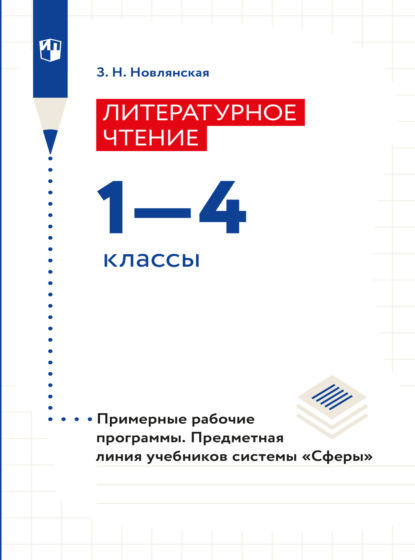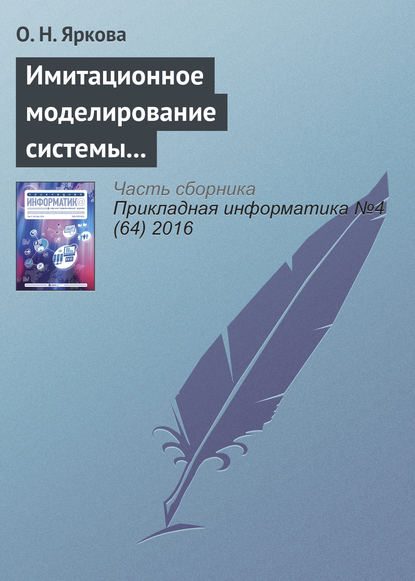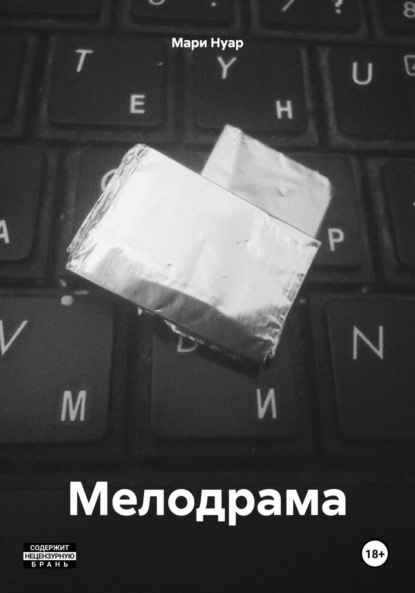Дело о пропавшем конверте

- -
- 100%
- +

Черный снег Коминтерна
Телефонный звонок в пять утра – это всегда мертвец. Иногда два. Звонок впился в вязкую ткань сна, как заноза, и я, не открывая глаз, уже знал, что день начался со смерти. Он не просто разбудил, он вырвал меня из короткого забытья, где не было ни запаха дешевого табака, ни горького привкуса вчерашнего чая.
Трубка была холодной и тяжелой, как пистолет.
– Волков, – хрипло бросил я в нее.
– Аркадий Семенович? Дежурный. У нас ЧП на Коминтерна. Продмаг номер восемнадцать. Налет.
Голос на том конце провода был молодым, взвинченным, еще не привыкшим к тому, что человеческая жизнь может стать просто «ЧП».
– Жертвы есть? – спросил я, нашаривая на тумбочке пачку «Беломора».
Пауза. Значит, есть.
– Двое, товарищ капитан. Сторож и… вроде как кассирша. Наши уже там.
Я выбил папиросу, сунул в угол рта.
– Еду.
Весна в Горьком – это не про ручьи и подснежники. Это про грязную кашу под ногами, про серый, ноздреватый снег, пропитанный сажей заводских труб. Этот снег не таял, он просто становился чернее и тяжелее, словно вбирал в себя всю городскую тоску, прежде чем окончательно сдохнуть в придорожных канавах. Наш служебный «козлик» подпрыгивал на колдобинах, и каждая яма отдавалась тупой болью в затылке. Водитель, молодой сержант Синицын, молчал, крепко вцепившись в баранку. Он знал, что по утрам я неразговорчив, особенно когда еду смотреть на покойников.
Я смотрел в окно на просыпающийся город. Он напоминал огромный, застуженный механизм, который со скрипом и скрежетом начинал свой очередной бессмысленный оборот. Брели к проходным закутанные в одинаковые пальто фигуры, дымили трубы автозавода, и этот дым смешивался с низкими, свинцовыми облаками, создавая купол, под которым всем нам предстояло прожить еще один день. В этом городе правда была дефицитом похуже финского сервелата. Ее не «выбрасывали» на прилавки, за ней не стояли в очередях. Ее просто не было в номенклатуре.
Продмаг №18 притулился между двумя пятиэтажными «хрущевками». Типичный стеклянный кубик советской торговли, ночью превращавшийся в темный, безжизненный аквариум. Сейчас вокруг него роились люди. Несколько милицейских машин, «скорая», похожая на большую белую таблетку, которую уже поздно давать больному. И, конечно, зеваки. Они стояли молча, с одинаково жадным и испуганным выражением на лицах, втягивая ноздрями запах чужой беды. Молоденький лейтенант из местного отделения отдал мне честь, отгоняя особо любопытную старушку.
– Что у нас, Петренко?
– Все как по телефону, товарищ капитан. Дегтярев, сторож, и кассирша, Кравцова. Дверь служебного входа взломана. Сейф вскрыт. Эксперты внутри.
Я кивнул и шагнул за натянутую веревку. Воздух внутри магазина был густым и неподвижным. Он пах кровью, водкой из разбитых бутылок и еще чем-то – едким, химическим запахом металла, который резали огнем.
Первым я увидел сторожа, Дегтярева. Он лежал у самого входа в торговый зал, раскинув руки, словно пытался обнять весь этот разгром. Невысокий пожилой мужичок в ватнике. Из тех, кого берут на такую работу от безысходности. На груди у него тускло поблескивала медаль «За отвагу». Наверное, в сорок третьем под Курском он и не думал, что свою смерть встретит не от немецкой пули, а от заточки какого-то ублюдка в мирном Горьком, охраняя ящики с килькой в томате.
Второе тело было дальше, за прилавком. Кравцова Анна Петровна, шестьдесят два года. Она сидела на полу, прислонившись спиной к опрокинутому ящику с макаронами. Голова была неестественно запрокинута, а на серой кофточке, в районе сердца, расплылось темное, почти черное пятно. Глаза ее, выцветшие, как старый ситец, смотрели в потолок с белой облупившейся побелкой. Смотрели с каким-то последним, тихим удивлением.
Я прошел в кабинет директора. Здесь царил хаос. Сейф, старый, еще дореволюционный монстр, стоял с вывороченной, оплавленной дверцей. Рядом валялся пустой кислородный баллон и резак. Работа грубая, но эффективная. На полу – россыпь бумаг, перевернутый стол, разбитая чернильница растеклась по линолеуму фиолетовой кляксой.
– Много взяли? – спросил я у эксперта-криминалиста, коренастого молчаливого капитана Фомина, который колдовал над сейфом со своим чемоданчиком.
Фомин пожал плечами, не отрываясь от дела.
– Директор приедет – скажет. По предварительным данным, вчера была выручка за два дня. Может, тысячи полторы-две.
Две тысячи рублей. И две жизни. Арифметика не сходилась. Для матерых налетчиков, способных вскрыть такой сейф, – навар смешной. Для шпаны – слишком сложное оборудование.
Я отошел от сейфа и начал осматривать подсобку. И вот тут мое чутье, тот самый внутренний компас, который столько раз спасал от ложных версий, дернулся и замер. Подсобка была не просто разгромлена. Ее выпотрошили. Мешки с сахаром и мукой были вспороты, их содержимое белыми сугробами лежало на полу. Консервные банки были сметены с полок и валялись вперемешку с битым стеклом. Ящики с овощами перевернуты. Это была не сопутствующая суета ограбления. Это был целенаправленный, методичный и яростный поиск. Словно искали не пачки денег, а иголку в стоге сена.
Я присел на корточки, зачерпнул пальцами сахар. Он был липким от пролитого сиропа. Зачем вспарывать мешки? Проверять, не спрятаны ли деньги внутри? Бред. Любой уголовник знает, что деньги либо в сейфе, либо у директора дома.
– Аркадий, что скажешь? – голос майора Зорина прозвучал за спиной так внезапно, что я вздрогнул.
Мой начальник был полной моей противоположностью. Крепко сбитый, румяный, всегда в идеально отглаженном кителе, от него пахло хорошим одеколоном и уверенностью в завтрашнем дне. Его уверенность в себе была такой же железобетонной, как памятник Ленину на главной площади.
– Скажу, что картина странная, Петр Григорьевич.
– Что в ней странного? – Зорин обвел взглядом погром. – Обычный гоп-стоп. Какие-нибудь урки с зоны откинулись, решили по-легкому срубить. Напились для храбрости, сторож под руку попался, ну и пошло-поехало. Классика.
Он говорил бодро, почти весело, словно уже писал рапорт о раскрытии.
– Слишком много жестокости для «классики», – возразил я. – Деда можно было просто оглушить. Кассиршу – связать. И посмотрите на подсобку. Это не похоже на поиск денег. Это похоже на обыск. Тщательный. Искали что-то маленькое.
Зорин нахмурился. Он не любил, когда я усложнял простые вещи. В его мире все должно было быть понятно и разложено по полочкам. Убийство – мотив либо бытовой, либо корыстный. Все остальное – от лукавого и портит статистику.
– Не выдумывай, Волков. Что тут можно искать, кроме денег? Партийные взносы? Не смеши. Искали заначку. Директор, небось, левый товар толкал, вот и прятал неучтенку. Отработай местных рецидивистов. Прошерсти все малины. Уверен, через пару дней твой налетчик где-нибудь в кабаке будет сорить деньгами. Мне это дело нужно закрыть до конца недели. Понял?
– Понял, – сказал я. Но он не услышал, что именно я понял. Я понял, что правду здесь никто искать не собирается. Нужен был преступник. Любой. И чем быстрее, тем лучше.
Зорин уехал, оставив после себя запах одеколона и четкие указания. Оперативники начали опрашивать жильцов окрестных домов. Кто-то что-то слышал, кто-то видел темную машину, но все это было туманом, обычной рутиной, которая в девяти случаях из десяти ни к чему не приводила.
Я остался в магазине один. Трупы уже увезли. Эксперты закончили свою работу. Стало тихо. Только с потолка монотонно капала вода из пробитой трубы в подставленный таз. Кап. Кап. Кап. Словно время отсчитывало последние секунды чего-то важного, что я упускал.
Я снова вошел в подсобку. Встал посреди этого хаоса. Закрыл глаза. Попытался представить их. Кто они? Не шпана. Шпана бы схватила водку, колбасу и деньги из кассы и разбежалась. Не профессиональные налетчики. Те бы сработали чисто, без лишнего шума и крови. Эти были другими. Они сочетали в себе профессиональные навыки – вскрыть такой сейф не каждый сможет – и какую-то отчаянную, паническую злобу. Словно они боялись не успеть. Словно то, что они искали, жгло им руки похуже автогена.
Я открыл глаза и начал осматривать все заново. Медленно, сантиметр за сантиметром. Я перебирал осколки, заглядывал под стеллажи, ворошил тряпки в углу. Мои пальцы стали липкими и грязными. Я действовал вопреки логике Зорина, вопреки здравому смыслу. Я искал то, не знаю что. Ту самую мелочь, которая не вписывалась в общую картину.
В кабинете директора я подошел к столу. Все ящики были вытащены и перевернуты. Бумаги, бланки, накладные – все было разбросано. Но я обратил внимание на одну деталь. Среди канцелярского хлама на полу валялась пустая папка от личного дела. Обычная картонная папка с тесемками. Но она была не просто открыта. Ее словно пытались разорвать, распотрошить, заглянуть между слоями картона. Рядом – несколько семейных фотографий директора, какой-то грамоты с автозавода, профсоюзный билет. Все это было разбросано небрежно. А вот папку терзали.
Я закурил новую папиросу. Дым заполнил легкие, немного успокаивая. Картина начала складываться, но контуры ее были размыты, как пейзаж за мокрым стеклом. Было ограбление. Но оно было лишь прикрытием, дымовой завесой. Главной целью был не сейф. Главной целью было то, что хранилось в этой папке. Или то, что, по мнению налетчиков, должно было там храниться. Что-то настолько важное, что ради него не жалко было оставить два трупа и перевернуть вверх дном целый магазин. Что-то, что стоило гораздо больше, чем две тысячи советских рублей.
Приехал директор магазина, Иван Петрович Захаров. Маленький, испуганный человек с бегающими глазками и потными ладонями. Увидев разгром, он охнул и схватился за сердце. Его трясло. Но мне показалось, что он боится не столько убытков, сколько чего-то еще. Когда я спросил его, что могло быть в его кабинете, кроме денег и документов, он начал лепетать что-то невразумительное про личные сбережения, про облигации займа. Он лгал. Я видел это по его глазам, по тому, как он теребил пуговицу на пиджаке. Он лгал, как лгут все, кто боится не милиции, а кого-то пострашнее.
– У вас были враги, Иван Петрович? – спросил я тихо.
Он вздрогнул.
– Да что вы, товарищ капитан! Какие враги у завмага? Все друзья, все товарищи.
Друзья и товарищи. В этом городе эти слова часто означали прямо противоположное.
Я вышел из магазина на улицу. Уже рассвело. Утреннее солнце, бледное и немощное, пыталось пробиться сквозь пелену облаков. Черный снег на тротуаре заблестел мокрыми проплешинами. Зеваки разошлись. Остались только лужи талой воды и оцепление. Город начинал жить своей обычной жизнью, и трагедия в маленьком продмаге на окраине скоро станет лишь строчкой в вечерней сводке.
Но для меня все только начиналось. Я стоял, вдыхая сырой мартовский воздух, и чувствовал, как потяжелело в кармане пальто дело, которого официально еще не существовало. Дело не об ограблении. Дело о чем-то, что пряталось в распотрошенной картонной папке. О чем-то, за что убивают без колебаний. Я еще не знал, что это, но уже понимал: нить, за которую я только что уцепился, ведет не в воровские малины, а куда-то гораздо выше и глубже. В ту самую серую, вязкую тину, на которой стоял весь наш город. И чтобы докопаться до правды, мне придется погрузиться в эту тину с головой.
Голоса в тишине
Допросы – это не поиск правды. Это хождение по тонкому льду над темной водой чужого страха. Правда лежит на дне, тяжелая, как утопленник, и никто не хочет нырять за ней. Моя работа – заставить их нырнуть. Или хотя бы указать, где она утонула.
Первым адресом в моем списке была дочь кассирши Кравцовой. Она жила в рабочем общежитии Автозавода, в комнате, где едва помещались кровать, стол и шкаф, пропахший нафталином и несбывшимися надеждами. Комната была чистой до стерильности, словно ее хозяйка пыталась выскоблить из своей жизни всю грязь внешнего мира. Не получилось. Грязь нашла ее сама, пришла ночью и оставила кровавый след на полу продмага.
Женщина, лет тридцати пяти, с таким же выцветшим, как у матери, взглядом, сидела на табуретке, сцепив на коленях грубые рабочие руки. Ее звали Вера. Она не плакала. Слезы, видимо, кончились еще утром, когда ее опознавательным тоном вызвали в морг. Теперь в ней осталась только серая, выжженная пустота. Она говорила тихо, механически, будто читала протокол собственной жизни.
– Мама всю жизнь там проработала. Сразу после войны устроилась. Говорила, что лучше уж с людьми, чем у станка. Люди, они хоть и разные, а все хлеб покупают… Она добрая была. Мухи не обидит. Кому она помешала, товарищ следователь?
Я не стал отвечать на этот вопрос. На него не было ответа. Я задавал свои, казенные, необходимые: не замечала ли чего-то странного в последнее время, не жаловалась ли на кого-то, не говорила ли о проблемах на работе.
Вера долго молчала, глядя на вытертый узор на клеенке стола.
– Она… в последнюю неделю сама не своя была. Молчаливая какая-то. Я спрошу, мол, что случилось, мама? А она только отмахнется: «Старость, дочка, не радость». Но это не старость была. Страх. Я же вижу. Глаза у нее были как у подбитой птицы.
– Страх? Она говорила, чего боится?
– Нет. Только про директора, Ивана Петровича, обмолвилась раз. Сказала: «Жалко мне его. Совсем мужика извели».
– Кто извел?
Она подняла на меня глаза, и в их глубине я на секунду увидел тот же испуг, что, должно быть, был и в глазах ее матери.
– Она не сказала. Просто вздохнула так тяжело… и перевела разговор на огурцы для засолки.
Больше она ничего не знала. Или не хотела знать. Я ушел, оставив ее наедине с ее тихим горем и фотографией улыбающейся женщины на стене – той, что еще вчера была живой.
Следующим был сосед Захарова по коммуналке. Квартира в старом купеческом доме на Рождественской. Высокие потолки с лепниной, покрытой вековой копотью, длинный, темный коридор с десятком дверей и вечный запах жареного лука и кислой капусты. Соседа, отставного военного с грозной фамилией Громов, я застал на общей кухне. Он сидел в майке-алкоголичке и штопал носок, натянув его на электрическую лампочку.
Увидев мое удостоверение, он не проявил ни удивления, ни интереса. Его лицо, пористое, как старый кирпич, осталось непроницаемым.
– Захаров? Тихий был. Незаметный. С работы – домой, из дома – на работу. Не пил, не шумел. Здоровался всегда. Интеллигентный, одним словом.
– Вы с ним общались?
Громов усмехнулся одним углом рта, не отрываясь от штопки.
– В коммуналке, гражданин начальник, не общаются. В коммуналке ведут позиционную войну за конфорку и очередность в уборной. Мы с ним двадцать лет стенка в стенку прожили. Я про него знаю только то, что он кашлял по ночам и слушал радио «Маяк».
– В последнее время в его поведении не было ничего необычного? Гости, ночные звонки?
Громов воткнул иголку в носок и наконец посмотрел на меня. Взгляд у него был тяжелый, как чугунный утюг.
– Необычное в наше время – это когда все обычно. А так… суетился он. Курить на лестницу стал часто бегать, хотя раньше дымил у себя в комнате. Все ждал кого-то, выглядывал в окно.
– Кого ждал?
– А я почем знаю? Я в окна не подглядываю, не по-офицерски это. Но вид у него был, как у зайца перед тем, как на него свору спустили. Затравленный. Вот и дождался.
Он снова уткнулся в свой носок. Разговор был окончен. Я понял, что больше он ничего не скажет. Люди его поколения умели возводить вокруг себя стены из молчания, покрепче кремлевских. Они слишком хорошо помнили времена, когда за лишнее слово можно было уехать туда, откуда письма не ходят. Этот страх въелся в их кровь, стал частью их ДНК.
Вернувшись в управление, я застал Зорина. Он сидел в своем кабинете, красный и довольный, как кот, объевшийся сметаны.
– Ну что, Волков, нашел своего призрака?
Он махнул мне на стул.
– Пока только тени, – ответил я, присаживаясь.
– Бросай ты эти свои тени! У нас тут реальная работа кипит. Подняли всех информаторов. Есть наводка. В Сормово объявилась банда гастролеров. Почерк похожий. Дерзкие, беспредельщики. Уже взяли в разработку. Думаю, к концу недели возьмем тепленькими. Так что давай, закрывай свои висяки, а этим делом займутся ребята из убойного.
Он говорил так, будто дело уже лежало в архиве с грифом «Раскрыто». Он не видел двух трупов, не чувствовал липкого страха, который сочился из всех щелей. Он видел только возможность поставить галочку в отчете.
– Петр Григорьевич, я почти уверен, что это не гастролеры. Убийство и погром в подсобке – это не их стиль. Это что-то личное. Захарова…
– Волков! – Зорин стукнул кулаком по столу так, что подпрыгнула чернильница-непроливайка. – Ты меня слышишь? Я тебе русским языком говорю: есть версия, и она железобетонная. А твои «почти уверен» к делу не пришьешь. Ты хочешь, чтобы обком на нас всех собак спустил за то, что у нас под носом людей режут, а мы тут психологические портреты составляем? Работай по основной версии. И точка.
Я молча встал и вышел. Спорить было бесполезно. Это было все равно что пытаться доказать стене, что она дверь.
Вечером я решил заехать в комнату Захарова. Официально – чтобы забрать документы для передачи родственникам, которых, как выяснилось, у него не было. Неофициально – чтобы самому подышать тем воздухом, которым он дышал в свои последние дни. Почувствовать то, что он чувствовал.
Громов, не говоря ни слова, протянул мне ключ. Дверь скрипнула, впуская меня в чужую, внезапно оборвавшуюся жизнь.
Комната была маленькой, но обставленной с какой-то старомодной основательностью. Тяжелый книжный шкаф из темного дерева, письменный стол, покрытый зеленым сукном, диван с плюшевой обивкой, истертой до проплешин. Все было аккуратно, даже педантично. Стопка газет «Горьковская правда» на подоконнике, выровненная по линейке. Ручки и карандаши в стакане. Ни пылинки. Жилище одинокого, methodical человека.
Я начал осмотр. Методично, как и хозяин этой комнаты. Одежда в шкафу. Несколько костюмов, рубашки, свитер. В карманах пусто. Ящики стола. Канцелярские принадлежности, квитанции об оплате коммунальных услуг, пачка облигаций трехпроцентного займа. Ничего, что могло бы пролить свет на его тайную жизнь, если она у него была.
Но что-то не сходилось. В этом царстве порядка и предсказуемости были детали, которые выбивались из общего строя. На столе, рядом с бюстиком Дзержинского, стояла дорогая, явно импортная авторучка «Паркер». Подарок? От кого? На полке в шкафу, среди томов Ленина и детективов братьев Вайнеров, стоял сборник стихов Гумилева, изданный за границей. За такую книгу в те годы можно было получить серьезные неприятности. Откуда она у скромного директора продмага?
Иван Петрович Захаров переставал быть просто «тихим и незаметным». За этим фасадом скрывался другой человек. Более сложный, более рисковый. Человек, у которого могли быть не только враги, но и тайны.
Я подошел к книжному шкафу. Мои пальцы скользили по корешкам книг. Классика, история КПСС, подшивки журнала «Огонек». Рутина. Я наугад вытащил тяжелый том «Капитала». Из него ничего не выпало. Потом еще один, и еще. Я не знал, что ищу. Просто действовал по наитию.
Мое внимание привлекла книга, стоявшая чуть в стороне от других. «Записки охотника» Тургенева. Старое, зачитанное издание. Я вытащил ее. Она показалась мне необычно толстой. Я открыл ее наугад. Страницы были склеены по краям, а внутри, в вырезанном прямоугольном углублении, лежала маленькая записная книжка в дерматиновом переплете. Тайник. Банальный, как из шпионского фильма, но от этого не менее действенный.
Сердце забилось быстрее. Я сел за стол, положил книжку под лампу. Открыл.
Большинство страниц были пусты. Но на нескольких, в самом начале, были сделаны записи карандашом. Это не был связный текст. Это были столбцы цифр, рядом с которыми стояли даты.
«15.03.68 – 350 – С.»
«12.06.68 – 500 – Т.»
«09.09.68 – 200 – С.»
И так далее, на протяжении почти двух лет, до середины семидесятого года. Потом записи обрывались.
Что это? Номера телефонов? Адреса? Нет, не похоже. Скорее, какая-то бухгалтерия. Но чья? Суммы были немаленькие для того времени. Буквы «С» и «Т» повторялись. Инициалы? Клички?
Я перевернул страницу. На последней исписанной строке была другая запись, сделанная, судя по нажиму, в сильном волнении. Карандаш почти прорвал бумагу.
«Конверт у Н. Ф. Последний шанс».
Ниже – еще один столбец цифр, но уже другого формата. Шестизначные числа. Несколько штук. Непохожие ни на даты, ни на суммы. Шифр? Код от сейфа? Номера партий билетов?
Я сидел в мертвой тишине чужой комнаты и смотрел на эти загадочные строчки. Голоса, которые я слышал сегодня – испуганный шепот дочери, хриплое молчание соседа, самоуверенный приказ начальника – все они слились в один нестройный хор, который уводил меня в сторону. А вот здесь, в этой маленькой книжке, говорил сам покойник. Он оставил мне послание. Зашифрованное, непонятное, но единственное настоящее во всем этом деле.
«Конверт у Н. Ф.».
Кто этот «Н. Ф.»? И что за конверт, который был для Захарова последним шансом? Может быть, тот самый, который с такой яростью искали в разгромленной подсобке?
Я аккуратно положил книжку во внутренний карман пиджака. Она легла туда маленьким, но тяжелым грузом. Грузом правды.
Я выключил свет и вышел из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. В коридоре пахло все тем же жареным луком. За стеной кто-то негромко ругался. Жизнь в коммуналке шла своим чередом.
А я стоял в полумраке, и мне казалось, что я слышу, как тикают часы. Но это были не часы. Это был обратный отсчет. Для меня. И для того, кто отдал приказ убить двух человек из-за содержимого маленькой записной книжки. Я еще не знал его имени, но уже чувствовал его холодное дыхание на своем затылке. И я знал, что он не остановится, пока не получит то, что ему нужно. Или пока я не остановлю его.
Незамеченный лист
Следующие несколько дней превратились в вязкую, серую массу, неотличимую от грязного снега за окном. Дело остывало, как труп в морге, покрываясь тонкой ледяной коркой бюрократической рутины. Я сидел за своим столом, и передо мной, как нерешаемый пасьянс, лежали два тупика. Первый – официальный, тот, что Зорин спустил сверху. Оперативники шерстили город, трясли притоны и информаторов, выискивая мифических сормовских гастролеров. Это была шумная, бестолковая работа, похожая на попытку вычерпать Волгу решетом. Она давала иллюзию деятельности, но не приближала к истине ни на миллиметр.
Второй тупик был мой собственный, тайный. Маленькая записная книжка Захарова. Я исписал несколько листов, пытаясь разгадать ее шифры. Цифры и даты не складывались ни в одну известную мне систему. Они были похожи на случайный набор чисел, бессмысленный, как речь пьяного. «Н. Ф.» – эти инициалы могли принадлежать кому угодно, от начальника склада до народной артистки. Но больше всего меня мучила последняя фраза: «Конверт у Н. Ф. Последний шанс». Она звучала как завещание. Как крик человека, стоящего на краю пропасти. Но этот крик никто не слышал.
Я чувствовал себя кладоискателем, который нашел карту, нарисованную на незнакомом языке. Сокровище где-то рядом, оно обжигает холодом, но путь к нему скрыт за семью печатями. И чем дольше я смотрел на эти каракули, тем яснее понимал, что без ключа эта книжка – просто макулатура. Доказательство, которое ничего не доказывает.
На четвертый день меня вызвал Зорин. Его кабинет пах уверенностью и свежей полиролью для мебели. Сам майор сиял, как начищенный самовар. Он лучился той особой энергией начальника, готовящегося доложить наверх об очередном трудовом подвиге.
– Присаживайся, Аркадий, – он указал на стул с непривычной любезностью, от которой у меня свело скулы. – Есть разговор. И новости. Хорошие.
Я сел. Ждал.
– Помнишь, я говорил тебе про сормовских? Взяли мы их. Вчера ночью, на теплой лежке. Всю шайку. И что ты думаешь? Раскололись, голубчики. Как миленькие. Берут на себя серию налетов по области. И наш продмаг тоже. Почерк один в один. Сейфы, автоген. Все сходится.
Он победоносно посмотрел на меня, ожидая, видимо, что я вскочу и начну аплодировать прозорливости руководства. Я молчал.
– И что, они про погром в подсобке тоже рассказали? Про распоротые мешки с сахаром? – спросил я тихо.
Улыбка Зорина на мгновение дала трещину.
– Мелочи, Волков, не цепляйся к мелочам. Ну, вошли в раж, обдолбались перед делом, бывает. Главное – состав есть. Признательные показания имеются. Орудия взлома изъяты. Дело можно передавать в суд.