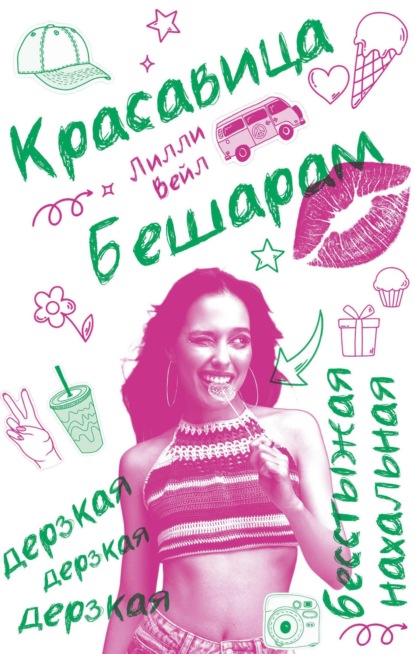Дело о пропавшем конверте

- -
- 100%
- +
Мне выдали тяжелые, как надгробные плиты, подшивки «Горьковской правды» за 1957, 1958 и 1959 годы. Годы, когда, по моим прикидкам, Захаров, Краснов и их невидимый покровитель вместе работали в системе Горьковпищеторга. Я вооружился блокнотом и терпением. Это была работа крота, слепое рытье в тоннелях чужих жизней, в надежде наткнуться на твердый корень истины.
Часы сливались в единый гул. Я листал пожелтевшие, ломкие страницы, и передо мной разворачивалась панорама ушедшей эпохи. Передовицы о запуске первого спутника, репортажи с полей о битве за урожай, гневные фельетоны, клеймящие стиляг и тунеядцев. Жизнь города, отлакированная до идеологического блеска. И среди этого потока официальной хроники я искал три фамилии.
Захаров и Краснов не встречались. Они были слишком мелкими сошками, чтобы попасть на страницы главной газеты области. Пехотой, из которой состояла любая армия, в том числе и торговая. Но имя Белозерова всплывало регулярно. Сначала – в конце списка участников партийного актива. Потом – как фамилия инструктора райкома, выступившего с докладом. Затем – уже как заметный функционер, курирующий комсомольскую линию. Я видел, как человек строил карьеру. Уверенно, шаг за шагом, поднимаясь по лестнице, каждая ступенька которой была сложена из правильных слов и нужных знакомств. Его лицо на мутных газетных фотографиях менялось: из худощавого юноши с горящим взглядом он превращался в солидного мужчину с наметившимся вторым подбородком и спокойной уверенностью во взгляде. Он смотрел с этих страниц как хозяин, еще не всего города, но уже своей судьбы.
Я перебрал сотни страниц. Глаза устали от мелкого шрифта, пальцы стали серыми от типографской краски. Я почти отчаялся, когда наткнулся на это. Май 1959 года. Разворот, посвященный областной партийной конференции. В центре – групповой снимок президиума. Лица, которые через десять лет будут смотреть с портретов в каждом кабинете. И рядом – большая фотография делегатов в зале. Сотни лиц, ряды одинаковых пиджаков и серьезных выражений. Я начал водить по ним пальцем, машинально, без особой надежды. И вдруг замер.
В третьем ряду, чуть левее центра, сидел молодой Иван Белозеров. Он внимательно слушал, слегка наклонив голову, весь его вид выражал почтение и преданность делу партии. А через два кресла от него, почти на краю кадра, сидел другой человек. Я приблизил газету к самому лицу, всматриваясь в расплывчатые точки типографской печати. Сомнений не было. Это был Иван Захаров. Тот самый, чье мертвое, обескровленное лицо я видел на грязном полу продмага. Здесь он был моложе лет на пятнадцать, еще без той печати загнанности и страха, которая лежала на нем в последние годы. Но это был он. Они сидели в одном зале. Дышали одним воздухом. Слушали одни и те же доклады. Они были частью одной системы.
Это не было доказательством. Просто факт. Картинка. Но для меня она стала тем самым ключом, которого не хватало. Ниточка, тонкая, как паутина, но я ее нащупал. Я осторожно вырвал страницу из подшивки. Это было преступление, святотатство в храме тишины. Старушка-библиотекарь за своей кафедрой подняла на меня осуждающий взгляд. Я спрятал газетный лист в карман и, не оглядываясь, вышел из зала.
Теперь мне нужен был настоящий архив. Не общедоступная библиотека, а закрытое ведомственное хранилище, где пылились личные дела, приказы, протоколы закрытых заседаний. Но туда меня, отпускника и смутьяна, не пустили бы и на порог. Нужен был другой путь.
Я вспомнил про Анну Борисовну. Мы не виделись лет десять. Когда-то, еще лейтенантом, я вел дело о краже из ее квартиры. Воришку, соседа-алкоголика, я нашел быстро. Вернул ей почти все, что смог, – старинные серебряные ложки, память о матери. Она плакала и благодарила меня. Тогда она работала в архиве областного управления торговли. Если она до сих пор там…
Архив располагался в старом купеческом особняке на тихой улочке в центре. Время здесь, казалось, остановилось еще до революции. Обшарпанный фасад, скрипучие половицы, запах сургуча и мышей. Я нашел ее в маленькой комнатке, заставленной до потолка картонными папками с тесемками. Она почти не изменилась. Все та же тихая, испуганная женщина-воробей в очках с толстыми линзами, только морщинок вокруг глаз стало больше.
Она узнала меня не сразу. Но когда я назвал свое имя, ее лицо просветлело.
– Аркадий Семенович? Вы? Какими судьбами…
Она засуетилась, предложила чаю. Я отказался. У меня не было времени на реверансы.
– Мне нужна ваша помощь, Анна Борисовна. По старой памяти.
Ее улыбка погасла. На лице отразился тот самый врожденный страх советского человека перед любой просьбой, выходящей за рамки правил.
– Что-то случилось?
– Мне нужно посмотреть кое-какие дела. Конец пятидесятых. Горьковпищеторг.
Она поджала губы и отвела взгляд.
– Это… это служебная информация, Аркадий Семенович. Я не имею права. Нужен официальный запрос.
– У меня не будет официального запроса, – сказал я тихо, глядя ей прямо в глаза. – Это очень важно. Речь идет о жизнях людей.
Она молчала, теребя в руках карандаш. Я видел, как в ней борются два чувства: благодарность за прошлое и страх перед настоящим. Страх побеждал.
– Я не могу, – прошептала она. – Меня уволят. У меня сын-студент, мне его поднимать надо. Вы поймите…
Я понял. Я всегда все понимал. Но отступать было некуда.
– Мне не нужны оригиналы. Мне нужно просто посмотреть. Полчаса. Никто не узнает. Я скажу, что зашел вас проведать, а вы отошли попить воды. Пожалуйста.
Я достал из кармана сложенную газетную страницу и развернул на ее столе. Указал пальцем на Захарова и Белозерова.
– Вот этот человек мертв. Его убили. Жестоко. А вот этот, возможно, приказал его убить. И он убьет снова, если его не остановить. Я ищу то, что их связывало. Там, в пятидесятых. Это единственная зацепка.
Она долго смотрела на фотографию. Ее худенькие плечи дрогнули. Она была хорошим человеком, просто очень напуганным. Как и все вокруг.
– Какие фамилии? – спросила она наконец, не поднимая на меня глаз.
Я назвал ей Захарова, Краснова и Белозерова. И еще нескольких человек, чьи фамилии проскакивали в газетных отчетах рядом с ними.
Она кивнула, встала и, не говоря ни слова, вышла из комнаты. Я остался один среди пыльных свидетельств чужих жизней. Минуты тянулись, как резина. Я слышал каждый скрип половиц в коридоре, каждый далекий звонок телефона. Мне казалось, что сейчас откроется дверь и войдут люди в форме, чтобы увести меня за незаконное проникновение и попытку получения секретных сведений.
Она вернулась через четверть часа, неся в руках четыре тонкие папки. Ее руки дрожали.
– Это все, что есть, – сказала она шепотом. – Личные дела. Других документов по тому периоду в открытом хранении нет. Все, что касалось расследований, давно передано в спецхран. Туда доступа нет ни у кого.
Она положила папки на стол и отошла к окну, встав ко мне спиной. Это был ее способ сказать: «Я ничего не видела, я ничего не знаю».
Я открыл первую папку. «Захаров Иван Петрович». Сухая анкета. Родился, учился, служил. Вступил в партию. Характеристики – одна другой лучше. Идеальный советский служащий. Я пролистывал приказы о назначениях: завскладом, товаровед, заместитель директора магазина… В 1958 году – строгий выговор «за ослабление контроля над материальными ценностями». И почти сразу после этого – перевод на другую, менее ответственную должность. Первый звонок.
Папка Краснова была почти такой же. Та же безупречная биография. И тот же 1958 год. Только у него формулировка была жестче: «Выговор с занесением в личное дело за халатность, приведшую к образованию недостачи». А через месяц – понижение в должности и перевод в другой район города.
Я отложил их дела и открыл папку Белозерова. Она была толще. И карьера в ней развивалась совершенно иначе. Ни одного взыскания. Только благодарности и поощрения. И вот, 1958 год. Тот самый год, когда Захаров и Краснов получили по шапке. А что же Белозеров? А Белозеров, на тот момент инструктор райкома, отвечающий за торговлю, получает благодарность «за проявленную принципиальность и бдительность в деле выявления недостатков в работе системы Горьковпищеторга». И сразу после этого – рекомендацию на повышение. Его переводят на работу в обком. Его карьера взлетает вверх именно в тот момент, когда карьеры двух других рушатся.
Картина начинала проясняться. Это было похоже на старую, выцветшую фотографию, которая медленно проявлялась в растворе. Было какое-то крупное дело о хищениях. Громкое, раз оно дошло до партийных органов. Захаров и Краснов были в нем замешаны. Возможно, как исполнители, возможно, как свидетели. Но их не посадили. Их просто тихо наказали, понизили, задвинули в тень. А Белозеров, который должен был их контролировать по партийной линии, не только вышел сухим из воды, но и превратил этот скандал в трамплин для своей карьеры. Он «выявил недостатки». Он оказался героем.
Но чего-то не хватало. Главного звена. Мотива. Я перебирал бумаги в папке Белозерова, и тут из одного из конвертов, подшитых к делу, выпал небольшой листок. Это была копия протокола заседания партийного бюро райкома от сентября 1958 года. Машинописный текст, заверенный блеклой фиолетовой печатью. Я пробежал его глазами. Слушали: о состоянии дел в системе Горьковпищеторга. Докладчик: инструктор Белозеров И.П. Постановили: указать, осудить, усилить, укрепить. Стандартный набор бюрократических заклинаний.
Но в конце, в списке присутствующих, я увидел еще одну фамилию. «Секретарь парторганизации треста столовых и ресторанов Федорова Антонина Григорьевна». И что-то щелкнуло в памяти. Федорова… Где я уже слышал эту фамилию? Н. Ф. Инициалы из записной книжки Захарова. «Конверт у Н. Ф.». Неужели это она? Я лихорадочно начал искать четвертую папку, которую принесла Анна Борисовна. На ней так и было написано: «Федорова А.Г.».
Ее личное дело было тонким. Она проработала в системе торговли всего несколько лет. Та же безупречная анкета. Но в конце, под приказом об увольнении по собственному желанию от октября 1958 года, лежал еще один документ. Объяснительная записка, написанная торопливым женским почерком.
«Я, Федорова Антонина Григорьевна, прошу освободить меня от занимаемой должности по семейным обстоятельствам. В связи с необходимостью ухода за больной матерью, проживающей в деревне Красное Владимирской области, не могу далее исполнять свои обязанности».
Стандартная отписка. Но дата… Она уволилась через месяц после того партийного бюро. Сразу после того, как дело «замяли», наградив Белозерова и наказав остальных. Она просто исчезла. Испарилась. Уехала в деревню к больной матери. Слишком гладко. Слишком вовремя.
Я закрыл последнюю папку. В голове гудело. Теперь у меня была не просто теория, у меня была схема. 1958 год. В системе Горьковпищеторга вскрывается крупная недостача или коррупционная схема. В ней замешаны Захаров, Краснов и, возможно, другие. Партийный функционер Белозеров, который должен был все это контролировать, оказывается перед выбором: либо лететь с должности вместе с ними, либо возглавить «крестовый поход». Он выбирает второе. Он топит своих подопечных. Но не до конца. Он не дает делу ход в прокуратуру. Он решает все на уровне партийного разбирательства. Почему? Потому что, скорее всего, он сам был в этом замешан. Он просто свалил всю вину на исполнителей, а сам вышел чистым, да еще и с наградой. Он подставил их, но сохранил им свободу, купив их молчание. И они молчали. Десять, двенадцать лет. Они жили со своей тайной, как с хронической болезнью. А потом, видимо, что-то изменилось. Может, Захарову понадобились деньги. Может, его заела совесть или обида. И он решил пустить в ход то, что у него было. Компромат. Тот самый конверт. Доказательство вины Белозерова в тех старых делах. И он передал его на хранение самому надежному, как ему казалось, человеку – Антонине Федоровой, которая тоже была частью той истории и тоже вовремя «ушла в тень».
Я встал. Голова кружилась от напряжения и спёртого воздуха архива.
– Спасибо, Анна Борисовна, – сказал я, не глядя на нее. – Вы мне очень помогли. Сожгите ту газету.
Она молча кивнула, все так же стоя у окна.
Я вышел на улицу. Осенний воздух показался обжигающе свежим. Город жил своей обычной жизнью: спешили по делам прохожие, проезжали троллейбуси, где-то смеялись дети. И никто из этих людей не знал, что под тонким асфальтом их благополучного города лежит застарелый гнойник, который начал прорываться наружу кровавыми язвами.
Я шел, не разбирая дороги. Я больше не был кротом, роющимся в темноте. Теперь я видел всю карту минного поля. Масштаб заговора оказался куда больше, чем я предполагал. Это была не просто попытка скрыть одну ошибку. Это была целая система, построенная на страхе, предательстве и круговой поруке. Система, которая исправно работала больше десяти лет. И Белозеров был не просто убийцей. Он был архитектором этой системы. А теперь он стал ее палачом, методично убирая одного за другим всех, кто мог дать ей обрушиться.
Я остановился на мосту через реку. Внизу лениво текла темная, холодная вода. Я выкурил папиросу, глядя на свинцовые волны. Теперь я знал прошлое. И чтобы остановить убийства, мне нужно было найти будущее. Мне нужно было найти Антонину Федорову. Или то, что от нее осталось. И я понятия не имел, где ее искать. Вся страна была для нее одной большой деревней Красное, где можно было затеряться навсегда. Мой отпуск только начинался. И война тоже.
Холодный дом
Я вернулся домой, когда город уже погрузился в сизые, промозглые сумерки. Улица Горького горела размытыми огнями витрин и фар, отражаясь в мокром асфальте, как в треснувшем черном зеркале. В моей голове тоже горели огни – обрывки фамилий, дат, протоколов. Я чувствовал себя водолазом, который только что нашел на дне затонувший сейф. Я еще не знал, что внутри – сокровища или просто ржавый хлам, но сам факт находки пьянил, придавал сил. Впервые за полгода я не просто шел по следу, я видел всю карту вражеской территории.
Дверь в квартиру я открыл своим ключом. Из кухни тянуло запахом жареной картошки и чем-то еще, почти забытым, – запахом дома. Лена стояла у плиты, спиной ко мне. Ее плечи в знакомом домашнем халате были напряжены. Она не обернулась, хотя не могла не слышать, как я вошел. Тишина в нашей квартире в последнее время стала плотной, как войлок. Она не звенела, а глушила все звуки, все слова, которые мы не решались сказать друг другу.
– Я дома, – сказал я в ее спину. Голос прозвучал хрипло и неуместно.
Она медленно повернулась. На ее лице не было ни улыбки, ни упрека. Только усталость. Такая глубокая, что казалось, она пропитала саму кожу, сделав ее тоньше и прозрачнее. Ее большие, всегда немного печальные глаза сейчас смотрели на меня так, словно я был посторонним человеком, который ошибся дверью.
– Ужинать будешь? Остывает.
Она говорила так, будто мы не виделись пару часов, а не почти трое суток, которые я провел, мотаясь между библиотекой и архивом, питаясь в столовых и ночуя урывками в кресле в своем кабинете, куда пробирался тайком, как вор.
Мы ели молча за кухонным столом, покрытым старой клеенкой с выцветшими ромашками. Слышно было только, как вилки скребут по тарелкам да как за окном недовольно гудит запоздалый троллейбус. Я смотрел на ее руки. Тонкие, с длинными пальцами библиотекаря. Эти руки умели успокаивать, одним прикосновением снимая с меня тяжесть самого грязного дня. Сейчас они лежали на столе неподвижно, как две бледные, испуганные птицы. Я знал этот ужин. Это был не просто ужин. Это было затишье перед бурей. Последний ритуал перед казнью.
– Как твой отпуск? – спросила она, не поднимая глаз от своей тарелки, в которой почти ничего не убавилось. – Отдыхаешь?
Вопрос был брошен в тишину, как камень в колодец. Я почувствовал, как внутри все сжалось. Я мог бы соврать. Сказать, что ходил в кино, читал, встречался с друзьями. Соткать уютное полотно лжи, чтобы хоть на вечер отгородиться от правды. Но я слишком устал врать. Особенно ей. Ложь была частью моей работы, профессиональным инструментом. Приносить его домой было все равно что класть на кухонный стол табельный пистолет.
– Работаю, – ответил я тихо.
Она медленно отложила вилку. Все. Механизм был запущен.
– Я так и думала. Скажи, Аркадий, что они должны сделать, чтобы ты остановился? Уволить тебя? Посадить? Убить? Какая цена тебя устроит?
Ее голос был ровным, без истерики. От этого ее слова резали еще больнее. Это был не упрек, а диагноз.
– Лена, это важно. Я не могу это бросить. Я нашел…
– Ты всегда что-то находишь, – перебила она. – Ты находишь ниточку, потом след, потом доказательство. А я нахожу твои окровавленные рубашки в корзине для белья. Я нахожу окурки в пепельнице, похожие на расстрелянную гильзу. Я нахожу тебя, сидящего ночью на кухне с таким лицом, будто ты только что вернулся с того света. Каждый раз ты говоришь, что это в последний раз. Что это дело – самое важное. А потом начинается новое. И оно всегда еще важнее.
Она подняла на меня глаза, и я увидел в них то, чего боялся больше всего. Не гнев. Не обиду. А равнодушие. Словно она смотрела сквозь меня на что-то, что уже для себя решила.
– Помнишь дело директора ткацкой фабрики? Три года назад? Ты тогда тоже говорил, что это важно. Что ты должен докопаться до правды. Ты докопался. Его посадили. А тебя чуть не вышвырнули со службы. Тебя месяц таскали на допросы в прокуратуру. Нас травили в газетах. Соседи перестали здороваться. Я боялась выходить на улицу. Ты помнишь это, Аркадий?
Как я мог забыть. Тот год выжег во мне что-то важное, оставив на этом месте холодный, гладкий шрам. Я полез в партийную кормушку, посмел доказать, что сын большого человека – вор и мошенник. Системе это не понравилось. Она не сломала меня. Она просто показала мне мое место. Место маленького человека, возомнившего, что закон написан для всех.
– Я помню, – сказал я глухо.
– А я помню, как ты тогда вернулся домой. После того, как дело закрыли, а тебя оправдали, пожурив за «излишнее рвение». Ты сел вот на этот самый стул и молчал два часа. Просто смотрел в стену. А потом сказал: «Они победили». И в ту ночь ты впервые закричал во сне. Ты кричал не имена, а какие-то цифры. Номера статей Уголовного кодекса. Ты понимаешь? Ты даже во сне составляешь протокол.
Она встала, подошла к окну и прижалась лбом к холодному стеклу. Ее силуэт четко вырисовывался на фоне ночного города. Она была такой хрупкой, такой одинокой в этой нашей маленькой кухне, ставшей полем боя.
– Я больше не могу, Аркадий. Я не хочу больше жить в твоей войне. Я выходила замуж за следователя, а живу с солдатом, который каждый день уходит в свой последний бой. Я устала ждать. Устала бояться телефонных звонков по ночам. Устала стирать с твоей одежды запах чужой смерти. Он въелся в стены, в мебель, в меня. Я библиотекарь. Я работаю с книгами, с мертвыми словами. Но они не пахнут так, как твои мертвецы.
Я молчал. Что я мог ей сказать? Что она права? Что моя работа – это проклятие, которое я тащу за собой, пачкая все, к чему прикасаюсь? Что я сам ненавижу этого человека с запахом смерти, в которого превращаюсь, переступая порог управления?
– Это дело другое, Лена. Здесь все иначе. Это не просто воры. Они убивают людей. Хладнокровно, одного за другим. Они… они как раковая опухоль. Если ее не вырезать, она сожрет весь город.
– А ты хирург? – она горько усмехнулась, не оборачиваясь. – Ты один против всех. Они – система. У них власть, деньги, связи. А что у тебя? Твой старый «Москвич», пачка «Беломора» и упрямство, которое тебя погубит. Ты думаешь, ты спасаешь город? Ты не спасаешь никого. Ты просто совершаешь медленное, публичное самоубийство. И хочешь, чтобы я сидела в первом ряду и аплодировала.
Она повернулась. По ее щекам текли слезы. Тихие, медленные слезы, которые она не утруждалась вытирать.
– Я люблю тебя, Аркадий. Боже, как же я тебя все еще люблю. Наверное, поэтому я должна уйти. Я не могу больше смотреть, как ты себя уничтожаешь. И я не хочу, чтобы ты утащил меня за собой на дно.
Слово «уйти» прозвучало оглушительно. Оно взорвало тишину, и осколки этой тишины впились мне под кожу.
– Что значит – уйти? Куда?
– К маме. Я сегодня звонила ей. Она ждет.
Это было не спонтанное решение, не эмоциональный взрыв. Это был обдуманный, взвешенный приговор. Мне. Нашему дому. Нашей жизни. Она все подготовила. Пока я рылся в пыльных архивах, отыскивая следы чужих преступлений, она планировала побег из нашего общего прошлого.
Я встал, опрокинув табуретку. Грохот отозвался в пустой квартире. Я подошел к ней, взял ее за плечи. Они были ледяными.
– Лена, не надо. Пожалуйста. Дай мне время. Я закончу это дело, и все будет по-другому. Я… я возьму отпуск. Настоящий. Мы уедем. К морю. Куда захочешь. Только не сейчас.
Я говорил, а сам слышал фальшь в своем голосе. Я обещал ей это уже десятки раз. После каждого дела. И каждый раз обманывал. Не со зла. Просто я не умел жить по-другому. Моя война никогда не заканчивалась. Она лишь меняла фронты.
Она мягко убрала мои руки со своих плеч.
– Уже поздно, Аркаша. Ты не закончишь это дело. Оно закончит тебя. Я не хочу этого видеть.
Она вышла из кухни. Я остался стоять посреди комнаты, оглушенный и опустошенный. Запах жареной картошки смешался с запахом беды. Я слышал, как в спальне тихо открываются и закрываются ящики комода. Как шуршит бумага, в которую она заворачивает свои немногочисленные сокровища – книги, фотографии, какие-то женские безделушки. Она собирала свою жизнь в небольшой чемодан. А моя жизнь рассыпалась вокруг меня, как карточный домик.
Я вышел в коридор. Она стояла у двери, уже в пальто и платке. В руке – тот самый чемодан. Она была похожа на беженку.
– Я… я буду звонить, – сказала она, глядя куда-то мимо меня.
– Не надо, – ответил я. Голос был не мой. Чужой, деревянный. – Если решила – иди.
Она вздрогнула, словно я ее ударил. В ее глазах на секунду мелькнула боль и какая-то последняя, отчаянная надежда. Она ждала, что я остановлю ее. Что я закричу, буду умолять, сделаю хоть что-то. А я стоял, как истукан. Гордость, или упрямство, или просто шок парализовали меня. Я не мог произнести ни слова.
Она открыла дверь. Порыв холодного, сырого воздуха с лестничной клетки ворвался в квартиру, принеся с собой запах прелых листьев и безнадежности.
– Прощай, Аркадий.
Дверь тихо щелкнула. Замок провернулся с сухим, окончательным звуком.
Я остался один.
Я долго стоял в коридоре, глядя на закрытую дверь. Мне казалось, что если я сейчас ее открою, то увижу Лену на площадке. Что она не ушла, что это просто дурной сон. Но я не двинулся с места. Я знал, что за дверью пустота.
Я вернулся на кухню. Недоеденный ужин на столе. Две тарелки. Две жизни, которые только что разошлись в разные стороны. Я взял ее тарелку и машинально вывалил ее содержимое в мусорное ведро. Потом свою. Сел за стол и закурил.
Дом стал другим. Он больше не был моим домом. Он превратился в холодную, гулкую коробку, наполненную тишиной и запахом табачного дыма. Стены, казалось, раздвинулись, потолок поднялся. Каждая вещь кричала об ее отсутствии. Книга, оставленная на подоконнике. Ее чашка на полке. Вязаная салфетка на телевизоре. Это были улики. Улики моей неудавшейся жизни.
Я просидел так, наверное, час. Или два. Курил одну папиросу за другой, пока в комнате не стало сизо от дыма. Потом встал, прошел в комнату и достал из-под вороха бумаг на своем столе то, что принес из архива. Газетную вырезку. Схему связей, начерченную на листке из блокнота. Столбцы цифр из записной книжки Захарова.
Я разложил все это на столе. Лица на старой фотографии смотрели на меня из далекого прошлого. Белозеров. Захаров. Краснов. Они были объединены своей тайной, своим преступлением. Они были командой. А я был один. Теперь – окончательно один.
Лена была права. Это было самоубийство. Но она не понимала одного. Иногда самоубийство – это единственный способ остаться в живых. Единственный способ доказать самому себе, что ты еще не превратился в такого же призрака, как те, за кем охотишься.
Я смотрел на схему, и гнев, холодный и чистый, как спирт, начал вытеснять боль и отчаяние. Они отняли у меня все. Мое спокойствие, мою веру в закон, мою семью. Они превратили мой дом в холодный склеп. Что ж. Теперь мне нечего было терять. Абсолютно нечего. У меня осталась только эта война. И я собирался довести ее до конца. Или умереть. Разница была уже не так велика.