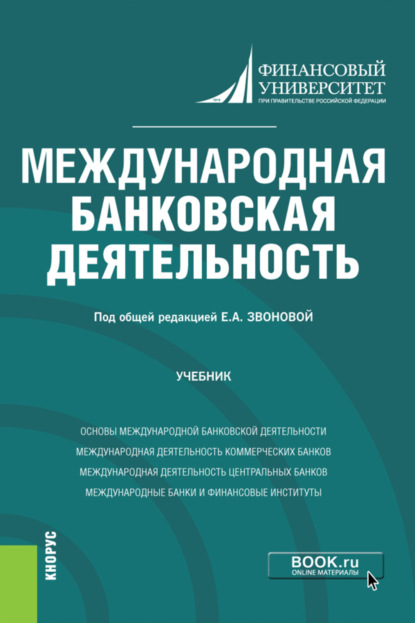Дело объекта №17

- -
- 100%
- +

Первый снег тишины
Служебная «Волга» плыла сквозь белое безмолвие, и это был единственный звук, нарушавший первозданную тишину мира. Монотонный, убаюкивающий гул двигателя смешивался с тихим шелестом шин по уплотненному снегу, да с ленивым поскрипыванием «дворников», счищавших с лобового стекла не снежинки, а скорее, ледяную пыль, которую гнал по земле низкий, колючий ветер. За окном тянулся бесконечный сосновый бор, и деревья, закутанные в тяжелые снежные шубы, стояли так плотно, что казались единой стеной, темной и непроницаемой. Лишь изредка в разрывах мелькал свинцовый отблеск замерзшего залива, похожий на старую, нечищеную сталь.
Майор Лев Гуров не смотрел на пейзаж. Он смотрел сквозь него, на отражение своего усталого лица в холодном стекле. Он видел глубоко посаженные глаза, складку горечи у рта, седину на висках, которая проступила не от возраста, а от той войны, что закончилась почти тридцать лет назад, но так и не отпустила его до конца, оставшись в памяти мелкими, острыми осколками льда. Он вынул из пачки «Беломорканал», размял папиросу узловатыми, сильными пальцами, щелкнул зажигалкой. Огонек на миг вырвал его лицо из полумрака салона, осветил шрам на скуле, и снова погас. Густой, едкий дым наполнил машину, смешавшись с запахом сырого сукна его пальто и холодного дерматина сидений. Водитель, молчаливый сержант, никак не отреагировал, лишь чуть приоткрыл боковое окно. В салон ворвалась струйка морозного воздуха, пахнущего хвоей и пустотой.
Они ехали уже больше часа от окраины Ленинграда, и чем дальше от города, тем гуще становилась тишина, плотная, почти осязаемая, как застывший мед. Она обволакивала машину, просачивалась внутрь, оседала на ресницах. Гурову эта тишина была знакома. Это была тишина фронтовой разведки, тишина заснеженного поля перед атакой. Тишина, в которой любой звук – хруст ветки, щелчок затвора – звучит оглушительно и окончательно.
Пансионат «Северная Ривьера» возник из-за очередного поворота внезапно, словно вырос из-под земли. Массивное, приземистое здание сталинского ампира, с колоннами и тяжеловесным портиком, казалось неуместным в этой северной глуши. Оно походило на огромный каменный корабль, севший на мель посреди заснеженного леса. Снег сгладил его строгие линии, завалил ступени, лег пушистыми шапками на плечи гипсовых пионеров у входа. Лишь в нескольких окнах горел теплый, янтарный свет, одинокий и уязвимый в этой бескрайней белизне.
«Волга» медленно подкатила к парадному крыльцу, и едва двигатель заглох, тишина обрушилась на них с новой силой. У входа уже ждали. Две фигуры, темные на фоне заснеженного фасада. Когда Гуров открыл тяжелую дверь и шагнул наружу, холод тут же вцепился в него, пробирая сквозь толщу пальто. Воздух был чистым и острым, он обжигал легкие. Под ногами оглушительно скрипнул снег.
– Майор Гуров? – спросил тот, что был повыше и поплотнее, поднимая воротник своей милицейской шинели. Пар от его дыхания густым облаком повис в воздухе. – Капитан Морозов, местный угрозыск. Ждем вас.
Гуров молча кивнул, протянув руку. Рукопожатие Морозова было крепким, но каким-то суетливым. Глаза капитана, молодые и чересчур ретивые, бегали по лицу Гурова, пытаясь прочитать в нем что-то – одобрение, или, может быть, снисхождение. Второй, участковый в тулупе, лишь козырнул и остался стоять поодаль, переминаясь с ноги на ногу.
– Дело дрянь, товарищ майор, – заговорил Морозов, понизив голос до заговорщицкого шепота, пока они поднимались по заснеженным ступеням. – Чертовщина какая-то. Мы такого тут отродясь не видали. У нас тут самое страшное преступление – это когда отдыхающие грибы не поделят. А тут…
Он замолчал, когда массивная дубовая дверь за ними закрылась, отрезав их от внешнего мира. Они оказались в огромном, гулком холле. Здесь царил полумрак и покой. Пахло воском для паркета, старым деревом и чем-то неуловимо-аптечным. С высокого потолка свисала огромная люстра с потускневшей бронзой и хрустальными подвесками, похожими на сосульки. Вдоль стен стояли глубокие бархатные кресла, пустые и будто ждущие кого-то. Длинные, острые, как ножи, тени тянулись по наборному паркету от единственной горевшей настольной лампы с зеленым абажуром у стойки администратора. За стойкой виднелось бледное, испуганное лицо женщины. Единственным звуком в этой застывшей тишине было мерное, гипнотическое тиканье больших настенных часов в резном деревянном корпусе. Их маятник раскачивался медленно и неотвратимо, отсчитывая время в этом затерянном мире.
– Где он? – коротко спросил Гуров, снимая промерзшие перчатки. Его голос прозвучал неожиданно громко.
– На втором этаже. Номер семнадцать, – Морозов снова перешел на шепот. – Мы ничего не трогали, как вы и велели по телефону. Только эксперт наш, криминалист, предварительный осмотр сделал. Сказал, такого в жизни не видел. Чистая сатанинщина.
Гуров проигнорировал последнее слово. Он медленно оглядел холл. Его взгляд задержался на ковровой дорожке, ведущей к широкой лестнице, на выцветшем портрете какого-то передовика на стене, на следах от мокрых валенок на паркете. Он вдыхал этот воздух, слушал эту тишину. Он не торопился. Он врастал в это место, становился его частью.
– Пойдемте, – наконец сказал он.
Они поднимались по лестнице, и под их тяжелыми шагами жалобно скрипели ступени. Звук этот разносился по всему зданию, одинокий и тревожный. Коридор второго этажа был длинным и темным, освещенным лишь тусклыми лампочками под потолком. У одной из дверей, с латунной табличкой «17», стоял молчаливый милиционер. Он вытянулся при их появлении.
– Жертва – Филатoв Анатолий Борисович, сорок два года. Ведущий инженер-конструктор из ленинградского НИИ «Кристалл», – докладывал на ходу Морозов. – Приехал сюда три дня назад. Путевка. Отдыхал один. Тихий, незаметный. Вчера вечером его видели в библиотеке, потом он ушел к себе. А утром горничная нашла… вот это.
Капитан кивнул на дверь. Гуров остановился перед ней, положил ладонь на холодное, гладкое дерево. На мгновение прикрыл глаза, словно прислушиваясь к чему-то за ней. Затем посмотрел на Морозова.
– Что нашли при нем?
– Главное – книги, товарищ майор. Целая стопка. «Молот ведьм», «Ключ Соломона», какая-то немецкая дрянь про руны… Самиздат, конечно. У нас тут в Зеленогорске кружок один есть… любители мистики. Профессор-историк на пенсии, поэтесса престарелая… Мы их уже трясем. Думаю, оттуда ноги растут. Начитались и с катушек съехали.
Гуров ничего не ответил. Он плавно нажал на ручку и вошел внутрь.
Комната была небольшой, стандартный номер в пансионате. Кровать, шкаф, стол у окна. Но сейчас она не была обычной. Она была сценой.
Первое, что бросалось в глаза – это не тело. Это был порядок. Зловещий, неестественный, выверенный до миллиметра порядок. Тело Филатова лежало на спине посреди комнаты, руки раскинуты в стороны. Он был одет в простую пижаму. На груди, прямо над сердцем, чернело аккуратное ножевое отверстие. Крови было на удивление мало. Но не это приковывало взгляд.
Вокруг тела, на полу, углем были начерчены руны. Гуров не знал их значения, но он видел другое. Они не были нацарапаны в приступе безумия или ритуального экстаза. Каждая линия была проведена с каллиграфической точностью, словно под линейку. Углы были острыми, пропорции – идеальными. Это была работа чертежника, а не фанатика.
Над телом, на трех тонких деревянных ножках, стоял перевернутый фотографический трипод. Он был установлен так, что его центральная ось проходила точно через грудь убитого. Симметрия была абсолютной, почти математической.
Гуров медленно, не нарушая рисунка на полу, обошел тело. В комнате пахло странно – смесью остывающего человеческого тела, угольной пыли и чего-то еще, металлического и холодного. Он присел на корточки у головы убитого. Лицо Филатова было спокойным, почти безмятежным. Глаза закрыты. Никаких следов борьбы, ужаса. Словно он просто уснул и не проснулся.
– Видите? – возбужденно прошептал Морозов из-за спины Гурова. – Все как в их книжках. Перевернутый символ, руны… Жертвоприношение. Они его как агнца заклали.
Гуров не слушал. Его внимание было приковано к правой руке убитого. Пальцы, уже начавшие коченеть, сжимали небольшой металлический предмет. Гуров осторожно, кончиками пальцев в перчатке, разжал ладонь Филатова.
Это был знак. Небольшой диск из тусклого, серого металла, размером с пятикопеечную монету, но гораздо тяжелее. На его поверхности был выгравирован сложный узор, похожий одновременно на снежинку и на шестеренку. Гуров поднес его ближе к глазам. Он заметил то, что, очевидно, упустил местный криминалист. На одной из граней узора была крошечная, едва заметная царапина, свежая, блеснувшая под светом лампы. Она нарушала идеальную симметрию знака.
Он встал и подошел к столу у окна. На столе лежала раскрытая книга в самодельном переплете. Рядом – стопка других, таких же. Гуров не стал их трогать. Он посмотрел на окно. За ним, в сгущающихся сумерках, медленно падал снег. Крупные, тяжелые хлопья беззвучно опускались на землю, укрывая ее новым, чистым слоем. Снег скрывал следы, глушил звуки, превращал мир в герметичный сосуд.
– Он не сопротивлялся, – сказал Гуров тихо, почти про себя. Его голос был ровным, лишенным всяких эмоций. – На теле нет следов борьбы. В комнате идеальный порядок, если не считать… этого спектакля.
– Так может, он сам был в этой секте? – предположил Морозов. – Может, это добровольная жертва? Или его опоили чем-то.
Гуров медленно повернулся к нему. Он посмотрел капитану прямо в глаза. Взгляд Гурова был тяжелым, пронзительным, словно он взвешивал каждое слово, каждую мысль собеседника.
– Сумасшедшие не пользуются логарифмической линейкой, капитан. А тот, кто это делал, был одержим не мистическим экстазом, а точностью. Посмотрите на эти руны. Они вычерчены. Это не рисунок, это чертеж.
Он подошел к одной из рун, начерченной у самого порога, и указал на нее.
– Вот эта. Видите? Линия чуть длиннее, чем нужно. На пару миллиметров. Небрежность? Нет. Фанатик, одержимый ритуалом, стремился бы к идеалу. Он бы стер и перерисовал. А это… это похоже на опечатку. Словно кто-то быстро и точно копировал шифр, и допустил незначительную ошибку.
Морозов нахмурился, вглядываясь в угольную линию. Он ничего не видел, кроме черной закорючки на паркете. Версия о секте была такой простой, такой понятной. Она объясняла все. А то, о чем говорил этот московский майор, все усложняло, делало непонятным и пугающим.
Гуров отошел от руны и снова посмотрел на тело в центре комнаты. На эту мертвую, холодную симфонию. Все было слишком правильно. Слишком демонстративно. Книги на столе, руны на полу, знак в руке. Это была не сцена преступления. Это было сообщение. Тщательно составленное, закодированное послание, оставленное одним профессионалом для другого. И убийство инженера было лишь подписью под этим письмом.
Он снова взял в руки тяжелый металлический знак. Холод металла проникал даже сквозь тонкую кожу перчатки. Он вертел его в пальцах, ощущая его вес, изучая грани. Царапина. Она была ключом. Незначительная деталь, которую не заметили бы те, кто ищет сумасшедших фанатиков.
– Опечатайте все. Комнату, коридор. Никого не впускать, – приказал Гуров, и в его голосе прорезалась сталь. – Мне нужен список всех, кто был в пансионате последние три дня. Отдыхающие, персонал. Всех. И подробный отчет о работе вашего НИИ «Кристалл». Чем конкретно занимался покойный инженер Филатов. Не общая информация для газет, а настоящая.
– Но при чем тут его работа? – растерянно спросил Морозов. – Это же явно…
– Это явно не то, чем кажется, – оборвал его Гуров. Он подошел к окну и прижался лбом к холодному стеклу. Снег падал и падал, густой и беззвучный. Он смотрел не на руны, а на пустоту между ними. Именно там, в выверенных интервалах, и прятался настоящий почерк убийцы. Руны были шумом, помехами, призванными сбить со следа. А музыка играла в тишине. И Гуров уже начинал различать ее холодную, безжалостную мелодию. Дуэль началась.
Холодные зеркала
Библиотека, в которой Гуров устроил свой временный штаб, была средоточием тишины всего пансионата, местом, где время, казалось, сгустилось, пропитав собой воздух, пахнущий рассохшейся кожей переплетов и слабым, почти призрачным ароматом лаванды, которую десятилетиями закладывали между страницами. Огромный письменный стол из темного дуба, застеленный зеленым сукном, стал его островом в этом море молчания. Единственная настольная лампа, такая же, как в холле, выливала на его поверхность круг теплого, уютного света, в котором медленно кружились пылинки, похожие на заблудившиеся споры неведомых растений. Все остальное тонуло в глубоких, бархатных тенях. За высокими, стрельчатыми окнами непрерывно и беззвучно шла снежная крупа, превращая мир снаружи в размытый, монохромный эскиз.
Капитан Морозов ерзал на стуле напротив, и тихий скрип дерева под его грузным телом был единственным звуком, нарушавшим покой. Он уже выложил на стол первые результаты своей кипучей деятельности: несколько исписанных от руки листков – протоколы экспресс-допросов горничной, администратора и ночного сторожа. Гуров медленно просматривал их, и его пальцы, оставлявшие на бумаге едва заметные влажные следы от растаявшего снега, казались пришельцами из другого мира в этом царстве сухой пыли.
– Все как один твердят, товарищ майор, – Морозов не выдержал молчания, его голос был приглушенным, но полным нетерпеливого рвения. – Про этот их кружок. Собирались по вечерам в малом каминном зале. Читали стихи, обсуждали историю… А потом, видать, дообсуждались. Филатов к ним примкнул сразу по приезде. Горничная говорит, у них там и свечи горели, и шепот стоял до полуночи. Вот они, голубчики. Интеллигенция проклятая.
Гуров поднял глаза от бумаг. Его взгляд был спокойным и до того непроницаемым, что Морозов невольно сбился.
– «Шепот стоял», – повторил Гуров тихо, словно пробуя слова на вкус. – Это точная цитата?
– Ну… да. Так и сказала, Елизавета Петровна. Горничная. «Шептались они там, как заговорщики».
Гуров отложил листок в сторону. В его движениях не было ни капли суеты. Он взял со стола тот самый металлический знак, извлеченный из руки убитого. В теплом свете лампы он казался еще более чужеродным. Тяжелый, холодный, он словно впитывал свет, не отражая его. Гуров медленно поворачивал его, разглядывая сложный узор, похожий на замерзшую музыку. Царапина. Она была здесь, на этом холодном теле, как единственная фальшивая нота.
– Пригласите сюда администратора. Зоя Аркадьевна, кажется? – сказал он, не глядя на Морозова. – И пусть принесут чаю. Крепкого. Без сахара.
Когда Морозов вышел, Гуров остался один. Он не смотрел на знак. Он смотрел на свое отражение в темном стекле окна, за которым кружилась белая мгла. Его лицо, расплывчатое и призрачное, накладывалось на силуэты заснеженных сосен. Холодное зеркало. Оно отражало только поверхность, скрывая все, что творилось за ней, в глубине. Как и это дело.
Зоя Аркадьевна вошла в библиотеку почти бесшумно, неся перед собой маленький поднос с двумя стаканами в подстаканниках. Она была женщиной неопределенного возраста, с вечно испуганным выражением на лице и руками, которые, казалось, жили своей отдельной, нервной жизнью, постоянно теребя край фартука или поправляя выбившуюся прядь тусклых волос. Она поставила поднос на край стола, стараясь не приближаться к кругу света, словно боялась обжечься.
– Просили, товарищ следователь… – ее голос был тонким и дребезжащим, как треснувший хрусталь.
– Присаживайтесь, Зоя Аркадьевна, – Гуров указал на стул, который только что освободил Морозов. – Расскажите мне о Филатове. Каким он был?
Она села на самый краешек, вся сжавшись, готовая в любой момент сорваться и убежать.
– Тихий… Очень тихий. Незаметный такой. Приезжал, брал ключи, уходил. На обед являлся вовремя. Книжки все читал… Вежливый. Всегда «спасибо», «пожалуйста».
– Он с кем-нибудь общался? Кроме этого вашего… кружка.
Женщина вздрогнула при слове «кружок», словно ее уличили в чем-то непристойном.
– Так вот с ними и общался… С профессором Драгомировым и с Анной Львовной, поэтессой нашей. Они его сразу к себе приняли. У них всегда так. Приезжает человек интеллигентный, они его сразу и… в оборот. Разговоры у них все… не наши. Про символы какие-то, про древность. Я краем уха слышала, когда в зале убиралась.
– А что-нибудь странное вы за ним замечали? Может, ждал кого-то? Получал письма, телеграммы? Звонил кто-нибудь?
Зоя Аркадьевна на мгновение задумалась, ее пальцы судорожно сжали край стола.
– Звонили, – сказала она вдруг неожиданно уверенно. – Вчера утром. Звонок был из города, из Ленинграда. Я соединяла. Мужской голос, резкий такой. Он спросил Филатова. Анатолий Борисович подошел к телефону здесь, в холле. Я далеко стояла, но разговор слышала. Вернее, не разговор, а… обрывки.
Она замолчала, глядя на Гурова испуганными глазами.
– Продолжайте, – мягко подбодрил он.
– Филатов почти ничего не говорил. Только слушал. Лицо у него было… белое, как полотно. Я еще подумала, не случилось ли чего. Он только и сказал в трубку два слова: «Я понял. Семнадцать». А потом повесил трубку и долго стоял, на часы наши настенные смотрел. Будто не видел их.
– Семнадцать? – переспросил Гуров. Ледяная игла уколола его мозг. Номер комнаты.
– Да. Семнадцать. Я еще удивилась. Что это он, номер свой называет? А потом он повернулся и пошел к себе. И больше я его живым не видела.
Гуров сделал глоток остывающего чая. Терпкая горечь помогла прояснить мысли. Это было первое. Первое настоящее слово в этой постановке, полное фальшивых рун и дешевого мистицизма. Не символ, не заклинание. Число. Код.
– Спасибо, Зоя Аркадьевна. Можете идти.
Когда она скрылась за дверью, он еще долго сидел неподвижно, глядя на свой недопитый чай. Стук в дверь вывел его из задумчивости. Вошел Морозов, а за ним – двое. Профессор и поэтесса.
Драгомиров Игорь Степанович, профессор-историк на пенсии, был высоким, сухим стариком, похожим на старинный фолиант в потрепанном переплете. Его твидовый пиджак с кожаными заплатками на локтях сидел на нем мешковато, а из-под густых седых бровей смотрели на мир удивительно живые, пронзительные голубые глаза. Он держался с достоинством, но в углах его тонких губ застыла горечь.
Рядом с ним Анна Львовна Вересова, поэтесса, казалась экзотической птицей, случайно залетевшей в этот северный лес. На ней было старомодное платье из темного бархата, на шее – длинная нитка потускневшего жемчуга. Ее лицо, некогда, видимо, красивое, было густо покрыто пудрой, которая не могла скрыть ни сетку морщин, ни синеватые тени под глазами. Она смотрела на Гурова с трагическим надрывом, словно видела перед собой не следователя, а персонажа античной драмы.
– Прошу, – Гуров жестом указал им на стулья. Он не стал садиться за стол, остался стоять у окна, сливаясь с тенью. Так он лучше видел их лица.
– Капитан Морозов уже ввел нас в курс этого… чудовищного происшествия, – начал профессор, его голос был глубоким и хорошо поставленным, привыкшим к лекционным аудиториям. – Мы потрясены до глубины души. Анатолий Борисович был тонким, интеллигентным человеком, настоящим эрудитом. Его интерес к эзотерической символике был чисто научным, поймите! Он искал первоистоки, праязык человеческой культуры.
– Мы говорили о розенкрейцерах, о гностических текстах из Наг-Хаммади… О, это были восхитительные беседы! – подхватила Вересова, ее голос дрожал от волнения. – Он был такой… чуткий слушатель! Какая душа! И вдруг… этот кровавый, варварский ритуал! Это немыслимо!
Гуров молчал, давая им выговориться. Он слушал не слова, а музыку, которая стояла за ними. Страх. Искренний, липкий страх обывателей, столкнувшихся с чем-то, что выходило за рамки их уютного мирка, сотканного из книг, стихов и отвлеченных теорий. В них не было холодной стали убийцы. Только хрупкий фарфор напуганной интеллигенции.
– Книги, которые нашли у него в номере, – наконец произнес Гуров, его голос из тени прозвучал ровно и бесцветно. – Это ваши книги?
Драгомиров и Вересова переглянулись.
– Мои, – признался профессор, тяжело вздохнув. – Вернее, из моей личной библиотеки. Анатолий Борисович попросил… ему было интересно. «Молот ведьм» – это же памятник средневекового обскурантизма, а не руководство к действию! А трактаты о рунах… это же лингвистика, история письменности! Неужели вы думаете…
– Я ничего не думаю, Игорь Степанович, – прервал его Гуров. – Я собираю факты. Когда вы в последний раз видели Филатова?
– Вчера вечером, здесь, в библиотеке, – ответила поэтесса. – Он был сам не свой. Бледный, рассеянный. Мы пытались заговорить с ним, но он почти не слушал. Сказал, что у него болит голова, и ушел к себе. Это было около девяти.
– Он что-нибудь говорил? О своих планах, о каких-то проблемах?
– Нет… – Драгомиров потер переносицу. – Он был замкнут. Хотя… он задал странный вопрос. Спросил меня, знаю ли я руну, которая означает «предательство» или «ловушку». Я ответил, что в старшем футарке есть руна «Перт», которую иногда так трактуют, но это очень вольная интерпретация… Я не придал этому значения. Подумал, это для его… изысканий.
Гуров кивнул. Предательство. Ловушка. Теперь к числу «семнадцать» добавилось еще два слова. Скупые, точные, как удары молотка.
– Можете идти. Но не покидайте пансионат.
Когда они ушли, оставив после себя легкий запах нафталина и старых духов, Морозов торжествующе посмотрел на Гурова.
– Ну вот! Все сходится! Книжки его, накануне был сам не свой, про руны спрашивал! Они его обработали, а потом кто-то из их шайки…
– Успокойтесь, капитан, – Гуров вернулся к столу и сел, вглядываясь в круг света. – Эти двое боятся собственной тени. Они могли дать ему книги. Могли напугать его своими разговорами. Но они не могли его убить. Для этого нужна другая порода людей. Другая выдержка.
Он открыл папку с вещами, изъятыми из номера Филатова. Кроме оккультной макулатуры, там было немногое. Потрепанное портмоне с семью рублями и профсоюзным билетом. Носовой платок. Расческа. Связка ключей от ленинградской квартиры. И маленькая, затертая до сгибов фотография. На ней молодая женщина с усталой улыбкой держала на руках маленькую девочку в смешной панамке. Гуров долго смотрел на это фото. Это была другая жизнь инженера Филатова, настоящая. Та, о которой не говорили ни администратор, ни профессор.
– Вы нашли что-нибудь еще? В его вещах? – спросил он Морозова.
– Да так, барахло… Одежда, бритвенные принадлежности. В чемодане на дне был журнал. «Радиотехника и электроника». Он его, видать, почитывал.
– Принесите.
Журнал оказался толстым, со скучной серой обложкой. Гуров начал медленно его листать. Формулы, графики, схемы. Непонятный, чужой мир. Но Гуров искал не смысл. Он искал аномалию. И он ее нашел. На одной из страниц, в статье под названием «Методы кодирования сигналов в условиях фазовых искажений», несколько абзацев были подчеркнуты тонкой карандашной линией. А на полях, напротив одного из графиков, стояла крошечная, едва заметная пометка, сделанная знакомым, точным чертежным почерком. Это была та самая руна, которую профессор назвал «Перт».
Гуров закрыл журнал. Картина начала обретать резкость. Все эти руны, триподы, черная магия – это был лишь камуфляж. Сложная, многослойная драпировка, скрывающая суть. А суть была там, в этих формулах, в работе инженера Филатова, в его секретном НИИ «Кристалл». Звонок из Ленинграда. Число «семнадцать». Слово «ловушка». И этот тяжелый, холодный знак в руке убитого.
– Капитан, – сказал Гуров, поднимая на Морозова тяжелый взгляд. – Сектантов своих забудьте. Это тупик. Они нам больше не интересны.
– Но как же… – опешил Морозов. – Все улики…
– Улики – это то, что нам оставили, чтобы мы по ним пошли. А мы пойдем в другую сторону. Мне нужно личное дело Филатова Анатолия Борисовича. Срочно. Из Ленинграда. Полное. С допуском, характеристиками, послужным списком, всеми проектами, над которыми он работал. Особенно за последний год. Связывайтесь со своим начальством, пусть выходят на управление КГБ. Скажите, дело особой важности. Пароль – «Объект №17». Они поймут.
Морозов смотрел на него, как на сумасшедшего. Вся его стройная, понятная версия рушилась на глазах.