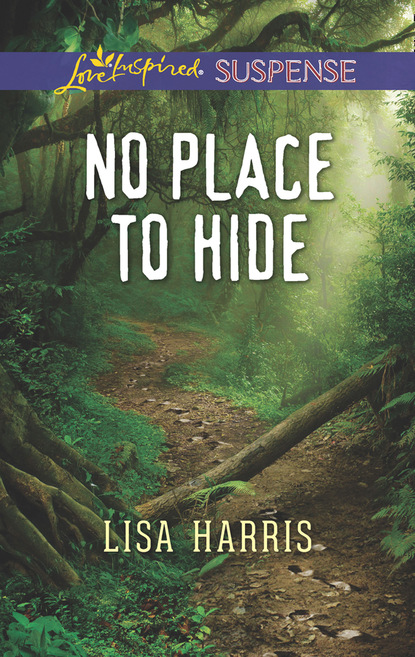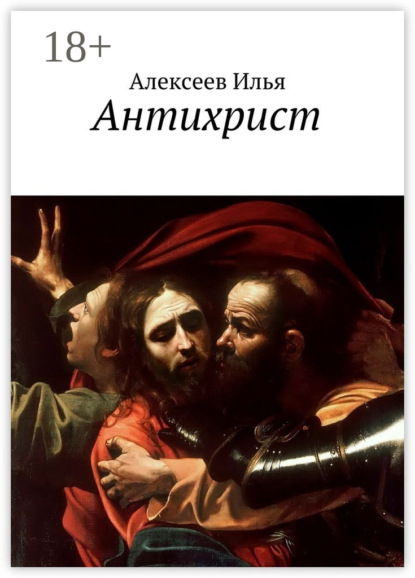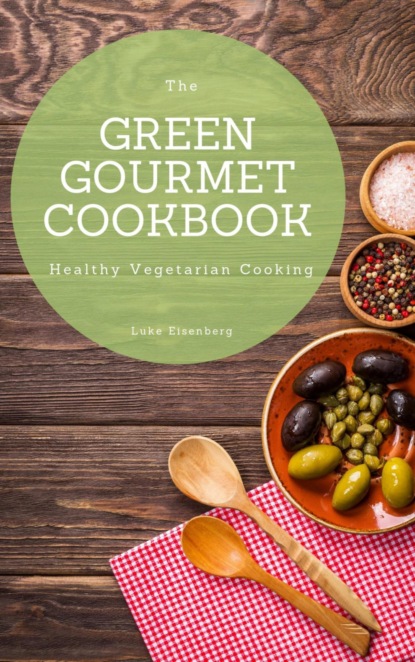Нота бессмертия

- -
- 100%
- +
Мне даже казалось, в этом есть что-то сугубо университетское, нужно было иметь, например, отца с тремя высшими образованиями и мать, профессора кафедры программирования в МЭИ, чтобы твоя расхлябанная кисть работала, как настоящая клюшка для гольфа. Как правило, Великий Далёков считал ниже своего достоинства обмануть блок — банально перебросить мяч за спину. В крайнем случае пробьет блок насквозь. И я долго не понимал, почему никто не может закрыть его, остановить его, пока однажды сам не закрыл ему все ходы выходы. Он ударил прямо в руки, и меня просто отшвырнуло назад. Я даже успел подумать: и не удивительно, ведь я вишу в воздухе, без опоры. Он был не выше меня и вряд ли сильнее, но он вкладывал в удар абсолютно все, и все это обрушилось на меня: его позвоночник, его копчик, поясница, руки, плечи, ноги, кисть. Ладони у меня обожгло, а руки вывернуло назад так, словно я пытался остановить электричку. Когда мяч был не у него, и дела шли плохо, он или немилосердно матерился, или то и дело вопил вверх, но время от времени, он извинялся своим профессорским тоном, просил сделать паузу, и вытащив из рейтуз платок, торопливо, но тщательно протирал очки. Мало кто мог так вот запросто остановить игру и несколько секунд при гробовой тишине протирать очки. Но стоило Великому Далёкову попасть в аут. И что тут начиналось! И обмани! И не лупи со всей дури, Шура! И перебрось! А он все лупил и лупил, и чем больше ему улюлюкали с обеих сторон площадки, тем больше он мазал. И поскольку он считал ниже своего достоинства обмануть блок, команда проигрывала игру.
Но, в любом случае, это было Зрелище. И не просто зрелище, все вокруг него начинали играть на порядок лучше. Кто не бил обычно, начинал бить, кто бил плохо, бил красиво. А я выкидывал такие фортели, что сам Великий Далёков охал что-нибудь одобрительное. Молодчик! — буркнет, бывало, своей московской скороговорочкой. Есть у него такое дурацкое словечко. А я и сам не понимал, как это у меня получалось: в тот день, когда я видел его игру, я мог бы повторить любое его движение, а, забивая безнадежный мяч, я часто не понимал, какая сила помогла мне успеть.
Именно от Далёкова я впервые услышал про «зимний лёд соло». Зимний лед, на котором невозможно остановиться.
Глава 4. Систер
Младшая сестра Абрам печатала, низко нагнувшись к огромной электрической машинке. Увидев меня, она совсем зарылась носом в клавиатуру.
Она училась на дневном, но Абрам настояла, чтобы «систер» с первого курса хотя бы раз в неделю работала на кафедре. Даша, видимо, пошла в маму, милую женщину с мягкими чертами лица, но все-таки было в ее лице что-то родственное, что-то неуловимое «абрамовское» — в линии губ, улыбке, разрезе глаз…
— Привет юниорам! — сказал я.
— Здравствуйте! — сказала систер, высунув голову из машинки, как из окопа.
— Мы опять — на «вы»? Я тебя чем-то обидел?
— Что-то вид у вас сегодня подозрительно счастливый.
— Да какой счастливый? Бог с тобой!
— Нет?
— Да, грустно мне, Дашенька!
— Что же так?
— Между нами — какое-то толстое стекло.
— Даже не представляете, какое оно толстое!
— Никогда не знаешь, что у тебя на уме.
— Ну, это вы многого хотите.
— Даже не представляешь, как много.
— Не хочу даже представлять.
— На самом деле, моя главная эрогенная зона — интеллект.
— Выздоровели? Наконец-то! Поздравляю!
— Дашенька!
— Что это с вами? Весну почуяли? Не рано?
— А у нас что сейчас?
— Берегите себя. А то у вас, правда, какие-то нелады с головой.
— Мучаешь меня, а потом голову мою жалеешь?
— Я вас мучаю? Чем же это я вас мучаю?
— Являешься во сне, будто чистая лебедь!
— Во-первых, я никогда никого я не жалею, — затараторила систер скороговоркой, — никого и никогда, кроме своей собаки, ей сегодня кошка глаз расцарапала, а во-вторых, если я вам, как вы выразились, являюсь, то это совершенно не мои проблемы!!!
— Понял! Испорченный телефон.
— Вы, наверное, и испортили.
— Что ж, злюка такая!.. Ладно, пойду. Доктор сказал: ходить, ходить.
— Постойте уж… успеете в свой будуар.
Глава 5. Новое платье Насти Филипповой
— Филиппова! — крикнула Волкова. — Не совращай наших мужиков! Опять голая пришла на работу!
— Не голая, а в женском.
Настя была натура творческая: она рисовала гуашью пейзажи и сама себе шила все эти авангардные наряды. Её новое платье, сшитое, а точнее, собранное из бежевого льна, было ниже колен и даже без выреза сверху, но передняя и задняя его части соединялись шестью едва заметными тесемками, и стоило Насти с ее идеальным сложением и высокими тяжелыми бедрами повернуться, шевельнуться, было отчетливо видно, что под платьем ничего нет. Когда же возникало естественное любопытство узнать, что же там все-таки есть, так оказывалось, что это только на первый взгляд просто, а на самом же деле, ходи рядом с ней хоть целый день, все равно ничего не увидишь и потратишь день зря!
— Платье — шутка! — сказала Таня-2. — Тебе, Насть, не жалко мужчин?
— Если узнаю, что кому-то станет плохо, я его пожалею.
— Нет! Это не кафедра! — сказала Волкова. — Это какой-то бордель!
При слове бордель, даже Гера оторвался от своего паяльника и встал.
Гера был нещадно близорук, ряб, как обитатель средневековых трущоб, и вечно болел зубами, но это не мешало ему иметь прекрасную жену и трех очаровательных светловолосых детей. Что значит, порода в человеке! При этом Гера, в моем понимании, был настоящий герой-отец. Помимо своих обязанностей инженера кафедры он непрерывно лудил, паял, чинил бесконечный поток приемников, утюгов, фонариков, электронных весов и так далее, которые ему несли со всего института. По выходным они с начлабом строили дачи, а когда, по словам Геры, ему «очень нужны были деньги», он вываривал в морге скелеты из бесхозных трупов. Я старался во всем на него равняться, но мало результативно.
Согнувшись в три погибели, Гера внимательно поелозил своими очками +10 по платью Насти и вынес, как всегда, веский вердикт.
— От моделей ученических… — изрёк он, выпрямившись и подняв указательный палец, — к кораблям космическим!
Мы засмеялись. Только Настя невозмутимо посмотрела на Геру из-под своей челки, а ля женщина-вамп.
— У меня еще совсем летнее есть… — сказала она. — Я в нем шла по Дерибасовской, с Аркадии, и один мужик упал передо мной на колени с охапкой белых роз, а потом подошел милиционер и сказал: «Гражданка! Срочно оденьтесь! Или уж разденьтесь совсем!».
В кабинет вошла одна из подруг Волковой, и я вздрогнул — до того она была похожа на Абрам. Просто еще один двойник, если, конечно, Абрам можно было представить в образе платиновой дамы полусвета. Но Абрам без разбора плодила свои копии, симулякры, клоны и жирандоли, как говорят французы — этот московский фарфоровый завод работал без выходных. Странно, как родная сестра не попала под такую щедрую раздачу.
— Тань, извини, что отвлекаю... — сказала Ольга.
— Не извиняйся! Просто не больше отвлекай, — сказала Волкова через губу и повернулась ко мне. — Это — Ольга с кафедры физики.
— Ее подруга, — сказала Ольга.
— Не скули! А это — Рома, мой бывший…
— Бывший?
— Одноклассник.
— Очень приятно! — сказал я, как всегда волнуясь в подобной ситуации.
— Здасьте! — сказала Ольга и отвернулась. — Ты куда пропала? У Петьки опять зависла?
— Какой в задницу Петька! Не напоминай! В общем ты его не знаешь… Зовут Славик. У него копейка такая рыжая.
— Да? И где он тебя склеил, карга ты старая?
— Сама ты старая! Он с нашими на Кюкюртлю ходил. Он меня уже три раза до работы подвозил.
— И какой у него? Рассказывай.
— Что какой?
— Коза тупая, что какой! Бизнес, говорю, какой?
— Дура-лошадь, у нас отношения!
— Ага, как у вас — так отношения, а как у нас — так «проверено: мин — нет!» в подворотне и трындец! Слушай, мне тут срочно надо в химчистку брюки сдать, а то там скоро обед… Мы на работу идём?
Волкова состроила кислую мину.
— Ладно, поняла. Слушай, а ты в чем пойдешь, дай мне твою рубашку голубенькую?
— Здравствуй, я ваша Маша! А я в чем пойду? В этом?
Волкова растопыривает полы белого химического халата.
— А что? Тебе идёт! — сказала Ольга. — Так и езжай, доктор!
— Клизму только не забудь, — сказал я.
— Дурак! — сказала Волкова, позирую, как модель. — Я в поисках серьезных отношений! Интим и гербалайф не предлагать.
— Королева! — сказал Гера. — Спинным мозгом чую.
— Бензоколонки, — сказал я.
— Он сегодня напрашивается, — Волкова кивнула в мою сторону.
— Влюбился что ли? — сказала Ольга.
— От него дождешься!
— А хочешь…я…я… тебе свою блузку от Ив Сен-Лорана дам?
— Ты в химчистку не опоздаешь?
— Ладно, после обеда схожу.
В «Ноту» ворвался Князь, и Настя тут же молча и как-то профессионально повисла у него на шее. Меня всегда поражала та необыкновенная грация и пылкость, с какой она повисала на шее своих многочисленных любовников, словно одна из самых смелых модификаций чеховской Душечки, и тут же начинала что-то мурлыкать своему мужчине непосредственно в среднее ухо.
Впрочем, Князь был единственным, о ком Настя говорила «мой любимый мужчина», а Князь всегда брал ее в Крым — пока они лазили по скалам, Настя плавала с аквалангом и рисовала гуашью. Разумеется, Князь был ей не пара, я даже не знаю, кто был бы ему парой, не считая Абрам, но между ними был, словно пакт о ненападении. Вокруг Абрам, вообще, даже после их разрыва с Далёковым, точно висело защитное пуле. Как бы там ни было, я верил, что Настя еще найдет своего «любимого мужчину». Я просто представить себе не мог, что кто-то из моих друзей не будет счастлив.
— Бормота не у вас? — сказал Князь. — Где этот чертов фашист?
— А меня ты не искал? — промурлыкала Настя.
Князь закончил геологический, по образованию был маркшейдер – горный инженер, но, как и Абрам, работал и учился в аспирантуре в МЭИ. Волкова, как сердобольная мамаша, всем нашим находила работу. И теплое местечко. Все пользовались ее многочисленными и какими-то даже саркальными связями. Чего я только не насмотрелся здесь, но Волкова и мня мистифицировала своей способностью обаять такое количество людей. Институт был огромен, как город, и каждый день к ней приходили ее бесконечные друзья и приятели из МЭИ, и казалось, что просто какие-то московские знакомые заехали на чай.
— Опять ни одного напильника! – кричал Князь. — Сейчас найду — убью!
— Как я люблю, Кавказ мой величавый, твоих сынов воинственные нравы! — сказал я.
Мы хотели с Князем обняться, но Настя буквально спеленала его. Она все-таки была фееричная женщина.
— Не видели фашиста? — не унимался Князь, как ни в чем ни бывало, продолжая держать на себе Настю, впрочем, ее тело в символическом льняном одеянии заметно поубавило его воинственность.
— В СССР фашистов нет, — сказала Волкова, — а если хочешь с ними бороться, запишись в комсомольский оперотряд по месту работы.
— Вот он и пришёл записываться, — сказала Настя.
— Неонацист? – спросила Ольга.
— Неоариец, — сказал я.
— Правда? – Ольга повернулась к Волковой. – Молодой?
— Сиди! Лыжи уже навострила.
— Специально поперся на работу — крючья поправить! – Князь все рвался из объятий Насти, как птица, попавшая в силок. — Алкаш малолетний!
— Бессмертный! Тебя же тянет на малолеток, — сказала Волкова.
— С новичками что ли бегаешь? — спросил я.
— А вот сделаешь КМСа, тоже будешь с новичками бегать!
— Да, да, ну как же, слышал!
Настя, наконец, отпустила своего любимого мужчину, и мы с Князем обнялись.
— Так! А это что такое? Князь!
Я стукнул его в живот.
— У холодильника опять спал?
— Это диафрагма! У тебя такое еще не выросло.
— Да куда нам микрофонным шептунам. Поздравляю!
— Спасибо!
— И Макс с вами был?
— Да, и Макс.
— А Лева?
— И Лева, и Джон, и Каймачников.
— Ну, даете! А Саит?
— Саит погиб.
— Правда? Не знал.
— Да вот… Еще весной.
— Надо же, не знал. А Белый?
— И Белый.
— А Далёков был?
— Далёкову не до гор — он женится.
— Не понял.
— Я тоже не сразу поверил.
— Такими вещами не шутят.
— Какие уж тут шутки?
— Да ну тебя! Князь? Нет, я не верю! Разыгрываешь? На ком?
— А я знаю? Большой оригинал! Приходите, говорит, через месяц — будет много водки.
— Нет, я тебе не верю!
— Я тоже не верил.
— Да, ладно, разыгрываешь? Нет? Нет!!! Черт! Серьезно?!
Я посмотрел на Волкову.
— Не хотела вас со Сташевской расстраивать.
— Да вы чего, мужики? Нет, правда?
— Горькая! — казала Волкова. — Как я! Хороший каламбур!
— Ох, Княже, Княже. Ну как же так?!.. Мы так и не съездили втроем на Норд-Кап.
— Нет, так нельзя! Надо ехать в горы!
— Надо ехать в горы!
— Надо ехать в горы!
— Нет, правда, волюшку бы, да в горушку! — сказал я.
— А я тебе говорю, надо ехать в горы!
— Нет! Надо ехать в горы!
— Горы до осеннего Крыма предложить не могу, но есть путевка на стройку в Кирсановку, — сказала Волкова. — Рома, ты как на счёт того, чтобы опроститься?
— Я за любой кипеж, кроме конца света.
— Правда? Отлично! Не посылать же кандидатов наук.
— Вот, зараза!
— Один-один, — сказал Гера.
Он уже опять вонял паяльником в своем углу у окна.
Глава 6 Эхолалия
— Я не могу, шляются, как до себя. Каждый третий — у менядепрессия, депрессия! — встретила меня медсестра родного диспансера.
Я никак не мог понять этимологии ее разреза глаз: то липримесь восточной крови, то ли легкая степень синдрома Дауна.
— Чего ты завелась? — спросила ее врачиха.
Я где-то читал, что Сергий Радонежский не хотел изгонять изсвоей послушницы беса. Не мною, говорит, посажено, не мне и изгонять.
Врачиха кинула на меня свирепый взгляд, и я поднял обе руки.
— Не стало настроения — листья падают. А ты что думал, чтопосле лета опять лето? Коньяк!
— Все сказала?
— Может, я поздней зайду? — спросил я.
— Сиди! — приказала врач. — Почему так долго не приходит?
— Да сам не знаю… Хорошо-то как у вас тут!
— Хорошо у нас тут! А людям, может, нужно, — завелась опятьэта бесноватая. — Я ходил по парку — у меня депрессия. Ходи на работу! Тамдепрессии не будет. Повторяю: коньяк!
— Замолчи уже!
— Коньяк!
— Ну где? разливайте! — сказал я.
— Уймитесь оба! — рявкнула, наконец, врачиха. — Как мать?
— Как всегда.
— А отец?
— То же, как всегда.
Врачиха устремила вдаль затуманенный взгляд.
— Везет же дурным бабам!
— На скачках не пробовали играть? — спросил я. — Хотя…правильно! Там все схвачено.
— Ладно, ладно. Как сам?
— Все лучше и лучше.
— А чего пришел? — сказала сестра.
— Тянет, — я пожал плечами.
— Его тянет, — сказала врачиха медсестре. — А чего из армииушёл?
— В наш век все клонится к упадку.
— Все ясно… Молодец, что вернулся в институт.Восстанавливаешься?
— Работаю пока на кафедре.
— Любишь свою работу? — спросила медсестра.
— Нет больше сил наслаждаться!
— Все с тобой ясно. Как пальцы?
— Отрастают.
— В смысле? — сказала медсестра.
— Вы слишком буквально ставите вопросы.
Как ни страннакочерыжка у нее варила. Вообще, была себе на уме. Думаю, та бесноватаяпослушница Радонежского тоже не только лыком была шита.
— Тебе же ничего не ампутировали.
— Хотели! — сказал я.
— Ему хотели, — сказала врачиха.
— У меня фантомная ампутация. Я так вижу.
— Он так видит, — сказала врачиха. — У него фантомнаяампутация.
— А у вас — эхолалия! — буркнула медсестра.
— Эхо что у меня?
— Эхолалия, — сказал я. — Нимфа Эхо влюбилась вНарцисса, но он отверг
её. От горя Эхо постепенно исчезла, оставив лишь голос,способный повторять
чужие слова.
— Умна-а-я! — протянула врачиха в своей не окончательнопреодоленной деревенской манере.
— Рад, что сохранил пальцы? — спросила медсестра.
— Нет.
— Как нет?
— Я хотел, чтобы мне их отрезали и приделали титановуюкошку.
— Он шутит, — сказала врачиха медсестре и уже деловопосмотрела на меня. — Рецепт нужен?
— Рецепт? Рецепт — да, пригодится.
— Что значит, пригодится? Ты смотри, лекарства пить небросай!
— И альпинизм свой не бросай! — приказала медсестра.
— Так и быть.
— Как Полина? — спросила врачиха.
— Нормально. Хочет, чтобы я бросил альпинизм.
— Ладно. Главное, смотри, сам ее не бросай ее! Такая баба затебя пошла!
— Еще не факт.
— Как это не факт?
— У меня испытательный срок.
Врачиха начала уже что-то писать в моей карте.
— У него испытательный срок, — повторила она, не поднимаяголовы.
— А у вас — эхолалия, — сказал я.
— Еще один! Как с Полиной? Спите вместе? Может выписать тебечего?
— Спасибо, справлюсь.
— А то смотри, будешь всю ночь ее гонять.
— Ладно. До кучи. И циклодол тогда уж.
— А это тебе еще зачем? — насторожилась медсестра.
— На всякий пожарный — сказала врачиха, не поднимая головы.
— От левитации, — сказал я.— Просто сумасшедшая дурь!
— Выпиши ему… — врачиха наклонилась к уху медсетры и сталаей что-то нашептывать.
Пока они шептались, я достал блокнот.
— Нет, нет, нет, пожалуйста, — сказал я. — Продолжайте.Рифма пришла: сессия — депрессия.
— Я слушала запись с твоими песнями, — сказала медсестра. —Вызывает депрессивное ощущение.
— Мир в целом вызывает депрессивное ощущение, мир нелучезарен. Как это у немцев — Вельтшмерц.
— Вельш... что? — переспросила врачиха.
— Вельтшмерц. Мировая скорбь.
— Скорбь — бог с ней… Видения, галлюцинации? Больше неповторяются?
— Нет.
— Нет?
— Практически.
— К нам тут ходит одна — практически беременная, — сказалаврачиха. — А то смотри… Полежишь на литии. В хорошем санатории…
— Спасибо! Обдумаю ваше предложение.
Я встал, забирая со стола рецепт.
— Печать не забудь поставить, мировая скорбь!
— Вельтшмерц! — подсказала медсестра.
— Запоминай, запоминай, — кивнула ей врачиха. — меня потомнаучишь.
Глава 7. Экспириенс
Электричка подползала к конечной станции. Край Москвы лежал черный и леденящий. Манящий, как земля для моряка, вернувшегося из плаванья. Я дрожал от вожделения, я хотел пронзить его насквозь, пройти сквозь него, как раскаленный нож сквозь масло или метеорит через атмосферу Земли. Идти куда глаза глядят. Долго, до сумерек, брести по абстрактным и мрачным проспектам, по просторным районам окраин, построенным для циклопов. там много простора, зелени, космические расстояния. Не было случая, чтобы у меня не улетучилась тоска, когда я бродил по этим жилым космодромам.
И вот «Тройка», как всегда, словно начинает большое космическое путешествие, и вот я уже лечу сквозь вечность и звезды по какому-то вселенскому зимнему лесу.
В 18:15 под предлогом немедленной покупки батареек у метро Новогиреево (три остановки на метро от института ещё минут десять пешком до остановки быстрым шагом) я уже иду вдоль сталинского дома на Авиамоторной, настроение, как говорил Гагарин, рабочее. Что-то мокрое прилипает к лицу и наушникам.
Я решаю дослушать трек «Тройка» до конца, и для этого приходится удлинить походку к мокрому входу метро до трёх минут (именно столько длится первый трек компакта). «Тройка» идеально подготавливает к выходу из Энрофа и долгожданному прорыву в Шаданакар.
В 17:20 поезд несёт меня уже по невероятным туннелям в сторону станций Шоссе Энтузиастов и Перово под первые звуки трека «Вальс». Расстегиваю куртку и надеваю капюшон поверх шапки — удается придать себе более или менее нормальный вид.
Нажимаю кнопку «Бэквэд», и станцию «Перово» опять встречаю под трек «Вальс», и в продолжении следующих четырех без малого минут нахожусь под властью свиридовского психоделика, запаха метро и жутких подземных шумов.
Изобилие окраинного народа начинает бесить, а кнопка power bass умножает мою нервозность в несколько раз. Распихав всех, я выбираюсь из поезда и выхожу на станции Новогиреево. Народу тут ещё больше. Рука тянется к кнопке «бэквэд», и вот летучие скрипки опять уносят меня в облака.
«Весна и осень» — что-то вроде прелюдии к спектаклю, где весь мир — театр, а люди актеры.
Троллейбус — тот самый троллейбус — аккумулирует пассажиров. Смотрю на плеер — осталось около двух минут до конца трека, столько же у меня, чтобы добраться до этого рогатого чудища. За доли секунды выбираю наиболее быстрый маршрут и срываюсь с места навстречу курящим мужикам и серому переходу. Прыгаю на подножку, двери закрываются за мной, а я падаю на сиденье.
Вспоминаю про билет, встаю. Кнопка stop прерывает мой трип на время приобретения билета, чтобы продолжить его композицией «Романс», вступительными тактами виолончели, кислотно-низкими, как контральто богини, когда троллейбус два раза повернет направо и выпрыгнет прямо под ее окна.
Глава 8. Der Gekreusigte (Распятый)
От дома Абрам я пошёл к Новогиреево пешком. Дорожка парка была коричневой, с золотом, отполированная лимонными листьями. Ноги утопали в них по щиколотку. Больше всего было кленовых, одинакового оттенка, размера и формы. Я пинал их ногой, чтобы почувствовать, что это, действительно, листья, а не миллионы трафаретов, разбросанных для какого-то гигантского натюрморта. Высокие облака пропускали свет, как матовое стекло, и только на горизонте небо было чистое. Свет струился из синевы на горизонте, пробивая остатки листвы на деревьях, и мне казалось, что я иду по маленькому астероиду. Наверное, именно в такую погоду люди и решили, что земля это — блюдце. Верхушки елей за высоким зеленым забором были так высоко, что казалось, они растут на склоне горы. В белом небе, над черными ветвями дубов и лип каркало воронье. Небо было белое, как глаза слепого, и хотелось, чтобы из него скорее пошел снег.
Я включил плеер и стал слушать лекции о Прусте, которые Мамардашвили читал во ВГИКе в прошлом году.
— Ницше пишет человеку, который обратился к нему с письмом, или после какого-то разговора, во время которого было сказано этим корреспондентом Ницше, что он его наконец-то понял и тем самым приобрел. На что Ницше ему в письме отвечает: «Вы наконец-то нашли меня, теперь вся проблема состоит в том, чтобы меня потерять». И подписывает — Der Gekreuzigte, то есть Распятый. Встает образ крестной муки, распятия на мысли или на том, что могло бы быть мыслью. Распятый на том, что могло бы быть, если бы было кстати. Но нет, не сошлось. Значит, то, о чем мы говорим, — мысль или состояние понимания, — мало того, что представляет возможную невозможность, если в конце концов все сошлось (в конце концов все сходится, и фигура греческого трагического героя есть символ того, что в конце все сходится), то этого сошедшегося тоже нельзя иметь. Нельзя иметь в том смысле, что это нельзя, раз получив, положить в карман и тем самым иметь и потом, когда тебе надо, к этому снова обращаться.
— У гроба карманов нет.
(Смех в аудитории).
— Рома, как всегда, афористичен… И вот, оказывается, те состояния, которые мы называем мыслью, они, даже если и есть, не поддаются владению или удержанию. То есть они обладают следующим признаком: в них нужно каждый раз снова впадать. Слово «впадать» здесь звучит примерно, как «впадать в ересь». Пастернак в известных стихотворных строках говорил так: «Впадать в неслыханную простоту».
Я знал Мамардашвили еще по Тбилиси. На войсковом чемпионате мы выступили так себе, и Демченко отправил нас на Ушбу по маршруту Габриэля Хергеани (дяди великого Михаила-Чхумлиана Хергеани). В качестве отдыха.
Я почти не звонил Абрам, разве что пригласить на свой день рождения, но после войскового чемпионата, Ушбы и камня размером с дом, который слега погладил меня на лысых водопадах (мы проскочили наш кулуар) мне было не до условностей. Как всегда, Абрам что-то затараторила, но единственное, что я понял из ее несвязной речи, Мамардашвили - в Грузии. В те дни он читал в ТГУ лекции о Прусте.
Окончательно изгнанный из МГУ грузинский Сократ и великий русский философ Мераб Константинович Мамардашвили гастролировал тогда лекции по всему миру. В Тбилисском университете — на своем родном языке. В России и республиках СССР — на своем втором родном языке — русском. В Париже — на своем третьем родном языке — французском. Но цикл лекций о Прусте он и в Грузии читал на русском. Причин тому было много, но главная, по словам самого Мераба, — Пруст тогда еще не издавался на грузинском.