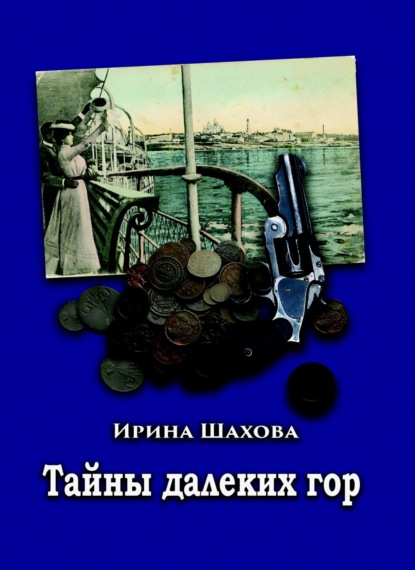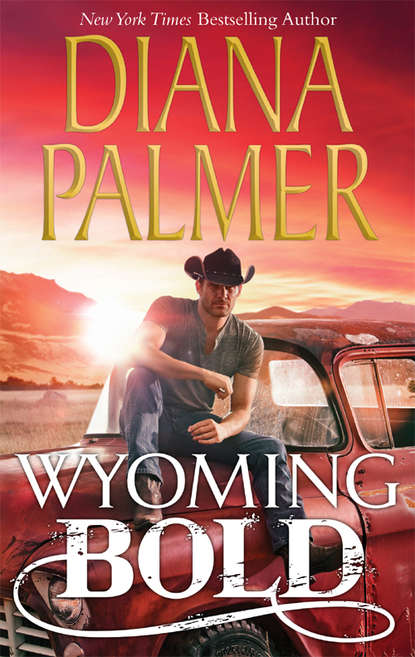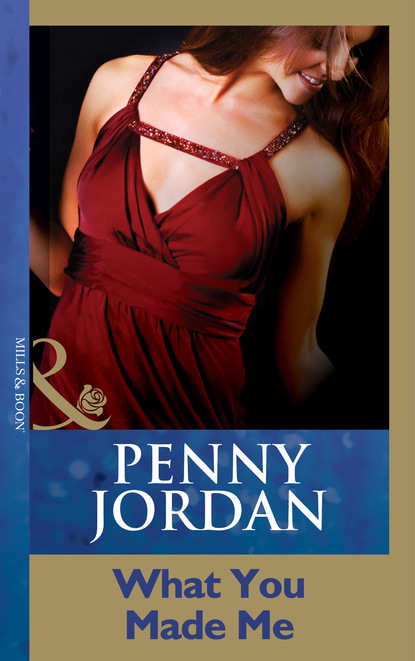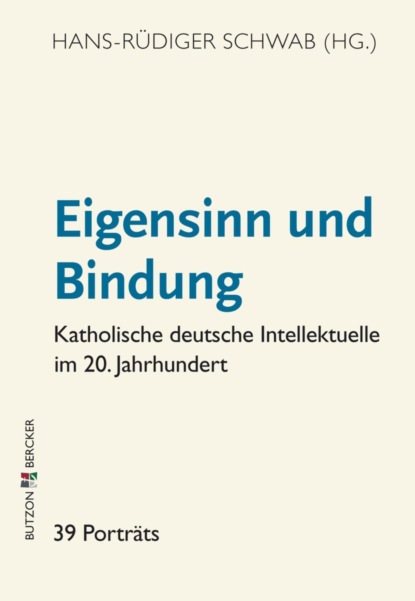- -
- 100%
- +
В 1867 этот особняк увидел самарский губернатор Георгий Сергеевич Аксаков, и двухэтажный, каменный, с просторными подвалами дом очень ему понравился. Суд в это время ютился в помещении местного дворянского собрания, что не устраивало губернатора. И вот, по его поручению чиновники губернского правления сразу же начали переговоры с домовладельцем. Аренда здания для окружного суда обещала влететь государству в копеечку, но ситуация разрешилась быстро и очень дешево.
Когда переговоры вовсю шли, казенная палата предоставила губернскому правлению документы о хронической неуплате Световым городских налогов. При этом выяснилось, что некоторые недоимки за ним тянулись еще с 1861 года. Эти бумаги были переданы в судебную палату по гражданским делам, и владения казны пополнились сразу тремя домами, принадлежащими Светову – зданием на Алексеевской площади, на улице Соборной и Дом старой почты.
И все же эта практика была редкой. Городские власти рекомендовали местной полиции и земским начальникам применять принудительные меры с осторожностью, боясь снизить платежную способность населения. А продажа имущества бедных и средних крестьянских семей за казенные долги производилась вообще в весьма редких случаях. Обычно мера применялась лишь к имущим, но упорным неплательщикам.
Удивительно, но конфискация оказалась выгодной и для Светова. Как подсчитали специалисты по недвижимости, если бы Светов решился продавать свои дома с торгов, то их общая стоимость вряд ли составила полную сумму, необходимую для уплаты долга. Так что в результате довольны остались все стороны: город получил необходимые здания, а Светов избавление от долгов, приобретя репутацию мецената и благодетеля.
Конечно, не все года и для Сониного семейства были одинаково прибыльными. Климат засушливого Заволжья давал о себе знать, несли потери и от пожаров, и от эпидемии чумы рогатого скота, но все же семья Сони смогла продержаться, да и дело развивать в разных направлениях.
В итоге, на сегодняшней день папенька Сони торговал зерном, имел на другом берегу салотопенный завод, а на этом – крупяной, мельницу, пару доходных домов для сдачи в аренду под жилье и магазины, семейную усадьбу в городе, загородную дачу на берегу Волги, да земельные участки для выращивания пшеницы и ржи, доставшиеся как приданное от маменьки.
Он был упитанным, но не полным мужчиной сорока пяти лет, в меру строгим, в меру требовательным, заботящимся о счастье жены и детей.
У каждой семьи своя история и своя судьба. И у них была своя, да не какая-нибудь, а самая настоящая романтическая сказка, закончившаяся, как и положено, свадьбой.
Это сейчас маменька Сони была статная женщина сорока трех лет с легкой проседью в густых темно-русых волосах, да небольшими морщинками вокруг голубых глаз, проявлявшимися, когда она улыбалась. Сохранившая красоту и девичью стройность, но уже умудренная опытом, да заботами, настоящая замужняя городская дама, Анна Михайловна.
Да, с подружками интереснее болтать про взбалмошную или не от мира сего родительницу. Но Сонина мама ничем особым не отличалась, нрава была спокойного, детей любила, мужа почитала и во многом с ним советовалась.
А давно, целых двадцать пять лет назад, жила девушка Аня за городом, в большом поместье, окруженным возделываемыми полями, со своими родителями. Голубоглазая, с длинной темно-русой косой, с гладкой кожей, и розовыми щечками, она не только обладала красотой, но и имела живой ум, интересовалась происходящим в мире и в своей губернии. Аня много читала, музицировала, любила долгие прогулки и могла сама управиться с любыми хозяйственными вопросами.
От матери, происходившей из бедной дворянской семьи, она унаследовала привлекательную внешность, а от отца получила живой ум. Научилась хорошим манерам, умению поддерживать беседу, вести дом и управляться с прислугой. Но в то же время старалась вникать в вопросы земледелия, в которые с охотой посвящал ее отец, не считая подобный интерес чем-то неуместным.
Девушка привлекала внимание окрестных юношей и мужчин постарше, всех, кто задумывался о создании семьи. Но никто не смог покорить ее сердце. Никто, кроме папеньки Сони.
Дочь крупного помещика выращивающего сельскохозяйственную продукцию, она познакомилась с папенькой Сони, когда он только начинал самостоятельные шаги на этом поприще. Молодые люди понравились друг другу, а их родители не увидели ничего, препятствующего браку.
Папенька ухаживал очень красиво, дарил цветы и приятные мелочи, мог сорваться неожиданно приехать, чтобы только ее увидеть, хоть на час. Молодые гуляли до зари, встречая рассветы, а один раз даже посетили театр, какую-то страшно модную премьеру. В итоге маменька сказала «да» и никогда об этом не пожалела.
Она получила все, о чем только может мечтать девушка: красивый дом, помощников по хозяйству, любовь и уважение мужа. Ни в чем не нуждалась, не знала отказа, она в то же время разумно пользовалась предоставленными ей возможностями и денежными средствами, и муж ценил в ней это.
Выйдя замуж в восемнадцать, она произвела на свет троих детей. Александра двадцати четырех, Соню, которой недавно исполнилось девятнадцать и Павла тринадцати лет.
Конечно, Анне пришлось поменять простор сельской местности на душный город, но в Самару перебирались многие, взять хотя бы Шихобаловых.
Иван Андреевич, тот с кого и пошла династия, появились в Самаре почти семьдесят лет назад. До этого семейство проживало в селе Наченалы Ардатовского уезда Симбирской губернии.
Крестьянами слыли зажиточными и имели салотопенный завод. Но в 1833 случился пожар, уничтоживший не только прибыльный бизнес, но и всю деревню. Не пожелали они оставаться на месте, да заново отстраиваться – отправились в далекий путь, в Самару, и сразу всем семейством в составе двадцати трех человек.
Денег своих не осталось, пришлось взять в долг. Много взять, аж двенадцать тысяч рублей, непомерная сумма. Соня читала, что нескольким годами ранее столько же получил Александр Пушкин в качестве гонорара за роман «Евгений Онегин».
Но не побоялся Шихобалов, верил, что может освоить и вернуть такую сумму. Да и правильно – в те времена сальный бизнес был в регионе одним из самых прибыльных, шутка ли – рентабельность не ниже сорока процентов. Что удивляться – окрестные степи представляли собой прекрасные пастбища, за землю платить было не нужно – до образования самарской губернии земли в Заволжье раздавали бесплатно, скот стоил дешево, так как его владельцы вели кочевой образ жизни и часто не продавали, а меняли своих баранов на спички, порох и соль.
На реке Урал и в киргизских степях закупались огромные гурты баранов и быков, которых гнали в Самару, и в процессе перегона животные значительно набирали вес на придорожных пастбищах.
Сало из киргизских баранов самарские купцы продавали в Европу, получая на вложенный рубль почти рубль чистой прибыли. На рынках Петербурга имелся большой спрос на сало, которое переправлялось за границу. Груз ехал долго, иногда несколько месяцев, но дело того стоило. Колка баранов давала не только сало, но и мясо, ливер, шкуры, кишки. Спрос с каждым годом повышался, особенно в Германии, и вместе со спросом росли и цены.
Доходы позволили Шихобаловым построить за рекой Самарой салотопенный завод и ряд подсобных производств к нему. Предприятие включало в себя сараи для забивки скота, сушки кожи, варни, склады и амбары под сало, соль, другие материалы. При заводе имелись двухэтажный дом, двухэтажный флигель, изба. Завод и сдача в аренду некоторых его помещений приносили в год более тысячи рублей серебром чистого дохода.
Но не все семейство осталось в сальном бизнесе.
Иван Андреевич отделил младших сыновей, Осипа и Лаврентия, оставив при себе только старшего – Николая Ивановича, с семьей которого и поселился в доме на углу Николаевской и Панской. Старший сын и отец развивали сальный бизнес, быстро разбогатев, перешли из крестьянского в купеческое сословие, и занялись благотворительностью – построили на Сенной площади церковь во имя Святой Троицы, которую любила посещать маменька Сони.
Уже потом начали торговать хлебом, и во второй трети девятнадцатого века, Шихобаловы стали считаться самыми крупными хлеботорговцами Самарской губернии, входя в товарищества по совладению и сами владели несколькими мельницами.
Не смотря на богатство, семья жила строгим порядком, не позволяя себе лишнего. Вставали в пять утра, затем приводили себя в порядок и шли на молитву. После этого приступали к выполнению дел, запланированных на день. Дети получали возможность погулять только после выполнения возложенных на них обязанностей.
После смерти Николая Ивановича, его сыновья разделили наследство. Емельян получил салотопенный завод, скотобойни, варочное и засолочное производство, кожевенные цеха, а также все подсобные строения. Остальным братьям достались дома в Самаре и разные по размеру части отцовского капитала, которыми они затем распорядились со своей степенью успеха. Матвей и Михей занялись сельским хозяйством, и в губернском городе бывали лишь наездами.
И Емельян Николаевич без дома не остался. Приобрел строение, фасадом выходившее на Алексеевскую, Саратовскую и Почтовую улицы у петербургского купца первой гильдии, потомственного Почетного гражданина Ковригина.
А, кроме того, пошел по стопам деда, став главным казначеем строительства Храма Христа Спасителя, кафедрального храма в ознаменование спасения Государя, после неудачного покушения на императора Александра II.
Государь, прибывший в Самару на пароходах общества «Кавказ и Меркурий» с многочисленной свитой и сыновьями Александром и Владимиром, впечатленный строительством, даже заложил камень в собор, который как раз строился. Для этого все подготовили: соорудили помост для следования по постройке, покрытый красным сукном, вывели часть стены на высоте человеческого роста с таким расчетом, чтобы камень находился внутри храма, на самом видном месте, а сам камень обтесали в виде большого кирпича. К нему подали серебряный молоток и другие принадлежности, употребляемые при каменной кладке.
Прибытие государя, естественно, было обставлено торжественно. Для этого в самое начало Заводской улицы, названной так по причине построенного на ней огромного спиртового завода купца Аннаева, туда, где стояла арка с двуглавым орлом, перенесли лучшую пристань компании «Кавказ и Меркурий». Мостки выстлали красным сукном, перила украсили дубовыми ветками, столбики – колосьями ржи и пшеницы, а сверху каждого – букет цветов или пучок ковыля. Под ноги положили белый песок, а по бокам установили многочисленные трибуны для публики. Но и их не хватило – все пространство вокруг, включая крыши домов и прибрежные воды, было заполнено людьми, некоторые стояли по пояс в воде, а вся река вокруг была усеяна суденышками. Когда государь прибыл, ему поднесли хлеб, соль, а купец Мясников, член династии рыбных монополистов, владельцев рыболовецких шаланд и торговых садков на Волге – трехпудового осетра в огромной лохани.
Братья Шихобаловы, Емельян Николаевич и Антон Николаевич, лично сопровождали монарха, показывая стройку. А Александр II возьми да и спроси Емельяна, на какие средства ведется строительство. Тот лукавить не стал, ответил, что на пожертвования. А правитель уточнил, что слышал, в Самаре много купцов богатых, способных на свои средства храм построить.
– Не знаю, Ваше Величество! – не моргнув глазом, ответил Емельян Николаевич.
– А ты сможешь? – спросил царь.
– Нет, Ваше Величество, тысяч сто могу дать – было ответом.
Хотя до сих пор ходят слухи, что сам мог построить, на свои.
Антон Шихобалов был не менее богат и хоть и начинал с продажи гусей на Алексеевской площади, со временем построил собственный завод по перетопке сала, который превзошел по размерам и мощности доставшийся брату Емельяну в наследство от отца. Антону Николаевичу принадлежало свыше двухсот тысяч десятин земли в Заволжье, сдаваемой частью в аренду, частью обрабатываемой самим владельцем. Именно он помог Фон Вакано и вложился в его пивоваренный завод, участвовал в развитии механического завода Бенке, построенного на пустыре напротив Струковского сада и выпускавшего самоходные суда. Все дела вел в крупном масштабе, практически не участвуя в мелких проектах, расчеты производил собственноручно, не имея приказчика.
А образование получил самое простое. Первые два класса учился в селе Дубовый-Умет Самарской губернии, находившемся в тридцати верстах от Самары, где существовала неорганизованная школа, располагавшаяся в церковной сторожке, занятия в которой вел дьячок. Предметы разъясняли такие: закон божий, русский и славянский языки, арифметика, чистописание и пение. Особое внимание уделяли религиозной, нравственной и патриотической стороне воспитания. Отец не стал отдавать ребенка на обучение в городскую школу, опасаясь влияния молокан, секты распространившейся в то время по многим школам Самары.
В девятнадцать лет отправился в Петербург, где познакомился с местными купцами-скотопромышленниками и стал одним из деловых партнеров фирмы «Хаббард и Ко», занимающейся экспортом сала в Англию.
Сало-то из России пользовалось в Европе огромным спросом, и Антон Николаевич сумел заработать. После чего принялся покупать пашни и пастбища на территории Самарской и Оренбургской губерний, перейдя на торговлю хлебом.
И не только семейство Шихобаловых переехало в губернию из другой местности.
Или Вакано, например, дальше всех до Самары добирался. Родился аж в Австро-Венгрии, в городе Козов. Не в простой семье – у австрийского дворянина Филиппа Вакано и баронессы Христины Стедлинг.
В Самару прибыл не сразу после рождения, а уже состоявшимся человеком: закончил коммерческую академию в Вене, поучаствовал в австро-прусской войне, уйдя добровольцем на фронт, вернувшись с войны, занялся пивоварением, обучаясь в Германии и Чехии, женился и обзавелся детьми. Супруга его, дочь вице-директора Императорского горнозавода, Анна-Мария-Варвара Пернич, через год после свадьбы родила ему первого сына, Вольдемара Альфреда Густава, а спустя еще два года, второго – Эриха Виктора Иоганна.
В Самару перебрались все четверо. Правда, приехав в Россию, Вакано сначала поработал в Петербурге с Морицем Фабером – представителем австрийского акционерного пивоваренного общества, а уже потом попал в далекий от столицы губернский город. Прибыв, обратился в Самарскую городскую управу с прошением о сдаче ему в аренду земли, занимаемой корпусами неработающего пивоваренного завода Буреева, для строительства на этой территории нового большого каменного пивоваренного завода. Просьбу удовлетворили, заключили контракт на аренду на девяносто девять лет с первого января 1881 года участка земли в две тысячи восемьсот квадратных саженей. А спустя два месяца завод уже выдал первую варку пива. В газете «Самарские губернские ведомости» было опубликовано сообщение правления Жигулевского завода о начале продажи «Венского» и «Венского светлого» пива самарского производства.
Ведь могут же люди и дело себе по душе выбрать, и не бояться ничего, хоть для этого и приходиться многие километры преодолевать и бумаги собирать, да просьб строчить! И отказы им не страшны. Не то, что Сашка, брат Сони! Ему что не предложи, тысячу причин найдет, почему дело не сложиться. И сам ничего путного не скажет, все твердит, что от отца дело переймет. Да понятно почему – там все налажено, работники свое дело знают, а сколько времени пройдет, пока под его неумелым руководством все в упадок придет – неизвестно. Да и покрасоваться перед женой хочется – вон каким человеком стал, суммами большими располагает, заводами руководит. Ну что за характер! Боится всего, а о славе и деньгах мечтает.
Вот и недавно обедали, а заодно и новости обсуждали.
Александр, прибывший в этот момент в гости и восседавший со всеми за столом, приободрился, услышав про сельское хозяйство и начал любимую «песню»:
– Самое верное направление. Земли вокруг много, зерно и в другие страны идет. И государь наш важность этого направления признал, – он всегда искал подтверждение тому, что дело отца будет жить еще много лет. Слушал и запоминал, что вокруг на эту тему говорили. Но читать и делать выводы не любил. А потому, по большей части повторял слова других купцов, которые уже отцом были слышаны, так как они часто оказывались в одной компании. Но Александра это не смущало, он продолжал выдавать чужие фразы и умозаключения за свои, произнося их с неизменным апломбом. – Учредили Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Проблемы сельского хозяйства обсуждать собираются и их решать. И неурожаи прошлогодние доказали, что важнее хлеба ничего нет. Не будет его, волнения начнутся, голод. Нет, я считаю, если чем и заниматься, то только зерном. Все купцы, кто побогаче, этому предпочтение отдают. А все остальные идеи глупые. Не будет пшеницы, все остальное тоже остановится – и заводы и суда, что по Волге ходят. И дорога железная ваша недавно построенная.
Соня во все глаза смотрела на брата. Уж кто бы говорил! Это он, который и читать, и писать позже нее научился. Реальное училище с горем пополам закончил. Да и сейчас ничем не интересовался, ни какими передовыми разработками, книги не покупал, да и периодику читал от случая к случаю. А новости эти и не новости вовсе, еще зимой дело было, газеты надо чаще просматривать!
– Все так, многие с пшеницы, – видя назревающий скандал, произнесла мама. – Но надо дальше двигаться. У многих кроме зерна иные направления имеются. Да оно и понятно, сельское хозяйство дело сложное, рисковое. Не забывай, неурожай – и вы с семьей останетесь без средств. Конечно, поможем, с отцовского благословения, но ведь не всегда возможность может быть.
– Права мать, – кивнул отец. – Негоже нам назад оглядываться. Много я работал, чтобы у детей лучшее будущее было, вперед надо двигаться, новые направления искать, жизнь на месте не стоит. Посмотри на сестру, хоть и девица и бывает необдуманное что предложит, а тоже многое понимает. Образованные пошли девушки. Это хорошо, подскажет мужу в случае чего.
– Почему необдуманное? – обиделась Соня. Уж она-то, в отличие от брата, была знакома с передовыми разработками и знала, как аргументировано возразить. – Вы вокруг посмотрите. За машинами будущее. Паровые мельницы давно работают, пароходы строят, зимой городская управа получила комплект машин от фирмы «Сименс и Гальске» для первой городской электростанции, договор заключила с «Товариществом братьев Нобель» о поставке самарскому водопроводу и Самарской электрической станции продуктов переработки нефти для отопления паровых котлов. Водопровод в дома тянут, центральную канализацию планируют, даже улицы мостят. Зерно необходимо, но ведь почти все в городе им занимаются. Нужно что-то новое. То, в чем ты будешь первым.
– И прогоришь! – припечатал старший брат. – Раз никто не занимается, не выгодно значит. Нет, пусть другие первыми будут, шишки набьют, а мы на них поглядим-посмотрим, стоящее дело или нет.
– Да пока ты раздумываешь, эти первые всю прибыль соберут, и ничего не останется! – в сердцах воскликнула Соня.
– Ничего, мне хватит, я за миллионами не гонюсь. Мне и одного достаточно. А машины твои ерунда! Вон тридцатого апреля в Засамарской слободе произошел пожар, почти все строения сгорели, и жилые дома, и пристани, и здание приходского училища. И еще неизвестно, от чего начался. Может тоже от каких-то там странных машин!
Соня замолчала, уставившись на брата. Так он мечтает о миллионе! Но ничего не делает. Неужели думает, что с его способностями сможет его так просто заработать?!
Взять вон того же фон Вакано. Не испугался даже из далекой страны к ним приехать и в управу просьбу оправить и ничего, теперь завод свой имеет. А начинал почти без денег. Семья больших капиталов не имела, деньгами помог самарский купец Петр Субботин, да и Фабер стал одним из учредителей завода.
В августе 1899 года Альфред фон Вакано официально стал подданным Российской империи, а Жигулёвский пивоваренный завод превратился в один из крупнейших в России, его продукция продавалась в пятидесяти девяти городах Поволжья, Урала, Средней Азии и Сибири. Пиво доставлялось даже в Персию!
Да и семья увеличилась, пополнилась еще тремя сыновьями. Это о чем-то говорит. Значит, имелась возможность семью большую иметь, а Сашка о чем думает, не понятно.
И на благотворительность Вакано хватало, не только семью содержать. Глава семейства отдал под детский сад для бездомных и сирот земельный участок вблизи Молоканского сада, у губернской земской больницы. Он обустраивал городские улицы, помогал бездомным и инвалидам, собирал коллекцию для Самарского Художественного музея. В его доме была открыта народная библиотека-читальня.
Построил газовый завод на территории Самары с условием подавать газ для освещения драматического театра и Струковского сада, да еще и целый год из своих средств оплачивал театру счета за газ, обустроил парк от Дворянской улицы вдоль Струковского сада к городскому водопроводу и проложил спуск по Александровской улице мимо Иверского монастыря с замощением их местным жигулевским камнем, укрепил холм дерном с помощью специальных спиц, вокруг театра разбил сад и установил ограждение.
И отдыхать человек умел! Первый яхт-клуб в Самаре был открыт в доме Вакано на Алексеевской улице, близ Дворянской. В помещении клуба регулярно проходили благотворительные вечера и собрания.
Размышления Сони были прерваны стуком в дверь.
Спустя несколько секунд створка открылась и вошла маменька. Девушка тут же поднялась, полная надежд – вдруг вопреки непогоде, они все же отправятся в путь.
– Пришла забрать твою шубку, – произнесла Анна Михайловна, тут же развеяв надежды Сони. – Надобно на хранение ее сдать Решетову. У него и условия имеются, камеры холодильные. Заберу, да горничной поручу снести. Давно уже объявление читаю в газете, да все с этими сборами забывается. Но ничего, не зря нас дождь задержал.
Тут Анна заметила расстроенное лицо дочери и поспешила добавить:
– Не переживай, время быстро пролетит, скоро и мы в путь отправимся.
Забрав то, зачем пришла, женщина поспешила в гостиную.
Да, жаль девочку, да ничего не поделаешь, с ее энергией и живым умом безделье самое тяжкое, что можно придумать.
Дочка получила хорошее образование, учителя разные к ней ходили, да и к книгам запрета не было. Много читала, много знает, до чего-то своим умом дошла, что-то подсказали. Дело ей надобно какое-то, да что ж такое изобрести, чтобы отца не гневить. Вроде все уже испробовала. И шила и вышивала, даже в мыло добавки разные научилась добавлять, на их мыловарне многое из придумок взяли и пользуются. Но все не то, размаха нет.
Отец говорит, замуж ей надо. Свадьбу сыграем, на мужа внимание переключит, а потом и дети пойдут. Да где ж жениха найдешь, чтобы и положение было и деньги, да и чтоб сердце не молчало. Многие в их кругу женятся, думая о капиталах больше, чем о чувствах, но для своей дочери Анна подобного не хотела.
У них с ее отцом все случилось как надо, и хоть так получилось, что капиталы семей соединились, сначала понравились они друг другу. Соня знает эту историю и другой судьбы для себя не желает. А где же найти такого, чтобы ей был под стать?
Еще и симпатичная девушка уродилась. Милое личико, ладная фигурка, глаза большие, да коса густая. Да, встречались и привлекательнее. Даже как мать, любящая безмерно свое дитя, Анна Михайловна это признавала. Но Сонечка своим живым характером и веселостью иной прелестнице фору даст. Ее красота была настоящая, живая.
На нее многие заглядываются, некоторые даже свататься приходили, но никто ко двору не пришелся. Да и сложно посиделки эти с кавалерами проходят. Как заведет разговор о чем, и отца не нужно рядом, вмиг дурака и пройдоху вычислит. А муж, охотник за приданным, или тот, с кем поговорить не о чем, ей не нужен.
Правда, девочка сама по этому поводу беспокойства не выказывала. Только в последнее время что-то часто грустила. Думает о чем-то своем, и видно, что переживает. Неужели любовь появилась, да страшная самая, не взаимная? Спросила бы Анна у дочери, да бесполезно, при всей живости, по части личного Соня была скрытной, многого не говорила, что на душе.
Спросишь, бывало: «Что случилось? Почему грустишь?»
Улыбнется в ответ, и на погоду сошлется или что вышивка не выходит, или добавки какие при мыловарении в задуманное не сложились, и сразу болтать о пустяках принимается, заговаривать. Словно увести хочет собеседника от дум о том, что на сердце у нее творится. Потому и не решалась спросить у дочери напрямик: «Нет ли кого на примете?». А ведь если бы девочка душу открыла, может и смогла бы ей помочь.
Не понимает девочка, что счастье оно такое. Не только к красавицам писанным приходит, да особам королевских кровей. Ко многим в дом заглядывает, а если кого и пропустит, так по недосмотру, и исправляется потом. Пусть не сразу, но исправляется. Иные и поздно судьбу свою находят, и счастливы потом, хоть поначалу и не с тем человеком жизнь проживали.