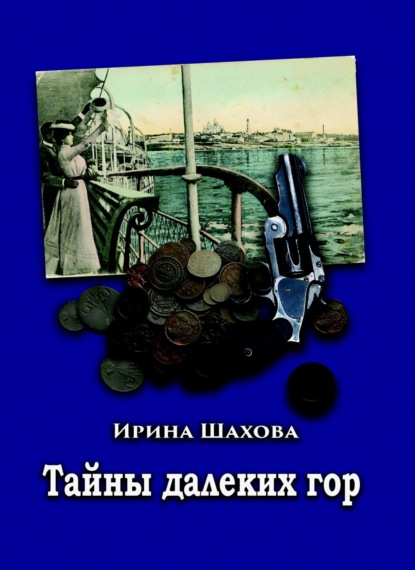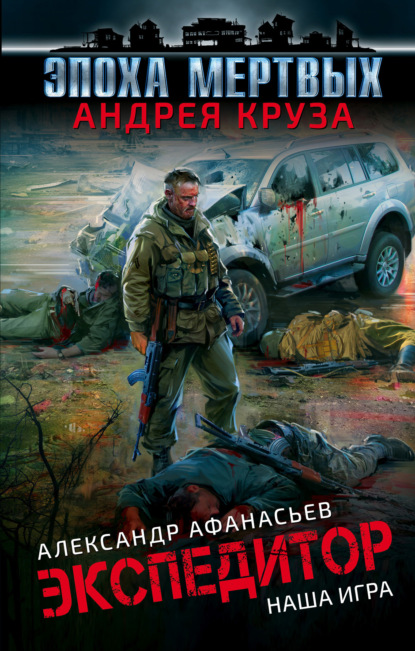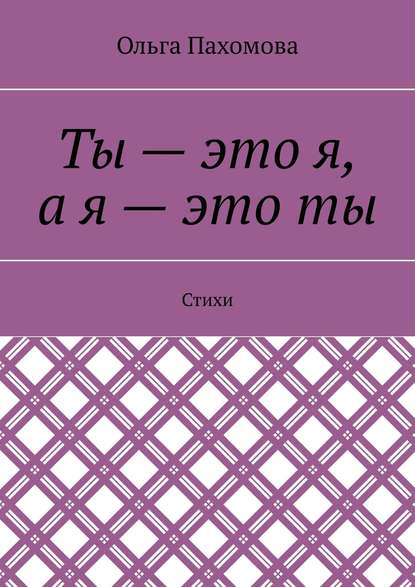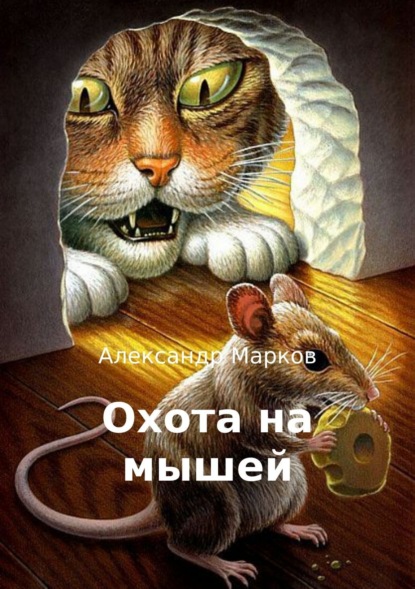- -
- 100%
- +
Пять лет назад на втором этаже здания Христензен работала Александровская публичная библиотека, зал Александра II и музей. Библиотека была популярным местом. Популярным до такой степени, что большинство посетителей там не сидели, а стояли, так как имеющаяся мебель не вмещала желающих, а сидели даже на витринах, окнах и карнизах.
На третьем обитала семья. Старший сын, Альфред, создавший сначала отделение Сарептского магазина, торговавшего хозяйственными товарами и охотничьими принадлежностями, три месяца назад, в начале февраля, открыл на Дворянской магазин, назвав его «Хозяйство и охота». А на его место, помогать отцу, встал Николай, слывший умелым дельцом, в отличие от брата, которого все считали разгильдяем, да к тому же красавец, один из создателей Самарского общества велосипедистов.
Но все это было не по душе Соне, у нее появилась мечта, и она ее тихонько лелеяла, веря, что когда-нибудь получится осуществить задуманное.
Глава 3
На следующий день после памятного разговора отец за обедом объявил, что все обдумал и теперь их путь лежит на судостроительный завод в Кострому. Заказать Александру корабль. А то мужчина уж скоро детьми обзаведется, а все никак ни на что не решится.
Соня молча крутила ложку, понимая, что этот корабль, скорее всего, будет постоянно простаивать из-за нерадивого управления Александра. Если, конечно, папенька не осерчает, и не возьмет все в свои руки, присоединив перевозки по воде к своему делу.
С того папенькиного заявления прошло уже полтора месяца и вот завтра часть семейства, в составе папеньки и Сашки отбывает на поезде в дальние дали, увозя с собой ее, Сонины надежды и чаянья.
Ах, как обидно! Да еще и поездка на дачу из-за этого отложилась. Хотели сегодня, да погода не позволила. А без главы семейства переезжать на лето за город, было не принято.
Дождь припустил сильнее, окончательно смыв надежды присоединиться к тем счастливцам, владеющим или снимающим дачу, которые отправятся на природу в ближайшее время. Стать одной из них теперь получится не раньше, чем через месяц.
Надо искать положительные моменты. Вот может поездка Александра от праздной жизни отвлечет. А то в последнее время, женившись, уж больно он до развлечений стал охоч. То надумает пирушку закатить по какому-нибудь поводу, то в соседнюю губернию отправится, да не один, целую компанию возьмет. И все за свой, то есть папенькин, счет. Хоть и скрывал все от родителей, деньги просил, говорил деньги дом снимать нужны, да прислугу хорошую нанять, да и долгов наделал. Но Соня знала, на что эти суммы тратятся, подружек много, сплетни быстро разлетаются.
И жену выбрал себе под стать. Красавица, спору нет и хитрая. А к делам не приучена. Даже платье заштопать не в состоянии, не говоря уж о том, чтобы обед приготовить. Родители постарались. Баловали дочь безмерно. Уродилась она хорошенькой, и потому ее обучением озаботились лишь в той мере, в коей оно позволило бы составить выгодную партию.
А если жених не бедный, к чему учиться житейским премудростям? Так и получилось. Сашка происходил из богатого семейства, был первенцем, и родители девушки посчитали, что все их чаяния сбылись. Только вот прогадали. Сонин отец, как узнал, на ком Сашка женится, сказал, что молодой муж сам теперь должен на хлеб зарабатывать.
«Девица не промах», как сразу окрестила ее Соня. Все нос от брата воротила, а как узнала, чей он сын, стала весьма благосклонно принимать ухаживания, а потом и вовсе взяла в оборот и больше не отпускала, пока свадьбы не добилась. Да, сразу понятно, кто глава в семействе Сашки.
Ну а в отношении себя Соня иллюзий не питала. На богатого, да красивого мужа не надеялась, но за страшного и глупого тоже не хотела идти. Как только она пришла к подобным выводам, осознала, что жениха найдет не скоро. И права оказалась. Все подружки давно замужем, у кого-то и дети скоро появятся, а она одна. Не лежала душа к тем, кто сватался.
Каждый восхвалял ее стать и хозяйственность, но Соня все прекрасно про себя знала, и верить им не спешила. Ну не может человек, пообщавшись с ней лишь пару часов, а иногда узнавший о ней лишь от знакомых, сразу проникнуться большой симпатией.
Возможно, если бы она испытывала хоть к кому-то из ухажеров чувства, их не совсем искренний интерес ее бы не остановил. Но душа и сердце Сони молчали и все приходившие неизменно получали отказ, если осмелились задать вопрос. Либо, если до предложения не доходило, вполне понимали намеки и больше с подобным в дом не являлись.
Соня все ждала, что с ней случится что-то подобное, как у мамы с папой, но годы шли, ничего не происходило, и потому она решила, что сама себе будет опорой и обеспечит то, чего хочет. А что? На свете много женщин, у коих бизнес свой имеется, чем она хуже?
Ах, если бы папенька позволил, она бы развернулась! Купила бы несколько машин, которые могут по дорогам грузы перевозить. Сняла бы небольшое помещение, где организовала конторку, наняла служащих, чтобы желающие могли прийти и заказать перевозку. А потом, может, и завод бы поставила, чтобы строить их поблизости, а не выписывать из-за границы.
В городе имелось предприятие для постройки кораблей, чтобы товары перевозить по Волге. Но зимой и весной, такая возможность пропадала. Построенная недавно железная дорога проходила не во все уголки. И Соня придумала выход.
Но ее семья хоть и была прогрессивной, но не настолько, чтобы позволить девушке, да еще незамужней дело свое открыть. Получить благословение папеньки на подобное нереально. Хотя, если подумать, двадцатый век на дворе, а он все живет прошлым!
Интересно, а если она останется старой девой, родители позволят ей открыть свое дело? Должна же она на что-то жить.
За размышлениями, Соня не заметила, что дождь почти прекратился, наделав изрядно луж. Дороги за городом тоже наверняка размокли, нечего и думать о путешествии. Даже прогуляться, похоже, получится не скоро.
Девушка отложила книгу. Нужно чем-то занять руки, иначе кругом голова пойдет. Открыв ящичек стола, девушка достала несколько ящичков и оглядела свои богатства. Засушенные розовые лепестки и лаванда, цветки календулы и ромашки, высушенная молодая крапива и полынь, корочки лимона и мандарина. Розовая вода и масла, разнообразные ягоды – все, что могло смягчить, увлажнить, напитать кожу. Разнообразные ягоды, веточки и листик – желтые, оранжевые, багряные – это уже для красоты, пользы от них никакой. И кусочки мыла. Вот и все роскошество – то, что она использовала, чтобы сварить свой, неповторимый кусочек мыла.
Конечно, не сравнить с мылом из петербургской лавки Рузанова – «Royale de Thridance», «Cold cream of roses», «Muse tonkine», Savon aux amandes des jaux amandes des peches», виндзорские сорта, но тоже ничего.
А истинной любовью Сони были духи.
Экзотические восточные запахи «Шампакка» и китайских «Меляти» фирмы «Виктория» в Париже пробуждали воображение о неведомых цветах и растениях, далеких землях и необычных путешествиях. Девушка пыталась воплотить запах и в кусочке мыла, но подобрать композицию не получалось. Виной тому, по всей видимости, были ингредиенты, приобрести которые можно было только в экзотических странах или отсутствие таланта у составительницы. Да, Соня была самокритична и допускала, что она многого не может и не умеет.
Крупнейшие парфюмерные фирмы открыли в столице специализированные магазины. На Невском проспекте в домах восемнадцать и тридцать. Сама Соня не бывала, но папенька, бывая по делам в столице, всегда привозил дочери какую-нибудь баночку, из новинок, и не обязательно женскую. Ее любопытство распространялось на все запахи.
Скопилось их с десяток, «Гелиотроп», «Пао-роза из Синтры», «Парижская выставка», «Империаль». Среди них был даже набор, созданный специально для России придворным немецким парфюмером Густавом Лозе «Русский букет», с туалетной водой, туалетным мылом, душистыми мешочками-саше с тем же запахом.
Рассмотрев имеющиеся духи, Соня нанесла на кожу крем, а потом, перебрав материалы, выбрала нужные – те, сочетания которых еще не испытывала и спустилась в кухню, чтобы сварить пару кусочков мыла. Она пробовала составлять и лосьоны, но мыло ей нравилось больше.
Проведя над кастрюльками около получаса, девушка вдруг увидела из окна кухни, что светит солнце, а тропинки почти просохли. Обрадовавшись, она тут же собрала скарб и отправилась в комнату за накидкой, чтобы пройтись.
Накинув на платье шемизетку, все же на улице могло быть свежо, Соня спустилась вниз, чтобы отыскать маму и предупредить, чтобы ее не искали.
Анна Михайловна оказалась в столовой, где давала распоряжения служанке, расставлявшей на столе посуду.
– Так, Татьяна, и еще один прибор – вот сюда, – хозяйка указала место на столе и повернулась к дочери, – хорошо, что ты пришла Соня, я как раз хотела отправить к тебе кого-то, чтобы предупредили, что нужно приодеться к ужину.
– Но я и так одета, хочу прогуляться, недолго, скоро вернуть.
– Нет, дочка, для прогулок не время, тебе необходимо отдохнуть, чтобы на ужине выглядеть свежей.
– Но я совсем не устала.
– Вот и прекрасно, побудь дома, чтобы прогулка тебя не утомила, а вечером сможешь посвятить все внимание гостю.
– К нам кто-то придет?
– Да, весьма интересный молодой человек.
– Но мама… – начала Соня и осеклась.
В возможность, что сегодня их посетит человек, который станет ее женихом, она не особо верила, тем более все, кто мог, уже к ней приходили. И вот из-за неизвестного мужчины она вынуждена сидеть дома, чтобы не показаться усталой. Какая несправедливость!
– Что-то не так? Не думай, мы тебя в плохие руки не отдадим, подберем жениха. Чтоб и не глуп и при деньгах.
Соня хотела сказать, что средства не самое важное – жизнь штука переменчивая, сегодня у жениха капиталы водятся, завтра нет. Но благоразумно решила промолчать.
Да, достаток жениха дело важное, но и свою копеечку надо иметь. Вдруг будущий муж окажется прижимистым, сколько уж случаев таких. Вот вышла замуж Татьяна, подруга ее по детским шалостям. Через дом раньше жили. Всем жених хорош был. И при финансах и рангу не последнего, да ленив оказался. Как женился, все больше дома заседал, за делом не следил, на работу ходил не часто, так денежки и кончились.
Да и вообще, со свадьбой торопиться не следует. С будущим супругом нужно пообщаться подольше до помолвки, приглядеться тщательнее, в разных ситуациях проверить. А то попадется какой-нибудь, только горазд пыль в глаза пускать, а сам ничего собой не представляет.
– Просто не понимаю, почему нельзя чуточку пройтись, – вместо этого расстроено протянула девушка, – пока еще погода позволяет. Когда начнется лето, в городе не погуляешь.
Анна Михайловна внимательно взглянула на погрустневшую дочь и произнесла:
– Может ты и права, и прогулка пойдет на пользу.
– Хорошо, я недолго, – кивнула Соня и быстро выскользнула за дверь, чтобы маменька не передумала.
Путь ее лежал к самому началу города, туда, где когда-то была крепость, а сейчас, на Казанской улице под номером три, стоял один из самых красивых домов Самары – особняк Субботиных-Шихобаловых.
Так как улица выходила на полицейскую площадь, которая была окружена хлебными амбарами, тут разрешалось возводить только каменные постройки. Большинство домов были купеческими, а для строительства требовалось специальное разрешение городских властей.
Каменные строения были более прочными, все это прекрасно понимали, но, несмотря на это, деревянных домов оставалось еще очень много, в основном в них проживали крестьяне и мещане. Примером служили дом временно-поверенного крестьянина Гальянова, дом крестьян Дюковых и мещанина Борисова. Купцы предпочитали дома каменные либо дома с каменным первым этажом.
Дом Субботиных-Шихобаловых был возведен на месте старого снесенного дома, построенного по типовому проекту в пятидесятых годах девятнадцатого века, а позднее чуть перестроенного по инициативе его владельцев.
Сначала Екатерина Васильевна, жена Семена Устиновича Субботина, в 1861 изменила лицевой фасад со двора существующего трехэтажного дома, перестроила кухню и возвела во дворе пристройку и амбар.
А в начале июля 1878 года уже и достопочтенный Петр Семенович подал прошение на строительство на участке трех каменных служб. Богатство семьи росло и требовался новый особняк, соответствующий доходам семьи. А они были не маленькими.
В то время уж пять пароходов и сорок барж Субботиных самыми первыми уходили к Рыбинской бирже и возвращались оттуда с самым дорогим зерном – белотуркой, дающим в сечении так называемый «леденец». А во время строительства дома заработала и паровая мельница Субботиных.
Старый дом был снесен, и началось строительство. Но сначала в 1877 году Петербургское общество архитекторов объявило конкурс, с выплатой премий трем лучшим проектам, объявление о котором было напечатано в журнале «Зодчий. Конкурс выиграл Виктор Александрович Шретер, представивший проект в виде флорентийского палаццо пятнадцатого века в сочетании с русским кирпичным зодчеством, а два проекта – архитектора Леонова, и архитекторов Меллина и Пщолко получили премии без права постройки.
Проект был выгоден тем, что не открытая кирпичная кладка стен позволила избавиться от штукатурки, требующей периодической окраски и ремонтов, что было удобно Субботиным, при их бесконечной торговле и сдаче амбаров в аренду. При этом так называемая, «русская кирпичная кладка» создала интересный художественный эффект: основой архитектурной композиции стала естественная фактура кладки из высококачественного кирпича, красный цвет которого был оттенен штукатурными деталями, к примеру – круглыми окошечками и гранитом цоколя. Второй этаж снаружи был украшен грифонами, ажурной лепниной, а на крыше примостились две изящные человеческие фигуры.
Строгая симметричность фасада, смягченная декоративными вставками и лепным фризом, неизменно привлекала взгляд. Именно сплошная рустовка фасада и соответствовала традиции флорентийского ренессанса пятнадцатого века, пусть и с более простой и дробной трактовкой деталей.
На первом этаже находилась контора, на втором покои Андрея Субботина, его жены Елизаветы, их детей, кабинет и спальня Петра Семеновича.
Соня бывала внутри и неизменно приходила в восторг от роскоши внутреннего убранства. В здании имелось пять лестниц не похожих друг на друга. Парадная – из мрамора, кованная – с первого на второй этаж, деревянная со второго на третий, и две попроще – железобетонные – в подвал и из подвала на чердак. Мраморный камин, печи с художественной керамикой, резные двери из ценных пород дерева, узорчатый паркет и потолки с лепниной – все говорило о том, что ты находишься в доме богатых купцов.
Шикарные внутренние апартаменты выполнены в разных стилях – главный зал с парадной лестницей – в стиле неоренесанс, гостиные – в силе барокко, столовая – в русском стиле, женские будуары в стиле рококо.
По периметру здания, в некотором отдалении находились амбары, дальше пристани. И над всем этим возвышался чудесный особняк Субботиных.
Но, как часто бывает, счастье не длилось вечно. Неурожаи, финансовый кризис и суд с купцом Аржановым подорвали благосостояние семьи.
Более десяти дет назад с молотка был продан особняк Субботиных на Казанской и почти всё дело Антону Николаевичу Шихобалову. Петр Семенович Субботин уехал в Санкт-Петербург, а вернувшись три года назад, почти сразу умер.
Новые хозяева сдавали особняк разным предприятиям, в том числе под фирменный магазин, склад и контору местного отделения коньячно-водочного магната Шустова.
Но дух былого великолепия витал около этого дома, и Соня любила не спеша проходить мимо и любоваться роскошью, созданной руками человека.
А история с Аржановым была необычной и за ней следили многие.
Аржановы, одна из самых известных купеческих фамилий, по размеру бизнеса считалась второй в губернии. Очень крупные хлеботорговцы, ко второй половине девятнадцатого века их земельные угодья составляли более ста пятидесяти тысяч десятин, входили в Товарищества по совладению и сами владели несколькими мельницами.
Первым в Самаре начал дело Илларион Аржанов. Отставной уральский казак, он перебрался в столицу, и, как и многие в то время, открыл на другом берегу реки Самары салотопенный завод, стал заниматься торговлей, и потихоньку приобретал земли в Самарском уезде. Построенный салотопенный завод приносил небольшой доход.
Но спор у Субботиных вышел не с ним, а с Семеном Ларионовичем Аржановым. Да, как и другие представители торгового сословия Самары, купец Аржанов занимался продажей сала и хлеба. Имел семью – жену Веру Яковлевну, дочь есаула, с которой венчался в старообрядческой церкви, двух сыновей – Петра и Лаврентия. Но помимо торговли, владения землей, паем в акционерном пароходном обществе «Кавказ и Меркурий», части собственности теплохода «Двенадцатый год», занимался еще и выдачей ссуд под проценты и залог имущества.
Да так все подстраивал, что ничего из хорошего имущества, попавшего в залог, к владельцам не возвращалось. Одно слово, ростовщик.
Купец сумел заполучить паровые мельницы Субботина и Зворыкина. Но сам молоть зерно и не планировал, его целью было перепродать их. И ведь не боялся ничего, другой бы грехи свои искупить пытался, помогал бы нуждающимся, но Аржанов был не таков. Кто близко знаком не был, меценатом его считали, вспоминая, как он на нужды Константиновской богадельни тридцать тысяч рублей пожертвовал. Да только не от чистого сердца все шло, а больше по принуждению.
Петр Семенович Субботин потребовал с Аржановых неустойку за невозврат в установленный срок мельницы. Отец и сын пришли к городскому голове Алабину и сообщили, что мельницу передадут, но только без уплаты неустойки. А Субботин отказал, сказал главе: «Если бы я был неисправен, Аржанов не пощадил бы меня; я не воспользуюсь неустойкой, а употреблю ее на пользу тех, которых разорил Аржанов». Ну и посоветовал Алабин Аржановым пожертвование сделать, чтобы оппонента смягчить, да от неустойки избавиться. Только отказали они ему. А потом все же перевели пожертвование, сообщив, что делают это «…в память деда, бабки, отца, матери жертвователя его самого и жены его». То ли совесть проявилась, то ли советом все же решили воспользоваться.
Аржанов даже судился с купцом Петром Семеновичем, обвинив его в подлоге платежной расписки. Но все городское общество выступило на стороне Субботина, который был известен как очень порядочный человек. В итоге суд закончился неудачей для Аржанова. Отношение к семейству изменилось лишь в начале девяностых годов девятнадцатого века, когда дело перешло к сыновьям Семёна Ларионовича. После смерти отца наследники решили изменить способ вести дела и начали помогать нуждающимся.
Дом сына Аржанова сейчас стоит по улице Казанской, шесть, почти у самой Волги. С домом связана интересная история. Когда двадцать лет назад там шел ремонт, его вела семейная бригада Челышевых. После обеда строители спали. А один парнишка, то был Миша Челышев, читал книжку. Удивился купец. Зашёл другой раз – снова видит его с томиком. В третий раз зашёл. Потом позвал мальчишку к себе в контору, поговорил с ним, да взял и подарил ему десять тысяч рублей. На эти деньги его отец открыл своё дело, во главе которого по совершеннолетию и стал Михаил. Михаил Челышев.
Ну а Сонин путь лежал через тихую Николаевскую, где располагался родительский дом, Саратовскую, Воскресенскую, в обход Александровской площади и особняков на Дворянской, и, наконец, Казанскую.
Затворив дверь, девушка оказалась во дворе. Семейный дом представлял собой каменное, как диктовала современная мода, строение. Два этажа, лаконичной формы. Ничего лишнего, но все, что нужно – имеется. Семья размещалась в доме без проблем, даже прислуге места хватало.
Когда-то Самара была деревянной, но пожары уничтожили былую красоту и сейчас все, у кого имелись деньги, возводили дома из кирпича. Желание уберечь жилье от огня было тому причиной. Город выгорел дотла, но смог найти в себе силы начать жизнь заново. Так жалко было терять то, что строилось столько лет, но ничего уже изменить нельзя.
Около дома Субботина-Шихобалова давно, когда его еще не было даже в проекте, около этого места стояла деревянная крепость Самара, а за Самаркой проходила граница Руси.
После падения Казанского ханства все земли перешли к Москве, а за рекой начиналась Ногайская Орда. Потому и была возведена крепость – для защиты новых земель от набегов кочевников. Ногайцы довольны не были. Несколько раз, появлялись из-за реки Татьянки, названной так от слова «Тать» – вор – и пытались сжечь крепость, грабили купцов, брали жителей в плен.
Позже, уже в семнадцатом веке, Орду разгромили киркизы, признавшие власть русского царя. После чего самые смелые казаки перебрались за реку и основали там Засамарскую слободу. Место необычное, покрытое в половодье водой. Когда разливалась Волга и Самарка, по слободе можно было придвигаться только на лодках. Даже на Троицу в церковь, наполовину затопленную водой, прихожане добирались на судах.
А ведь если подумать, даже сто лет назад Самара была не слишком ухоженной, сплошь лужи и пустыри. Да и домов всего ничего.
По установленному «геометрическому» плану 1782 года предусматривалось создать пятьдесят жилых равновеликих кварталов с размещением в каждом из них в среднем по шестнадцать равноценных по площади дворовых усадеб. Таким образом, уездный город должен был состоять примерно из восьми сотен дворовых участков.
А обновления были необходимы после получения в 1780 году статуса уездного города. Самара еще семьдесят лет имела вид типичного уездного захолустья из дальней российской провинции, застроенного в основном деревянными одноэтажными домами в центре и трущобами бедноты на окраинах. Все улицы были немощеные, глинистые или песчаные, и лишь кое-где оборудованы деревянными тротуарами. Приходившими в негодность при любом изменении погоды. Передвигаться по ним пешеходам было неудобно.
В 1804 году в Самаре было всего семьдесят домов с двумя торговыми площадями – Александровской и Алексеевской, где несколько раз в год проходили большие ярмарки, но строения в те времена все еще оставались в основном деревянными. До середины девятнадцатого века улицы города, даже в центре, вообще никак не освещались, и потому по ночам все погружалось в кромешный мрак.
Уход за улицами и устройство тротуаров немного ощущались лишь в той части, где располагались присутственные места: городническое правление, уездный суд, дворянская опека, уездное казначейство с кладовыми для денежной казны, а также городской архив.
Тут даже некоторые здания были каменными. Из-за этого центральный квартал по старинке именовался «крепостью», хотя последняя земляная крепость в Самаре была разрушена почти за сто лет до этого. Здесь же располагались кордегардия для караула, цейхгауз военно-инвалидной команды, казенный провиантский магазин, винный подвал и тюрьма для преступников.
Вне этой крепости, в двадцатых годах девятнадцатого века, было семьсот семь домов горожан, девять торговых лавок, кузницы, мясная, рыбная, калашная, хлебная, амбары над рекой Самарой. Торговых площадей было две – верхний и нижний рынок. Продажи осуществлялись только по воскресным дням, торговали крестьяне из окрестных селений – хлебом и всякими жизненными припасами. На нижнем – только в летнее время, на верхнем – круглый год.
Около крепости теснились маленькие домишки в два окна – третьим было так называемое волоковое. Крылись эти лачуги соломой, а вокруг них стояли обыкновенные деревенские плетни. По краю Троицкой площади тянулся глубокий овраг, за которым начиналась дикая степь.
На месте Алексеевской площади находилось озерцо грязной воды, высыхавшее лишь в большую засуху. Лишь во второй половине столетия эта площадь стала постепенно застраиваться лавочками, лавками, ларями, составлявшими гостиный двор. И лишь когда на ней поставили памятник Александру II, площадь была выровнена, замощена и засажена деревьями.
Торговая Воскресенская площадь была вечно покрыта лужами и грязью, а в базарные дни еще и завалена всяким мусором, оставшимся от торговцев. А за ней – пустырь, изрытый буераками. Место обитания для целой стаи полудиких собак. Лишь по краю оврага тянулись редкие хибарки местной бедноты. Недалеко от нее, если двигаться к Волге, возвышалась огромная земляная насыпь, которую было ни обойти, ни объехать.
Улицы, идущие вдоль Волги, пересекались поперечными линиями, называвшимися «пробойными» или «проломными». Из-за характера их возникновения – улицы приходилось прокладывать сквозь уже сложившуюся застройку. Первой такой улицей стала Успенская, чуть позже возникла улица Духовная, потом Старо-Самарская и Воскресенская, а еще позже Заводская, Панская, Предтеченская, Москательная и Алексеевская. Подобная планировка позволяла видеть красоту реки.