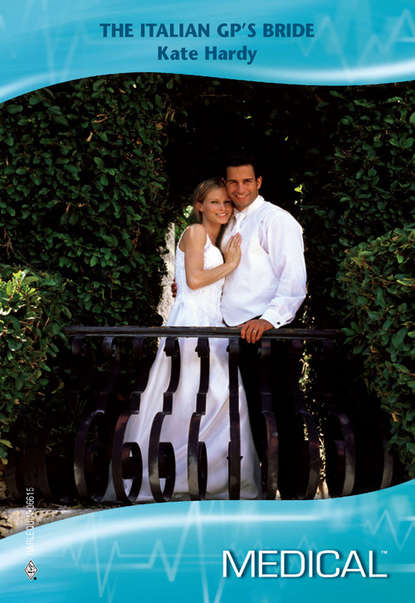Опасный привал

- -
- 100%
- +

© Шарапов В., 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026
Пролог
Механик-водитель танка, не отрываясь от перископа, сипел:
– Адский мороз. Кто-нибудь, подышите, мои глаза примерзли. Ни черта не вижу. Метель.
– Мрак и туман, – пробормотал командир, открыл люк, вылез на верх танка, предварительно приказав замолчать.
– Молчу, – отрапортовал механик-водитель и тотчас замычал на мотив популярной сопливой песенки: – Молча ждать – кисло. Молча ждать – грустно… – И толкнул ногой радиста: – Инженер! Как, ты говоришь, называется это, что впереди?
Радист, фон Вельс – Александр Серж, по сути и образованию – инженер, ответил:
– Русские называют это гидроузлом. А конкретно это – водосброс.
Механик, баварец, попробовал выговорить:
– Опять этот ваш водо-…водосброс-… лина! – И сплюнул: – Водозбрызг!
Фон Вельс произнес по слогам, чисто, как на семинаре в Альбертине:
– Во-до-сброс, Кулемский гидроузел, – и продолжил по-русски: – Гидротехнические сооружения – в частности шлюзы, плотины, водосбросы – требуют особого контроля, с тем чтобы избежать подтопления, разрушения объектов и обеспечить безопасное шлюзование по всему маршруту…
Механик, забыв о том, что «примерз», дернулся, глянул с ужасом и недоверием. Впрочем, мужественно попытался повторить:
– Шу… шу-за-ва-ни… шль-ю-цовани! Химмельхеррготт. – Он щелкнул толстыми пальцами, снова толкнул: – Пруссачок, пива.
– Зачем? – спросил Александр.
– Рот прополоскать, от этих звуков. – Поразмыслив, решительно поправился: – Нет, водки! Русской. У тебя есть?
– Нет.
Командир сверху скомандовал:
– Отставить. Ждать сигнала.
Механик, оставив битву с русской фонетикой, переключился на критику немецкого командования:
– Сигнала, сигнала! Околеем тут до сигнала. Сейчас масло замерзнет – и встанем тут, как… Инженер, как это? Снежная могила?
Фон Вельс поправил по-русски:
– Су-гроб.
– Я и говорю. Зугроб. Снежная могила!
«Да сколько можно ждать этого сигнала? Еще немного без движения, под снегопадом и метелью – и будет в точности по его пророчеству».
Сзади остался этот чертов городишко с глупым названием. Куо-ли-маа. Лихо влетели в него, без боя, пронеслись по пустым улицам, да и какие это улицы – сплошные горы и овраги. И тотчас, без перехода, ухнули в низину. И на этом болоте встали, ожидая невесть какого сигнала. Зачем он? Ведь вот он, канал, а за ним почти тотчас, без перехода, нависает господствующая высота. Надо наступать, ведь где-то в тумане – говорят – таится какой-то русский бронепоезд, уже спешат на подмогу свирепые сибирские головорезы, которые не вязнут в снегу и питаются сырым мясом.
А ведь до Москвы – сорок пять километров, камнем добросить можно. «К Рождеству будем там, отогреемся. Как это по-русски: на печи, на полатях. Чтобы было тепло, как под маминой пуховой шалью». Нет! Как у камина в отчем замке в Канальхофе, Восточной Пруссии, – пусть не замок, а охотничий домик, зато уютный, пахнущий пихтой, с окнами на недостроенные шлюзы Мазурского канала. Александр с отцом приходили туда с чертежами, фон Вельс-старший строил воздушные замки, куда грандиознее родового: «Мы пустим воду! Она даст новую жизнь нашей земле!» Остались нетронутыми бетонные громадины, поросшие мхом и сорняком, немой укор мирным планам и мечтам. А работа фон Вельса – давать людям воду, жизнь. Но на войне больше нужны солдаты, чем гидротехники.
«Черт. Стоим. Пусто. Метель, дальше руки ничего не видно. Танк коченеет на морозе, люди коченеют в танке, стынет и масло, и кровь. Вот-вот – и точно зугроб. Отставить». Александр встряхнулся. Он уже размышлял, не ужаснуть ли мехвода фразой «Кругом вьюжные заносы сугробов», но сверху прозвучала наконец команда:
– Марш, марш!
– Ага, ща поехали, – отозвался механик вместо уставного «есть».
Танк с трудом и облегчением тронулся, лязгая подмерзшими траками, помчался по низине, снежной, гладкой, как простыня, – вперед, вперед! Пусть звенят поджилки от мороза, но танк, лихая консервная банка, несется, екая мотором как лошадь селезенкой и поднимая фонтаны грязного снега, то по обледеневшему болоту, то по заливным лугам. Видны сквозь метель какие-то бараки, вышки, постройки – вроде бы какой-то их концлагерь, что обстреливали вчера.
Впереди, где поднималась дамба и виднелся убогий варварский шлюз, треснуло. Странно тихими показались эти взрывы – один, второй, третий. Как если бы кто-то, свихнувшись, вздумал глушить рыбу в декабре.
Разве это может остановить танковую лавину? Но метель распахнулась как занавес – и все увидели: медленно, горбами накатывается навстречу, вздымается вода. Текла, лилась черная вода при минус тридцати, месиво из льда, грязи, обломков деревянных строений. Сначала казалось, что она надвигается еле-еле и сейчас иссякнет, даже не дойдя до них. Но она хлынула в низину, внезапно мощно ударила в борт машины. Танк развернуло как игрушечный, ледяное месиво хлестнуло по смотровым щелям. Ослепший мехвод сквернословил, плюясь, командир орал: «Назад! назад!», скрежетала коробка. Танк пытался дать задний ход, но гусеницы буксовали на нарастающей ледяной каше. Заливало машину – и вода с облегчением тотчас останавливалась и замирала.
Вот как чувствует себя белье в стиральной машине. Александр как дурак закрывался руками, боясь хлебнуть ледяной воды (или простыть?!), и… обязательно утонуть прямо… прямо в танке. Но его дернули за шкирку – не вверх, а в преисподнюю. Это механик, добрая душа, волок его через свой аварийный люк в днище.
Они выскочили на поверхность из ледяной воды, отплевывались, и слюна тотчас стыла, раздирая губы. По всему полю барахтались в гибельной жиже танки, из них выскакивали люди, корчась как горящие, мокрая одежда немедленно примерзала к броне, они рвались вперед и падали. Насколько можно было видеть сквозь метель – вмерзшие в землю танки, причудливые, торчащие где как. Кое-где, умирая, бесполезно взревывали двигатели – вой стоял на Кулемских болотах.
– Бежим, бежим, – мычал механик.
– К-куда? – У Александра коченели мышцы челюсти, гортань, но упрямый баварец то ли стонал, то ли сипел и тянул его за собой, и они-таки выбрались из залитой водой низины. Невольно обернулись и чуть не превратились в столпы: комбинезоны замерзали, сковывая движения.
Тут снова закружила метель, и вдруг стало ясно, что городок-то не пустой. Грязная волна шла на дома, из них выскакивали люди, все копошилось как муравейник. Александр видел, как какая-то баба поднимает над головой вопящего ребенка, потом волна накрыла обоих, схлынула – и никого не осталось. Из затопленных сараев выплывали куры, болтались и вмерзали в воду. Выла, захлебываясь, собака – наверное, на цепи, не могла освободиться.
– Потоп, – просипел Александр, – все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло, от человека до скота, и птиц[1]…
Механик вдруг захохотал, хрипло, будто каркая:
– И гады, инженер! Мы гады, мы выжившие лягушки! – Он тыкал пальцем туда, где среди льда корчились их товарищи, пока лед не сковывал их окончательно.
Почему-то наступила тишина, лишь издали доносился грохот боя, и за плотной завесой метели снова не было видно ни зги. Последняя истерика истощила механика, он прошел совсем немного, на прямых ногах, и так же, не сгибая колен, прямо, как бревно, рухнул в ноздреватый снег.
Александр, скрежеща комбинезоном, упал на колени, пытался его растормошить, поднять, волочь, но понял, что это бесполезно. Дальше он бежал уже один. Ну как бежал – ему казалось, что бежал, на самом деле еле переставлял ноги, сдирая кожу о заледеневшие штанины. А в голове металось комичное: «Да это просто Кранц![2] В июне. Сейчас бы коньяку и под плед…» Мысли путались, ресницы слипались, он брел вслепую, и тут прямо из снега выросли двое. Они копошились с какими-то проводами у насыпи, протягивали, переругиваясь, чиркали спичками. Такие толстые, белые, одетые… «Как это называется? Ту-луп. По-лу-шу-бок. ШУБА».
Тепло!!! Добыть, любой ценой добыть! Терзать зубами, душить руками, сдирать одежду вместе со шкурой!
Он бросился на них – то есть потащился, сгибаясь по режущим ветром. Может, услышав звон льда, которым он оброс, русские обернулись, показали свои свиные хари, красные, распаренные – утрудились, вспотели! Один небрежно поднял автомат, Александр понял, что сейчас все кончится и не видать ему тулупа. С трудом задрав руки, он ревел и пер на них, рискуя нарваться на верную очередь, – но вдруг невесть откуда грянул выстрел, затем второй. Русский упал, упал и второй, и по спинам, по маскхалатам начали расплываться алые пятна.
Уже на четвереньках фон Вельс ринулся к ним, набросился, снимая тулуп с одного, одновременно выворачиваясь, выползая из собственного ледяного комбинезона-гроба, влезая в чужую теплую одежду.
Мертвецы остались на снегу, а Александр, стуча зубами, переоделся – и лишь потом понял, что палят уже по нему, что вокруг на снегу места живого не осталось, всё взлетали фонтаны снега – а ему хоть бы хны. Он, блаженно отходя в тепле, ощущал себя на небесах, где ни болезни, ни печали. Но автомат у одного мертвеца все-таки забрал, прикинул, откуда стрельба, – и шутя, не глядя, благодушно даже выпустил очередь.
Кто бы спросил его: зачем? Ведь наверняка это свой, раз лупил по русским. Да кто знает. Он просто стрелял в ответ, не целясь, наугад. И попал. Послышались стоны и хныканье, точно ныл подстреленный заяц. Александр заглянул за снежный навал – там корчился мордой вниз какой-то тощий человек, плакал, выл, кусал снег, оставляя кровяные следы. И ругался… по-русски?!
«Русский? Стрелял по своим?!»
И был он не один. За него цеплялась, тонко скулила какая-то укутанная баба, скорее девчонка, платок сбился, торчали смерзшиеся кудряшки, на руках – сверток. Вокруг раненого и бабы, спаявшись как комья в снежной крепости, торчали еще несколько сопляков – не поймешь, мальчишки ли, девчонки, – все в одинаковых разбухших тулупах, в мокрых застывших валенках. Тоже попали в воду, теперь замерзают, иные уже окоченели. Александр сгоряча крикнул:
– Вы кто?
Один из «снежков», мальчишка, глянул на него запорошенными снегом глазами, с видимым и огромным усилием поднялся, выпрямился, даже вытянулся во фрунт. И его хриплый шепот прозвучал как голос пастора за стеной в исповедальне, только в нем были и лед, и смертельная усталость:
– Не стреляйте, мой господин. Побойтесь Бога. Мы сами замерзнем.
И фон Вельс не сразу понял, что мальчишка тоже говорит по-немецки. Чисто, старомодно, с библейской правильностью. Он немец, этот мальчик?
С чего-то вдруг – наверное, от тепла, – его разобрала злость: он разорался, тотчас вспомнил все матерные слова, врезался в этот комок из полусдохших, смерзшихся тел, стал тормошить, заставляя шевелиться. И некоторые даже встали, и пытались поднимать других. Лишь курчавая отпихивалась, мыча:
– Фашист… убийца, – и не отдавала из рук сверток.
Оттуда, из глубины грязного мокрого тряпья, чуть слышно постанывали.
Александр оставил ее в покое, поднял какого-то мелкого, белого и уже твердого человечка, прижимая к себе. И они пошли невесть куда, и шли целую вечность, пока из-за метели не вывалились огромные, как белые медведи, фигуры, и была их тьма-тьмущая. Видать, дошли те самые, сибирские. Люто ругаясь, они скидывали с себя тулупы, закутывали в них детей, некоторые оживали, другие умирали. Один мужик, здоровый, лицо ярко-красное, глаза-щелки, похлопал по плечу:
– Оставь, браток.
Александр понял, о чем он говорит, но ребенка из рук не выпустил. Здоровый снова сказал:
– Амба ему.
Фон Вельс машинально переспросил:
– Was ist «amba»? – Но, по счастью, то ли ветер дул в другую сторону, то ли язык окаменел, сибиряк расслышал только последнее слово и подтвердил:
– Амба. Держись, папаша. Или кто ты им? – и, забрав тельце, протянул Александру флягу. – На вот, глотни.
Осовевший от водки и страха Вельс видел, что не достреленный им человек ожил, да еще как. Его перевязывали, а он бился в бабской истерике и орал:
– Свои! Своих же! Детей!
Наконец тот же краснорожий добряк ухватил его за глотку, насильно влил из фляжки и заставил проглотить. Тот хлебнул, но все выл невнятно:
– Воды, всем воды, все хлебнут!
Кто-то пожалел:
– Бедолага-то, господи. Во накатило-то.
Кучерявая льнула к идиоту. Всех троих – раненого, девчонку и ребенка на ее руках – укрыли одним тулупом. И все-таки Александр видел, как сумасшедший таращится, глядя в упор, глаза черные, одновременно жалобные и злые, как у подстреленной дворняги. И баба его смотрела так же, только глазки из-за щек у нее были еле видны.
Александр, чуть оскалившись, погрозил обоим пальцем. Ему-то что? Он не стрелял по своим. Он вообще ни в кого не хотел стрелять.
Тут что-то ткнулось под бок. Фон Вельс глянул – это был тот самый мальчишка, который говорил с ним по-немецки. Видно, что отогрелся, пришел в себя, переодели его в сухое – он и порозовел. Глаза светлые, острые, умные, смотрит исподлобья, рыжеватые брови домиком состроил. Кривит губы, вот-вот закричит: «Враг, хватайте!»
Мальчишка ничего не сказал. Александр распахнул чужой тулуп, прижал к себе чужого ребенка, принялись греться.
Глава 1
Все-таки бывают чудеса на белом свете, и материализм совершенно напрасно говорит другое.
Отпуску – быть!
Вера Вячеславовна, спустившись на минутку из-под облаков, – она витала там в той связи, что муж будет жить, пусть и без части внутренностей, – заявила:
– Оля, иди-ка в отпуск.
– Как же, а лагерь…
– Управимся без тебя, – заверила мама, растирая какие-то очередные травки.
Их ей по большому секрету от Маргариты Вильгельмовны поставляла Наталья Введенская. Маргарита никакой народной медицины не допускала. А Наталья – соседки не зря называли ее ведьмой – таскала Акимовой разные зверобои, календулы, сабельники, хвою, собранную строго с заветной сосны возле чертова дуба. Палыч из всего этого умильно взирал лишь на жидкую основу – спирт, – но жена была неумолима. Приходилось принимать не рюмками, а по капелькам.
Узнав, что и без нее есть кому выпасать молодняк, Ольга немедленно помчалась с новостью к Кольке. Пожарский возликовал – еще ж целая неделя от отпуска оставалась! – и поскакал к директору Ильичу. Директор в хорошем смысле огорошил:
– Обойдемся без твоей персоны недели две. Минимум.
– Да как же…
– Ты законный отдых потратил на ту же педагогическую деятельность, что и на работе, да еще такого контингента… в общем, за вакации[3] это никак не считается.
Порадовались, отправились к мужикам. Пельмень и Анчутка на новом месте еще не наработали на отпуск. Однако Виктор Робертович Эйхе, первым делом выйдя из больницы, вторым прогнал их с глаз долой. Как он выразился: очистить помещение, проветрить мозги и подумать над своим поведением. Ясное дело, они оказали некоторое содействие в поимке преступника, но все равно дураки и сообщники.
Пельмень рад был убраться, пока все не уляжется. Он огорчался лишь тому, что Эйхе наотрез отказался пополнять кассу ДПР его неправедно нажитыми деньгами и заставил их сдать следователю. Яшка же радовался тому, что снова все сошло ему с рук и что не прибили и в этот раз.
Итак, перед почти всей компанией расстилалось несколько дней блаженного ничегонеделания. Посовещались, решили потратить их на то, на что давно собирались: пройти походом вдоль канала Москва – Волга. Анчутка, любитель определенности и лентяй, требовал точности:
– Докуда пойдем?
Мнения разделились. Колька предполагал дойти максимум до Дмитрова и вернуться на поезде в Москву. Ольга веселыми ногами была готова переть до самой Волги. Пельменю пока было все равно, хотя он уже сбегал на Кузнецкий и накупил всех карт тех мест, которые нарыл. Приняли Соломоново решение: идем берегом, пока хватит сил и настроения, а если что – вернуться на поезде обратно.
Пельмень, который свои покупочки уже до дыр изучил, заметил:
– Только там не везде станции есть.
– Отыщем, – уверенно заявила Оля.
Во всем царили радость и свет. Вот только мама Аня Светку не отпускала. И ладно бы просто сказала, как все нормальные люди: нет, и все. Отпрашиваться пошли с Яшкой, и тетка Приходько такие обидные выражения употребила, что завяли и Анчуткины бывалые уши.
Смысл воплей сводился к следующему: если Светка-лахудра собирается мести юбками по дальним странам, ночуя в палатке с «мужиками», то пусть сразу собирает манатки и валит куда угодно и домой более не возвращается. Санька, улучив момент, дополнил:
– Оторву голову, – уточнив, что сначала сестрице, потом и Яшке.
Имело место самое поганое братско-материнское недоверие, а равно и необоснованные сомнения в моральном облике обоих – что Светки (у которой душа была алмаз), что Яшки (а вот это было справедливо – и все равно обидно).
Светка поныла, поплакала, робко попыталась «запретить» Анчутке уходить и была решительно послана. Некоторое время дулись друг на друга, но Светка отошла и смирилась. Даже попыталась изобразить, как она рада, что ребята наконец отдохнут, но лицемерить быстро устала. Теперь она выражала свое недовольство как бы между прочим, крутясь вокруг отпускников и пытаясь испортить им настроение пророчествами разной степени черноты.
– Не дадут вам спокойно по берегу идти! – каркала она, штопая прорез на брезенте.
– Это с чего вдруг? Мы ж не диверсанты какие, – рассеянно парировала Оля, пытаясь сообразить: так сколько в итоге брать тушенки да круп? Наэкономила она на небольшой лабаз. Пожарский, Рубцов и Канунников, пусть крепкие чудо-богатыри, унести всю батарею, выстроившуюся под ее кроватью, не смогут. Рук не хватит.
Светка злорадствовала:
– А вот стратегический объект! Там повсюду местная шпана с перьями да вохря с оружием.
– Мы сами шпана, – молодцевато напомнил Анчутка.
Он под суматоху сборов стащил и вскрыл одну банку сгущенки, теперь скромно занимался ею в уголке, предоставив другим возиться с вещами.
– А ВОХР только у шлюзов и прочих таких объектов, – добавил Колька, пересыпая крупу в мешки с завязками, – что нам там делать? Мы обходить будем.
– А все равно погонят вас, – сва́рилась Светка, – поскольку ходят всякие корабли с важными грузами и потом еще с важными людьми.
– Это какими еще? – поинтересовался Пельмень.
– С важными! – заявила девчонка, перекусывая нитку острыми беличьими зубами. – Я в газете читала: едут разные люди из других стран, любоваться восстановленным хозяйством. Так что будут вас гнать отовсюду, будьте покойны.
Ольга, морщась от ее стрекотания, пообещала, что прямо по берегу не пойдут, а чуть поодаль. Ее всё разбирали сомнения: одна банка тушенки в день на всех или на каждого? И что собрать в аптечку: только зеленки-бинты или на всякий случай что покрепче? У мамы за образа`ми (то есть в потаенном шкафчике) много общеукрепляющего от Натальи скопилось. Решила взять.
– Что ты переживаешь? – встрял Яшка, думая, что Гладкова переживает насчет харчей. – Не хватит – прикупим на месте.
– Каком месте? – тотчас подхватила Светка. – Нет там ничего в магазинах, ясно? Вы ж поодаль пойдете – там еще хуже! И людей нет, сплошные уголовники!
Колька спросил, увязывая еще мешочек:
– Это-то откуда ты взяла? – Сразу же разрешил: – Не отвечай, не надо. Тетка Анна поведала.
Светка показала язык:
– А вовсе и нет! – Но, будучи честной девчонкой, призналась: – Мама Аня говорила, да, но я не слушала. Говорила, что с войны еще шастают, если какие лагеря разорили, вот они и прячутся по лесам, урки, дезертиры да власовцы.
– Хорошо, не пойдем поодаль, – пообещал Пельмень, – пойдем по каналу, будем рыбу ловить.
Тут Светка вообще развеселилась, подняла палец:
– Ага! А там знаешь какие рыбины водятся! Рыбаков на дно пачками утаскивают.
– Иди ты, – не поверив, флегматично сказал Андрюха.
– А вот! Специально их запускали, чтобы если какая диверсия, ни один водолаз не подплыл. Хап – и все.
Пельмень подначил:
– Да ладно. Такие здоровущие?
– Да! – настаивала Приходько. – Туда, к каналу, если хотите знать, вообще лучше не соваться.
Андрюха решил задачу просто:
– Фигня. Надо покидать в канал какую-нибудь собаку. Так можно и сомов отвлечь, а самому подобраться. И вреди сколько требуется.
– Живую собаку?! – ужаснулась Светка.
Кровожадный Андрюха поддал жути:
– Можно уже дохлую, но лучше – живую! Она барахтается, орет, а сом – хап, и все.
– Живодер, – обозвала парня девчонка и собралась припечатать чем похлеще, но не решилась. С Андрюхой шутки плохи, может и высечь. Пельмень же, раскладывая на рогожке свои драгоценные снасти, заметил:
– Но так-то сом – это дело. Вкусный на углях.
Колька подтвердил:
– Или в ухе´. В особенности если на костре.
Анчутка подхватил:
– Да-да-да, и чтобы с дымком! И чтобы дрова березовые! – Он сделал вид, что подбирает текущие слюни, отставил пустую уже консерву и опрокинулся на спину, задрав руки.
Вся его фигура выражала возмутительное предвкушение от похода и не отражала ни малейшей тоски от предстоящей разлуки с любимой. Светка возмутилась, вскочила, крикнула:
– И целуйся со своим сомом! – И вовсе убежала, бросив брезент недочиненным.
Яшка-мерзавец только проныл вслед:
– Ну Светка же. – Сам же с места ни на вот столько не сдвинулся.
Оля исследовала палатку, отброшенную вздорной подружкой. То есть это была не палатка, а огромный кусок брезента, собственность Пельменя. Оно и лучше, чем обычная палатка: скатать проще, а выстроить из него можно что угодно: от маленького шалашика до нескольких комнат.
Ольга любовно провела рукой по ткани, тяжелой, надежной. От брезента заманчиво пахло табаком, костром и чем-то неведомым, против чего совершенно невозможно устоять. В особенности если на дворе знойное лето, с плеч рухнула всякая обязанность нянчиться с чужими вздорными неслухами и с души – камень переживаний.
Уложили всё, если что-то забыли – значит, ненужное. Лично Колька трепетно уложил главное для себя, свой шедевр, самодельный нож рыбака (туриста, охотника) и черт знает еще кого. Сам его мастерил так, чтобы лезвие было строго короче финского, не придерешься, зато форма финская – идеальная «щучка». И заточил, как бритву, не по-шпански, с двух сторон, а как положено, с одной стороны, для дела, не для драки. Не удержался, сделал красивую рукоять, наборную, капролон и березовые пластины, проклеил эпоксидкой. Все получилось красиво, хотя без финтифлюшек.
Устали. Решили заваливаться спать, поскольку разговор был о том, чтобы выдвигаться на станцию к пяти утра. И тут выяснилось, что дружная компания туристов так и не решила основной вопрос с маршрутом. Тогда Колька решил за всех:
– На поезде выбираемся из Москвы, за городом идем по берегу.
Тут снова встряла Ольга – шагать до Волги – и разнылся Анчутка: не забираться в глушь, держаться «культуры» (под ней он разумел магазины). Пельмень, перечитывая на ночь карту, флегматично заметил:
– По мне, так хоть до ближайшего шлюза.
– Почему шлюза? – спросил Анчутка.
– Можно до плотины. Да один хрен, любая гидротехника сойдет.
– Зачем она тебе? – поинтересовалась Оля.
– Там глубины, – пояснил Андрей, которого Светкины басни про сомов задели за живое.
Колька хотел спать, потому взял слово и расставил все точки над «i»:
– Кончаем базар. Выезжаем из Москвы, выходим на Хлебниково, ну плюс-минус, и прем себе по берегу. Будут гонять – отойдем. Курс на Волгу, успеем дойти до конца отпуска – хорошо, не успеем – с ближайшей станции чешем на поезде обратно. Принято?
Принято.
– Провизии берем на пять дней, консервы, крупа, чай-сахар. И все! – Колька со значением глянул на Яшку, небольшого любителя безгрешных напитков. И лишь по дружбе дал слабину: – Остальное покупаем в лабазах.
Яшка начал выступать:
– Да нет там ничего, спички да керосин!
И тотчас был загнан за Можай уже Пельменем:
– Будешь жрать что есть.
– Ну и ничего не будет?!
– Значит, наловишь и будешь жрать что есть.
Колька спросил, какие будут вопросы, таковых не оказалось. Он еще раз спросил, уже Ольгу, но она, с трудом разлепляя веки, заявила:
– Все, все устраивает. Погулять, поспать. И разговаривать как можно меньше, сил на это нет.
Самовольный председатель подвел черту под разговором:
– Вот и порешили. Теперь немедленно на боковую.
Ольге уступили единственное спальное место – на диване, сами расположились на полу. Мужики не подумавши пустили Анчутку к окну и потому глубокой ночью проснулись от того, что он перелезал через них, отдавливая все, что попадалось под коленки и руки. Уже под утро навеселе приперся обратно, довольный, как сытый клоп, напевая под нос.