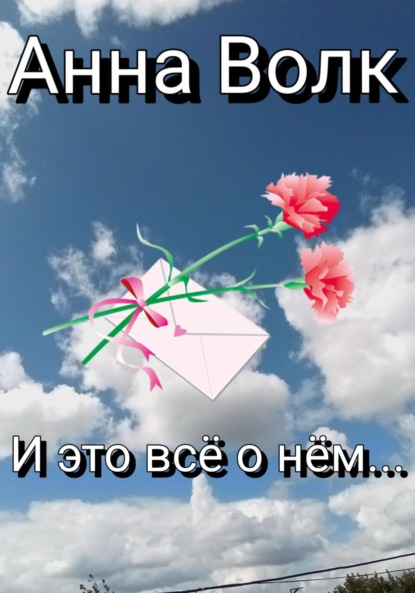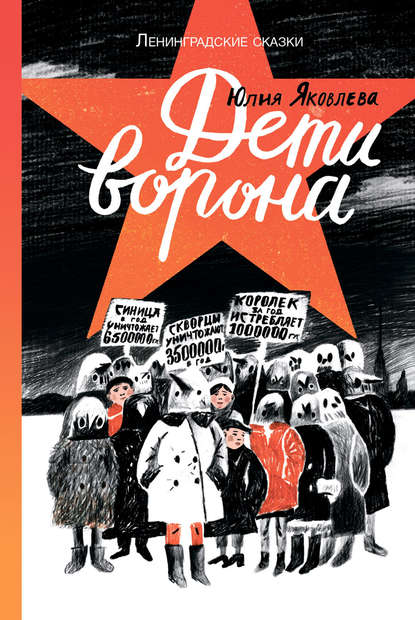Самый приметный убийца

- -
- 100%
- +
– Понятно. Собака что?
– Взяла след, прошла до платформы, там след пропал.
– И, натурально, никто ничего не видел, не слышал и так далее?
– Николай Николаевич, так ведь…
– Не глупее тебя, – оборвал начальник, было видно, что он в целом жизнью весьма недоволен. – Вот что. Подробно расспроси соседей, еще раз допроси дочь, составь описание всего, что на Найденовой было и что было при ней, и наведайтесь на барахолку, может, всплывет что. Связи, связи отработайте. Не было ли конфликтов, угроз? Она завскладом? Может, уволила кого? И как давно инвентаризацию проводили…
Сергей послушно кивал. И молчал. У соседей он уже побывал – безрезультатно. О покойной не то что плохого – нехорошего слова не услышал. Спокойный, добрый, совершенно безобидный человек, с ней и поругаться-то было невозможно, как заявила одна востроносая с общей кухни. И дочка подтвердила: ни разу не слыхала, чтобы мамка кого-то хаяла, и в плохом настроении никогда не пребывала. Живы-сыты, что еще надо? Любила красивые вещи, но без сумасшедшинки, женщина все-таки. По всем статьям золотой человек, как на ладони, и подозревать у нее какие-то тайные жизни было глупо – вся как на виду.
Бывалый Остапчук, в хозяйственных делах собаку съевший, уже прошерстил склад: инвентаризация закончилась менее месяца назад, и сошлось все, копейка в копейку. И складских Саныч проверил – все в возрасте, положительные, работают по пять и более лет, без нареканий, души – алмаз. Водитель, что был за рулем злосчастной машины, – сотрудник с центральной базы, инвалид войны, за двадцать лет ни одного прокола, с Найденовой не знакомый. После инцидента сам свалился с инфарктом. Все запротоколировано кристально ясно, и налицо грубая неосторожность потерпевшей, равно как и трагическая случайность. Медики разводили руками: да, выписана для наблюдения лечащим врачом по месту жительства. Вот, извольте видеть: заключения, результаты осмотра. Какой смысл держать в больнице без жалоб и повреждений? А сердце, что сердце? Не девочка уже, беречься надо было.
Все это и многое другое Акимов мог бы доложить прямо сейчас, перед злым, хуже того, расстроенным начальником, но молчал. Потому что, как ни крути, все эти факты – безусловно, значимые – никак не объясняют, какая падла обобрала мертвую.
Вспомнив, что так и не дошел до школы, поспешил на выход.
«Нет, ну что за… снова на стенах гадят», – он сорвал в сердцах с двери отделения приклеенную бумагу – чистый листок, вырванный из школьной тетради в клеточку, с проставленной на всю поверхность «галкой».
* * *Далее пошла цепная реакция. Выслушав Акимова, директор Петр Николаевич помрачнел, как туча, но поблагодарил вежливо за сигнал. Проводив лейтенанта и пожав ему руку, самолично прошел по коридору и прямо с урока вызвал пионервожатую Гладкову.
Беседа их была за плотно закрытыми дверями и заняла не более четверти часа. Из кабинета Ольга выползла по стеночке, еле держась на ногах. Мутными глазами таращилась в пустоту, на вопросы не отвечала, вообще, производила впечатление помешавшейся.
А учебный день все тянулся – липкий, бесконечный. Наконец каким-то чудом уроки закончились, и Колька, увидев любимую девушку, чуть сам не дал дуба. Довел ее домой, уложил на софу, с великим трудом, с привлечением валерьянки и стопки платков, сумел-таки выяснить, почему она выглядит как дохлая утка. Потом, вежливо попрощавшись, поспешил к себе домой. Ощущал при этом нестерпимый зуд в ладонях, поскольку по холодному времени засучивать рукава на улице неудобно.
Оно, может, и непедагогично, но ничего не поделаешь.
Саньки Приходько дома не оказалось.
– Где он? – спросил он у Светки.
Та, с опаской глядя, как сжимаются и разжимаются Колькины кулаки, сначала попыталась запереться в геройском молчании, но быстро сдалась и пискнула:
– В библиотеке.
– Где?!
– В библиотеке, – пискнула Светка и спаслась в уборной.
Колька глянул на часы: семь вечера. Удивленный, но не успокоившийся, поспешил к школе. Дежурная по библиотеке Надька Белоусова была еще на месте. Нещадно зевая, сонно тараща глаза, она с недовольством поглядывала на Саньку Приходько. А тот, как ни в чем не бывало, запоем читал какую-то толстую книженцию, запустив в вихры костлявые пальцы.
Бить морды в библиотеке воспитание не позволяло, и Колька спросил Надю:
– «Всадника без головы» изучает?
– Нет, – буркнула она.
– Буссенара?
– Нет.
– А что же?
– «Капитал» Маркса. Перечитывает.
Колька аж задохнулся:
– Перечитывает? Он что, его уже читал?!
– Да.
– Вот это номер! И давно он так… погрузился?
– А сам не видишь? Врос, как баобаб.
– Толстая. Что ты ему книжку с собой не отдашь?
Она вздернула нос, звякнув веснушками:
– Вот еще. Потеряет, измажет, а мне ответ держи. Нет уж, пусть кто другой под свою ответственность… Приходько!
– У? – ухнул филином неузнаваемый Санька.
– Домой. Закрываю лавочку.
Санька поднял глаза, затуманенные Большой Идеей и одновременно горящие:
– Чего?
– Того! Домой – мухой, закрываю! И без возражений. Если прямо очень надо, завтра приходи, дочитаешь.
– Надо. Но тут много, – поведал Санька, явно размышляя о чем-то своем.
Колька приметил, что в самом деле, за все время Санька осилил страниц с полсотни, не больше. Санька жюль-вернов и дюма глотал за раз, читал быстро, выхватывая суть и опуская никчемные словесные извержения. Однажды Надя, заподозрив, что ничего-то Приходько не прочитал – так, взял, подержал и обратно принес, – заставила его пересказать главу об устройстве «Наутилуса». И ужаснулась: Санька действительно прочитал, запомнил и пересказал близко к тексту.
А тут было что-то не так. Видно, что не поперек страниц читал Санька, а впитывал каждое слово, а то и буковку, не желая пропустить ни одной мысли. Прочитанное падало на благодатную почву, находило живой отклик и прорастало в нем, проникало в самую душу. Во всяком случае, Санька был поглощен чтением – над книгой торчала лишь лохматая макушка.
Колька, поколебавшись, похлопал соседа по плечу:
– Эй, читатель! Книжку на полку и пошли, поговорить надо. Тетка Анька там небось уже сиреной воет.
И снова Санька, псих известный, против обыкновения не стал ни орать, ни огрызаться, а ответил спокойно и рассудительно:
– Нет у нее причин. Уроки сделал, дров наколол, картошки начистил. Имею право в свободное время самообразовываться.
– Хорошо излагаешь, молодец. А теперь – домой. Надежде тоже свободное время нужно.
– Еще как, – подтвердила та, – и тоже самообразовываться!
Совместными усилиями удалось водворить Маркса на полку, а Саньку выдворить за порог.
Распрощавшись с Белоусовой, вышли на улицу. Колька все размышлял, как бы начать непростой разговор – сразу в ухо или все-таки сперва словами, – как вдруг Санька спросил, будто продолжая начатый разговор:
– …а ты сам-то как думаешь: возможно так, чтобы вообще на земле не было денег и все было общее?
Колька насторожился:
– Чего это вдруг?
– Вот у Маркса написано…
– Где у Маркса написано, что денег не будет?
– Как – где? Коммунизм – это уничтожение частной собственности. Так?
Колька молча пожал плечами. Санька, приняв это за знак согласия, продолжал:
– Если собственности, то, стало быть, и денег. И все зло от денег. Так?
Колька повторил плечами. И снова Санька счел это за одобрение и воодушевленно продолжил:
– Деньги вот, зачем они? Бумага, на ней циферка нарисована, и все договорились, что сколько нарисовано, столько бумажка и сто́ит. Они потому и ценятся, что все уперлись, как бараны: без денег нельзя! Можно же раздавать справедливо, меняться, что кому нужно, и все довольны будут.
– Ты не крутовато загнул? – осторожно спросил Колька, и Санька возмутился, весьма авторитетно:
– Это не я! Это Маркс. А раз он, то, значит, все верно.
– Я не читал, конечно, – признался Колька, – но все-таки, как без денег? Они нужны.
– Зачем? – требовательно спросил Приходько.
– Смешной ты человек, ну как зачем? Жрать что-то людям надо? За жилье вносить надо, за свет, за воду…
– Вода в колонке есть, пей – не хочу, – упрямился тот.
– А в колонке она откуда, сама по себе взялась? Трубы проложить надо, ремонт опять же.
– Тогда из озера! Вода, земля и прочее – они для всех, – излагал Санька, – чего платить за это?
– Ну и не плати, – оборвал Колька, – сам увидишь, что будет. Хорошенькое дело! Присосался к государственным ресурсам, как клещ, а ни за что платить не надо, деньги, видишь ли, ни к чему. Нет у Маркса такого.
– Ты не читал, – вставил Санька.
– А хоть и не читал, потому что мне это и ни к чему. На это власть есть, и если бы у Маркса так было, то так бы и сделали, – твердо заявил Колька.
Приходько осекся, открыл рот. Выражение на его физиономии ясно гласило: чую подвох, но обосновать не могу.
– А может, так и сделали, откуда ты знаешь? – наконец нашелся он.
– Как это откуда? Глаза есть, в школе учился.
– А вот в школе рассказывали: было время, когда и у нас денег не было.
– Так это в Гражданскую. И все равно, и тогда деньги были, керенки, пусть они ничего и не стоили. Люди не хотели хлеб отдавать за бумажки, вот и менялись всё на всё. Время требовало, продовольственная диктатура: кто излишки не сдавал или, что еще хуже, самогонку гнал, те – враги народа. Забирали лишнее и раздавали.
– Ну вот! – победоносно заметил Приходько. – Значит, можно без денег-то!
– Так вместо денег карточки были, трудодни, а потом и свои напечатали, – терпеливо объяснял Николай, – куда же без денег! Армию содержать надо? А милицию, а рабочих? И все равно были и спекулянты, и мешочники. Батя рассказывал: на Сухаревке можно было купить или выменять все: хоть булавку, хоть корову, а пуд картошки двадцать тысяч стоил. Значит, все равно были деньги.
– А если так: сколько поработал – столько и получил? – не унимался клещ Санька, и Колька, устав спорить, завершил дискуссию:
– У нас и так сколько заработал, столько и получил. Нос не дорос рассуждать. Утомил. Если такой умный, иди вон на завод или в Академию наук, а не в школу. Буковки складывать научился, а понимания – с гулькин нос. Смотри, свихнешься. И вообще, – тут Колька вспомнил, зачем пришел, – бросай по чужим садам лазать, а то – по шее.
Санька вспыхнул:
– Ах, чужие сады! Ты мне выволочку пришел устраивать? Так имей в виду: не стыдно мне! Чего стыдиться? Стыдно должно быть тем, кто на своей земельке втихаря яблочки растит! А потом тащит на рынок, поджираются на согражданах!
– А Маслов, стало быть, не поджирается? – с интересом уточнил Колька. Все-таки у этого психа интересные мысли, с вывертом!
– Нет! – уверенно отрезал Санька. – Витька эти деньги не присваивает, мы их на просвещение… – тут он маленько замешкался, как бы лишнего не сказать, – ну… мы на них подписку оформили, на «Пионерскую правду»! – И, явно нащупав под ногами твердую почву, продолжил: – Откуда, по-твоему, она в нашей пионерской висит? Что, директор расщедрился? А яблоки мы людям раздали, которые в казарме, у них-то нет ничего!
– Но яблоки-то чужие, как с этим быть? – тихо спросил Колька.
– Не чужие, а частные, – твердо заявил Санька, – буржуйские, если хочешь, кулацкие. А кулак и его частная собственность – вот главные враги Советской власти.
Он с досадой махнул рукой, замолчал, так до дома и дошли.
В коридоре, прощаясь, Колька протянул-таки руку, Санька машинально пожал ее. И снова начал:
– Все-таки насчет денег… Если бы все вместе договорились, что не нужны деньги, что каждый свое в общий котел, чтобы никому обидно не было…
– Так покажи пример и не выпендривайся.
Тут Приходько, покраснев до корней волос, плюхнулся на сундук, стащил с ног ботинки, указал на них царским жестом:
– На, забирай, пожалуйста! – И, развернувшись на пятках, свирепо промаршировал в подъезд, волоча за собой давно не стиранные портянки.
Колька вздохнул: «Ну дурак. Что с Марксом, что без Маркса».
В голову пришла прекрасная, пусть и подлая, идея.
Подхватив ботинки, он поднялся на этаж, вошел в квартиру и, следуя на звук воплей, без труда отыскал местонахождение тети Аньки Филипповны. Она жаловалась на жизнь соседкам на кухне, тем, что не успели разбежаться или просто настроены были хором поохать.
– Теть Ань, – позвал он с самым невинным видом, – я тут вот Саше ботинки предложил. Хорошие еще, крепкие, мне малы… а он такой: не нужны они мне. – Колька подумал, не приврать ли, прибавить «твои обноски», но постеснялся.
Расчет оправдался совершенно: Филипповна побагровела, побледнела, задохлась, схватила ботинки и умчалась с кухни, взяв след грязных Санькиных пяток. Очень скоро хлопнула дверь, и теткины вопли разразились уже в другом месте. Приглушенные, они тем не менее без труда перебивали Санькин ломающийся басок.
«Ну вот и ладненько», – подумал Колька и с чувством выполненного долга отправился пить чай.
* * *Мама была на смене, батя только что вернулся с работы, составил Кольке компанию.
– Как там со складом-то прошло, все гладко?
– Угу.
– Молодчина. Ботинки-то старые чего, сдал?
– Да нет, не потребовали, я и не стал, – пояснил Колька, – вон, Приходькам сплавил.
– Тоже дело, – одобрил Игорь Пантелеевич, – еще до весны проходит, а то и больше. А чего вообще в мире творится?
Колька, хмыкнув, рассказал про дискуссию с Санькой, поскольку все равно к слову пришлось. Отец выслушал, сперва улыбаясь, потом задумчиво.
– Вот так оно всегда и происходит, – заметил он, вздохнув, – все беды в мире от того, что начитался, не разумея.
– Что ты имеешь в виду? – не понял сын.
– Да ничего особенного, – ответил отец, и лицо у него стало непривычно жестким. – Заменит иной одно словечко – вроде никто и не заметит, а расхлебывать такие игрушки приходится партии, народу! Санька-то что, пацан, ему простительно… ну, если до края не дойдет, тогда пороть… да, а вот упрется бугай здоровый, да еще со стволом, в «идейку», что если рупь лишний в кармане, то ты – контра, то беды не миновать. Разбойник идейный. А то и хуже бывает – все понимает, а идет на подлог, думает, что так народу лучше. Будто народ – стадо какое, кроме рожна ничего не понимает.
Отец подошел к книжному шкафу, вынул книгу, перемахнул страницы.
– Вот, если угодно, оригинал тебе. – Он указал пальцем на слово, для Кольки выглядевшее как полная абракадабра. – Как читается?
Парень пожал плечами, мол, не полиглот он, а потенциальный противник в настоящий момент – ну никак не фрицы.
– «Ауфибанг». Это слово как «уничтожение» перевел анархист Бакунин, в его варианте «Манифеста» сказано именно об уничтожении частной собственности. Так он на то и анархист, ему лишь бы уничтожать, все, вплоть до власти…
– Само собой…
– Но хотел бы немец сказать «уничтожение», то есть превращение в чисто, то сказал бы: «фернихтунг». Сечешь пока?
– Ну да, – кивнул Колька, весьма заинтересованный. Надо же, в какие глубины батя ныряет.
– У Гегеля… философ такой был, Маркс его почитал… да, так вот у Гегеля «ауфибанг» применяется в смысле «снятие», «отмена», «преодоление»… разницу понимаешь?
– Не совсем.
– Не уничтожение, а порождение, возникновение нового, выход на высшую ступень развития. Короче говоря, Программа коммунистов в чистом, незамутненном виде сводится не к уничтожению, а к диалектическому преодолению частной собственности, к такому состоянию, когда она сама себя изживет…
Отец вдруг улыбнулся простецки, точно спохватившись, и поставил книгу на место:
– Ну да ладно, потом как-нибудь обсудим. Нам-то что? У нас и собственности-то – все, что на нас, а надо что – заходи и бери. Так?
– Конечно, – пожал плечами Колька, – и о чем тут растабаривать?
И в самом деле – о чем, если все равно ничего нет?
* * *Жизнь отделения пошла сказочная: не успели утереться после Найденовой и мелких воришек, свалилась новая беда, пуще прежней.
Прямо с утра, не успело начальство выдать тычков и директив, послышались тяжелые, по силам поспешные шаги, и на пороге предстала внушительная фигура гражданки письмоносицы Ткач. Прошествовав до стула, она рухнула на него, переводя дух.
Капитан Сорокин спросил:
– Ну и где?
Та махнула рукой:
– Там. На насыпи.
– Если на насыпи, то… к линейным? – с надеждой уточнил Остапчук, но начальник скомандовал:
– Отставить. Сергей, со мной, Иван Саныч – за дежурного. Гражданка, отдышалась?
– Нет.
– Тогда укажи точку, сами поспеем. С твоей кормой не побегаешь.
…Убитого обнаружили неподалеку от платформы, со стороны дачного поселка. Лежал навзничь, ногами к рельсам. Совершенно плешивый, без фуражки, сапог и верхней одежды, в гимнастерке и галифе, на груди с левой стороны – красное, уже буреющее пятно.
Присев на корточки, Сорокин принялся было обыскивать и тут же, выругавшись, торопливо крикнул:
– Сергей, врачей, живо! Живой он, дура баба…
Однако человек прохрипел:
– Не… х-хана, – с трудом перевел взгляд на Акимова: – Серега… теперь я точно – все.
– Брось, сейчас сбегаю… – начал было Акимов, но тот его уже не слушал. Началась агония, и, преодолевая судороги, человек проговорил:
– Чайка! Чайка…
Затих. Милиционеры сняли фуражки, Сорокин закрыл ему глаза:
– Да-а… теперь точно все. Знал его?
Акимов не ответил, горло сжало. Кивнул.
– Пулевое в сердце, да еще в упор, и столько прожил! Крепкий парень.
– Да, – наконец отозвался Сергей. – Это Денис Ревякин, путевой обходчик. Разведчик бывший.
– На фронте пересекались?
– Земляки. В госпитале одном лежали, потом, в Белоруссии…
Снова перехватило горло. Чтобы не опозориться, Акимов замолчал.
– Родные есть?
– По-моему, нет. Одинокий.
– Все полегче… Хотя кому? Сергей Палыч, отправляйся, вызывай опергруппу. Жэ-дэ отвод, стало быть, линейным трудиться. Я тут покараулю, огляжусь.
– Есть.
Козырнув, Акимов отбыл.
Сорокин, вздыхая, осмотрел тело, не нашел ни денег, ни документов. На ремне остались сигнальные флажки, красный да желтый, и пенал, где должны были быть петарды. Их не оказалось. Чуть поодаль, уже на границе щебня и травы, отыскалась форменная фуражка, слетевшая то ли при борьбе, то ли при падении.
Следов на щебне не было, да и быть не могло. Можно было в целом уверенно утверждать, что если преступник не круглый дурак и не соскочил немедленно на землю с насыпи, то никакая ищейка след не возьмет.
Николай Николаевич извлек платок, помедлил, прежде чем прикрыть мертвое лицо: «Симпатичный мужик. Эх, Дениска. Поди, и тридцати нет, а вон, плешивый уже, и дырка в черепе. Через огонь-воду прошел, а погиб тут… подло-то как. Как же ты подпустил их к себе? Или случайно под пулю попал. Геройствовать небось начал, разведчик, сам задержать решил…»
Сорокин вздохнул, поднялся, закурил. Прошелся по насыпи, по рельсам.
«Чайка, сказал он. К чему бы это? Нет у нас их, не гнездятся. Фамилия? Или в театре был?»
Вокруг тишина, тропинок нет, за полоской леса – общий забор дачного поселка. Никто не ходит тут, только вот старательные путейцы.
«Что за работа у линейных – ни начала, ни конца, уцепиться не за что. Самые поганые твари на транспорте – прилетели, напакостили, жизни лишили, обобрали мертвого – и порхают дальше. Вольные птицы. Чайки, мать их».
Со стороны платформы послышались шаги и голоса. Прибыла опергруппа.
– Чего ж без собаки? – спросил Сорокин, пожимая протянутую руку.
Капитан, старший группы, отшутился:
– Мы сами ищейки. Чего животину без толку гонять? Щебень да креозот, и еще вон дождь прошел.
У тела уже хлопотал новенький, ни разу не виденный ранее врач: невысокий, щуплый, быстрыми движениями и черными глазами-бусинками похожий на воробья.
– Ранение в сердце, выстрел с близкого расстояния, – доложил он.
– Не в упор? – для очистки совести спросил Сорокин. – А копоть как же?
Медик не обиделся на вопрос, охотно пояснил:
– Копоть, товарищ капитан, надо на его верхней одежде искать. Вместе с нею, то есть. А где она? – Он поскреб подбородок. – Не мог же он по такой погоде в одной гимнастерке на участок выйти?
– Ну, украли, видимо.
– Ну да, ну да. Кстати, вот что.
Теперь «воробей» поскреб острый нос.
– Похоже – подчеркиваю, похоже, без экспертизы не могу утверждать, – что стрелял левша.
– Почему?
– А вот. – Врач бережно приподнял голову убитого, осторожно отогнул ушную раковину. – Прежде всего – расположение входного отверстия. Видите?
Сорокин пожал плечами, это для него тонкий вывод.
– Хорошо, вот еще. Царапины, видите? Свежие еще, сочатся. Потому рискну предположить, что убийца, ухватив и удерживая правой рукой, ногтем чиркнул, – выстрелил, держа оружие в левой.
– Ну, завел свою дедукцию, – пошутил походя старший группы.
«Воробей» немедленно нахохлился, старший группы – немедленно пообещал, что запишет и подумает, а пока:
– Товарищи, что с гильзой?
– Нашлась, – доложил один из оперов, – патрончик девять миллиметров, шесть правых нарезов, прямоугольный зацеп выбрасывателя слева вверху.
– Тогда посмею предположить, что у убийцы ладонь большая и пальцы длинные, – немедленно вставил ученый «воробей».
– А это еще почему? – удивился старший.
– Достался мне как-то трофейный «тридцать восьмой» «вальтер», – врач поднял маленькую, как птичья лапка, руку, пошевелил пальцами, – очень неудобно. Рукоятка большая.
– Все, мужики, расходимся, – распорядился капитан, – нечего нам тут уже делать, айда на пенсию. Так, лейтенант, – обратился он к Акимову, – что ты там про птиц говорил?
– Это не я, это Денис… потерпевший, то есть, перед смертью сказал: «Чайка».
– Что, чайки есть тут? – с сомнением огляделся капитан.
– Нет, – ответил Сорокин.
– Может, бред предсмертный? Добро, давайте закругляться.
…В результате дело об обнаружении трупа путевого обходчика Ревякина Дениса Анатольевича, двадцать четвертого года рождения, холостого, проживающего по адресу: казарма, двадцатый километр, в самом деле было принято к производству линейным отделом милиции. Отделению же Сорокина вполне ожидаемо досталась рутина: связи, знакомые и прочее.
Задачу начальник поставил так:
– Давайте разделим: простыни и сковородки – пока на тебе, Иван Саныч. Завтра с утречка и приступай.
– Есть, – уныло козырнул Остапчук.
– Ты, Сергей Палыч, начинай опросы сегодня, тем более ты погибшего знал лично. Жду результатов, опергруппа – рапортов. Ну, вы в курсе. Свободны.
* * *Видать, язва у мастера разыгралась, и, как всегда в таких случаях, расплачивались за это окружающие. Мастер был человек справедливый, непредвзятый, любимчиков не имел, потому получили все поровну. Кто за неубранное рабочее место, кто за грязное обмундирование, кто за стружку, чрезмерно загнутую. Ну, а Пожарский огреб особо, за то, что прогулял целый учебный день. У Кольки чуть глаза на лоб не вылезли:
– Да за что, Семен Ильич? Я же подходил к вам с вечера, мне за обмундированием надо было…
Увы, у мастера было свое мнение о том, как лицо сохранять, даже если он чего и вспомнил, то виду не подал. Более того, язвительно спросил, не считает ли Пожарский его бревном беспамятным. Ну, а потом немедля сослал Кольку на кухню.
Колька хотел было начать права качать, но, по счастью, вспомнил, что Царица Тамара с утра как раз над какой-то чахохбили колдовала, или еще чем-то, что благоухало неописуемо, так и тянуло снять пробу. Есть шанс. К тому же вот и возможность передать акимовское предупреждение.
Приоткрыв дверь в столовую, Колька хотел было сделать широкий, гордый шаг – и замешкался: «Так, здрасьте, это что еще за фигура?»
В столовой во внеурочное время, помимо имевшего право Кольки, ошивался Ворона – Воронов Матвей, причем не просто ошивался, а чего-то химичил, то есть сновал туда-сюда, без церемоний, прямо в открытое окно, перетаскивая какие-то ящики, деревянные, перехваченные полосками жести, – сначала один, потом второй.
Царица Тамара указала длинным пальцем:
– Туда поставь, под прилавок.
– Слушаю-с, – ответил с почтением Ворона.
После окончания разгрузки завстоловой протянула Матвею совершенно настоящие деньги:
– Прошу.
Тот поклонился, вежливо приподняв фуражку, принял:
– Благодарю. Зря вы, Тамара Тенгизовна…
– Ни слова, – приказала она и отпустила княжеским жестом. Он бесшумно, как кот, канул в окно. Тамара защелкнула шпингалет.
Колька, сделав вид, что только что зашел, деликатно кашлянул. Царица Тамара подняла черные огромные глаза, ласково улыбнулась:
– Николай, вас снова сослали на кухню?
Он развел руками и опустил голову.
– Ну-с, чем займемся сегодня? Чистим картофель или пластаем синекур? – Этим словом у нее обозначались синие тощие куры, из которых она умудрялась готовить ресторанные блюда.