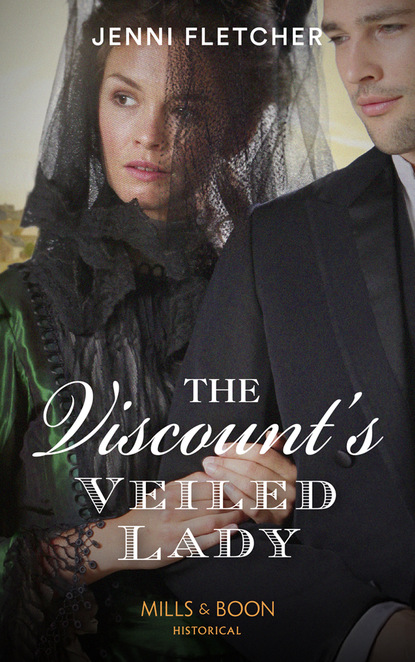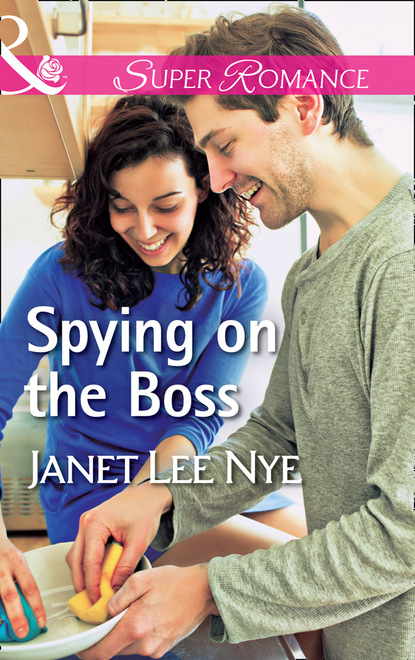Клио. Диалог истории и языческой души

- -
- 100%
- +

© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2025
* * *Этот труд, сказала она озабоченно (как бы) сама себе, но обращаясь при этом ко мне; что-то внутренне обдумывая; пережевывая слова своими дряхлыми историческими зубами; бурча; бормоча; бубня; приняв вдруг серьезный и озабоченный вид, как бы в насмешку, сдвинув брови и наморщив лоб, этот труд я совершила сама. Никто никогда не сделает его лучше меня самой. И (вот) я провела исследование. Это мой долг, мое ремесло, смысл моей жизни, мое служение. И «стойкости моей гранитные столпы»[1]! Исследовать, проводить исследования – такие сладостные слова; наполненные, преисполненные обещаний, идущих им вослед. Стольким исследованиям указывала я путь, столько юношей, моих юношей, проводили их по моему указанию, что в конце концов мне и самой следовало бы провести свое собственное. «Я верен вам навек, опальные святыни». Быть может, после мне настанет конец. Сладостные слова, наполненные памятными событиями, наполненные воспоминаниями, преисполненные былых обещаний, былых сладострастий, былых, идущих им вослед (и далеко идущих) обещаний. Я, пожалуй, сказала бы, что еще стара. Другие, пожалуй, сказали бы, что еще молоды. Но я настолько стара, что даже старость моя теряется во тьме веков. Вы по-прежнему полагаете, что я шучу, вы так и говорите, что я отпускаю шуточки, причем глупые. А вы делаете их еще глупее. Когда их пересказываете. Знали бы вы, сколь я несчастна, какую глубокую печаль скрывают все эти кривляния. Я бедная старуха, лишенная вечности: абсолютное ничтожество; лохмотье; старая тряпка, а не женщина. Гордая и опустошенная, лишенная, как я уже сказала, всего прошлого и потому оставшаяся без (всякого) будущего. «Жалобы прекрасной шлемницы»… это я была той прекрасной шлемницей; «той, что шлемницей звалась прекрасной»[2], как говорится в тексте. Что такое женщина, (бедная) старуха, у которой нет вечности? Что остается от нее? А ведь я была той прекрасной Клио, которую все так обожали. Сколь торжествующей я была во дни своих юных побед. Потом пришел возраст. И я познала победы зрелости, победы с грузными ляжками. Всё, что у меня было, я вложила в будущую ренту. Сколько тех, кто менее блистал, достигают возраста, когда у них впереди – всё, когда они получат всё. А я к тому же самому возрасту лишилась всякого будущего. И потому стараюсь себя обмануть. Я предаюсь трудам – тем неблагодарным трудам, что стачивают меня в песок, превращая в бесконечную пустыню. Я представляю собой печальное зрелище, настолько жалкое, что при взгляде на меня дрогнет даже самое каменное сердце. Я, история, обманываю время. Эти исследования напоминают мне о временах юности. То есть о временах моей юной старости. Я очень люблю своих юных друзей. Я их почти уважаю. Но когда им поручают исследование, иногда они тонут в нем навсегда. Некоторые из моих юных друзей бывают слишком глупы. Они принимают мои наставления, мои пресловутые методы буквально, всерьез. По мне, так я дурочка, да вы и сами это говорите и думаете, но всё же я не настолько глупа, какой вы меня рисуете. Мне отлично известно, я прекрасно знаю, что им никуда не деться. Поэтому мои прилежные ученики, именно поэтому лучшие мои ученики тонут в исследовании навсегда. Их я презираю, причем сильно, и вместе с тем уважаю, причем не меньше. Я бесконечно их презираю, потому что эти несчастные принимают всерьез меня, мои наставления и мои методы, и, естественно, им из них не выпутаться. Глупцы. Мы прекрасно знаем, что, если бы нам требовалось исчерпать всю литературу о ком-то или о чем-то, перед тем как об этом написать, перед тем как рассказать об этом студентам, перед тем как об этом рассуждать, или написать книгу, доклад, курс лекций или хотя бы заметку для немецкого научного журнала, пусть даже крохотную писульку, или просто помыслить об этом, и если бы к тому же нам требовалось досконально изучить всю реальность вопроса, это завело бы нас в такие дебри. Никто и никогда не смог бы завершить что бы то ни было. Никто не смог бы завершить начатое. Так не лучше ли проявить благоразумие. Когда я говорю «исчерпать вопрос», все отлично понимают, что речь идет не о реальности, моей противнице – моей заклятой противнице, реальности, – все понимают, что я не говорю, что я не помышляю о том, чтобы исчерпать эту ненавистную реальность. Эту ненавистную женщину. Вечную женщину. Ибо все слишком ко мне добры. И речь идет лишь о том, чтобы бегло просмотреть, окинуть взглядом, пробежать глазами определенное, как правило внушительное, количество документов, составить перечень некоего, неизбежно огромного, количества памятников. И если это количество весомо, то для меня оно является как бы исчерпывающим. Книга, монография, огромный труд не может не быть исчерпывающим. Он внушает некое почтение, некий страх, как мне и нужно, страх, которого мне не только достаточно, но который выгодно для меня заменяет собой почтение к реальности. Везде царил покой, все были довольны. Довольство витало в воздухе. Только есть такие молодые бычки, знать ничего не желающие, телята, vituli, наши юные друзья, vitelli, наши юные товарищи, делающие вид, будто ничего не понимают, в общем, юные хлыщи, юнцы, juvenci[3], молокососы, которые реально стремятся исчерпать реальность. И тонут в ней навсегда. Ну, вы понимаете. Извращенные умы. Зараженные тем самым микробом – философским мышлением; тем самым вирусом – метафизическим мышлением, метафизикой; той самой чумой – остротой ума, склонностью к реализму. Да вы философы, господа. И не просто достопочтенные господа, а с довеском. С этой вашей идеей исчерпания реальности. Я начинаю постигать это ваше исчерпание реальности. Так чего же вам надо, чего же вам еще? Тише, детки, мои дорогие ягнятки. Вы не скоро выберетесь отсюда, детишки; та дверь, которая выведет вас отсюда, находится совсем не близко. Про себя я называю таких бочкарями. Ну, вы помните. Про Данаидову бочку[4]. Так смейтесь же. Негодуйте. Нет. Перещеголяйте меня. Это весьма остроумная шутка, поскольку она моя. Все мои шутки весьма остроумны. По крайней мере, мне всегда так говорят. Потому что, когда я шучу, то, как и во всём, что я делаю, я копаю вглубь, как истинный археолог. Обычно, когда я шучу, все признают, что это очень смешно. Ведь я располагаю многочисленными кафедрами в Государственном университете[5]. В нем дают стипендии для студентов; стипендии для аспирантов; и стипендии для докторантов; а теперь еще и стипендии для путешествий. Стипендии не всегда добавляют ума тем, кто их получает: но всегда добавляют тем, кто их выдает. Тут тоже есть свои хитрости и даже пара нюансов. Так что все меня считают весьма остроумной особой. И даже я начинаю так считать на волне своего всесилия и оказываемого мне почтения; по примеру других я тоже соглашаюсь признать себя весьма остроумной особой.
Но я этим не злоупотребляю. Внутри государства. Вы знаете, что я не злобна. Для столь важной особы. И пока столь же могущественной. И что, когда я отпускаю эти глупые шутки, я делаю это без сердца и без умысла. Многие на моем месте злоупотребили бы столь всеобъемлющей, столь неоспоримой властью. Я бы хотела любить. Будучи сама из прошлого, я вложила всё, что у меня имелось, во временное, в тлен, и в этом временном в свое время достигла немалых побед, ни одна шлемница вроде меня не достигала столь великих побед, и вот теперь я, будучи сама из прошлого, приближаюсь к тому времени, когда меня не будет, ибо я, будучи сама из прошлого, приближаюсь, уже приблизилась к тому времени, когда временное больше не воспроизводится, когда оно недостижимо, я дошла до того времени, когда временное (больше) ни к чему. Я бы любила, я бы хотела любить[6]. Сейчас я старуха, преисполненная меланхолии, пораженная меланхолией. В доме моей матери родились девять сестер. Я родилась первой. Нелегкая это работа, знаете ли, – быть старшей, первой из появившихся на свет в доме, где столько девочек. В таких семьях поистине бывает тяжко. Я была старшей сестрой, пресловутой старшей сестрой. Именно я наводила порядок в этом мирке. Это была моя обязанность. И я исполняла ее весьма самоотверженно. Впрочем, не самоотверженность красит девушек. Особенно язычниц. А я появилась на свет в языческую эпоху, в языческом обществе. Я стала маленькой матерью. Как это обычно бывает в многодетных семьях. Каждое утро именно я отправляла сестер в школу, давала наставления, советовала, велела им проявлять мудрость. Сами знаете, как они проявляли свою мудрость, но вы знаете это (только) с моих слов. Вообще всё известно только с моих слов. И то, какого успеха добились они, мои младшие сестры, и как в силу своего прилежания в школе они достигли самых разнообразных успехов, какие преимущества они от этого получили, из чего в совокупности и сложилось в конечном итоге то, что вы вслед за мной называете и отныне вечно будете называть античной мудростью. То, что вам всегда теперь придется называть античной мудростью. Они были хорошенькими, как ангелочки, эти крошечки, эти маленькие язычницы; хорошенькими до невозможности. Ах, как им пригодились советы, которые я давала им каждое утро, обряжая в беленькие фартучки, – советы прилежно учиться в школе нашего учителя, нашего дяди Аполлона. И они действительно учились весьма прилежно, и более того – проявляли мудрость; мудрость; и из всех этих детских мудростей соткалось то, что вам вечно теперь придется называть античной мудростью, – придумка, уникальная в своем роде; сложносоставной институт, созданный и рожденный одной расой, придуманный, скорее измышленный, нежели возникший в воображении, созданный, рожденный одной расой и внутри одной расы[7], порожденный одним народом, взращенный, настоянный и насажденный одной-единственной страной всему человечеству. Учил их наш дядя Аполлон. Мы звали его своим дядей, потому что он нас учил; но на самом деле он был нам двоюродным братом по линии отца. А вернее, он просто был нашим братом. В его жилах текла та же божественная кровь. Только мы звали его своим дядей, потому что он был (божественным) учителем. Уже тогда гремел великий спор между приверженцами Аполлона и Диониса. Вы об этом, конечно, слышали. Оба – боги, оба – сыновья одного отца; но, увы, не одной матери. Оба – наши братья по отцовской линии; и в их венах текла одна и та же кровь; оба были сыновьями нашего отца, но – увы – не нашей матушки. Белокурый Аполлон, разумеется, был сыном белокурой и белорукой Латоны, дочери Кроноса. Рыжий Бахус был сыном Семелы, испепеленной молнией. И между ними, как вы знаете, возник великий спор – спор, расколовший весь античный мир. Спор (гораздо) более великий, – уж поверьте мне, самой истории, – чем спор между дрейфусарами и Action Française. Пришел единый Бог и быстро помирил нас навеки. Но мы, маленькие музы, разумеется, были последовательницами Аполлона. По большей части. Масштабные дионисийские попойки нас не только пугали. Они вызывали наше негодование. Видели бы вы моих младших сестер. Сейчас вы и представить их себе такими не можете. Они были хорошенькие, как ангелочки. Теперь вы их такими не видите и не увидите во веки веков. Их памятные образы затоптаны тоннами литературы. Затерты тоннами литературы. Тонны литературы прошлись по этим детям. Но меня больше нет рядом, да и они уже не девочки, чтобы по утрам подтирать им носы, их греческие, аполлонические носики. Все вдевятером мы, разумеется, были сторонницами аполлонизма. В нем было больше правильности, больше точности, только в нем была идеальная правильность, идеальная точность, исключительный идеал, исключительная гармония. Позже я, как история, узнала, познала все гнусные бесчинства, все отвратительные излишества дионисийской публики; как история, я вынуждена познавать всё; это мое ремесло. Невеселое ремесло. Но как муза, как первая и старшая из муз, дочь своей матери Мнемозины, памяти, я испытываю от этого ужас. Эти ритуальные оргии, эти варварские дионисийские обряды, пришедшие откуда-то с Востока, вызывали у меня тошноту; в течение долгого времени; даже сейчас при одной мысли о них меня пробирает дрожь; в них слышатся варварские созвучия и ритмы, всё еще режущие мой слух; твердые окончания; нагромождения причудливых слогов. Явился ваш Господь и быстро помирил нас навеки. Каждое утро они ходили в школу нашего дяди Аполлона. Мы звали его дядей, потому что так звучит серьезнее. Я клала им в корзиночку полуденный перекус: кусок хлеба из пшеничной муки (в конце концов, они богини, надо же соответствовать положению), (то, что вы ныне называете белым хлебом, домашним хлебом, булочкой); ломтик сухого, «козлиного» сыра – то есть, как вы понимаете, весьма твердого козьего сыра; но у них, у этих маленьких проказниц, были прекрасные зубки; иногда на всех я давала кусочек жареной оленины, крылышко фазана, ножку ягненка, спинку кролика или зайца, белую и нежную лопатку козленка, филе курочки: ибо в те дни наши алтари никогда не пустовали. Они пили с ладошки – и, будьте покойны, не какую-то фильтрованную воду или воду из бутылок; и уж точно не вашу минералку; по дороге они пили, набирая в ладошки, живительную воду, воду лесных ручьев, приникали губами к источникам гамадриад. Когда же я не могла проводить их до школы, они частенько прогуливали. Останавливаясь по дороге, они беседовали с прохожими, болтали с лесными нимфами. Надо сказать, от прохожих и от лесных нимф они многое узнали такого, чему наш дядя Аполлон из приличия не мог их научить. Я первая могу признать, что в аполлоническом образовании было немало пробелов и что было полезно и даже необходимо дополнять (и восполнять) эти лакуны иными методами, о которых, если позволите, я не буду распространяться. Я же практически каждый день оставалась дома, чтобы помогать матушке по хозяйству. Наш батюшка, как вы знаете, нами почти никогда не занимался. Его моральные устои были невысоки. Не удивляйтесь, что я, дочь, осмеливаюсь так высказываться в адрес отца. Не надо возмущаться. Мне, истории, приходится говорить все начистоту, не закрывая глаза на многие вещи. Наш батюшка никогда не бывал дома. И наша (бедная) матушка была весьма несчастлива. Стоит ли говорить, что наш отец был волокитой. Он постоянно таскался за юбками. Я говорю «за юбками» скорее по привычке. Это были вычурные наряды. Маскарадные костюмы. Множество случайных сожительств.
Прелюбодейство, блуд, разврат, кровосмешенье,Убийство, воровство – любое преступленьеВы небожителям прощаете своим[8].Нашей бедной матушке было очень тяжело. Отец же выглядел весьма нелепо, потрясая своими грандиозными успехами, своими допотопными триумфами над слабыми женщинами, своими бесчисленными переодеваниями в духе Мольера, своими победами над женщинами легкого поведения; и своим орлом времен Второй империи; и своей зигзагообразной молнией – порой беспощадной, порой неправедной, порой жестокой и разящей мимо. Умевшей промахнуться. Всё, что он имел, мой батюшка, – и наверняка о том не догадывался, – это вовсе не сила, которой он так гордился; это вовсе не могущество, внушавшее ему столько гордости; может, он и не подозревал, но его спасало лишь то, друг мой, что он был повелителем дверей и порогов, и не было ни одного потерпевшего кораблекрушение, с мольбой протягивающего руки в сторону какой-нибудь триремы, едва виднеющейся на волнах вдали, ни одного потерпевшего крушение, с мольбой протягивающего руки к берегу, ни одной беспомощно тонущей парусной лодки, ни одного беглеца, ни одного преступника, ни одного изгнанника, ни одного φυγάς’а, ни одного exsul’а[9], ни одного несчастного, слепого, Гомера, Эдипа или Приама, припавшего к ногам Ахилла, или Улисса у ног Навсикаи, ни одного потерпевшего крушение, стоящего у порога и стучащегося в двери; от гиперборейских зим до жарких оазисов Аммона, от долин и снегов Киммерии до древних стовратных Фив и Египта, «дара Нила»[10]; и, в обратную сторону, от Геркулесовых столбов и от самых удаленных сицилийских и даже провансальских колоний, от Марселя, Массалии, будущего Марселя, от фокейского Марселя до предшествовавших ему ионийцев, первых философов, от сицилийских арифметиков до ионийских физиков, первых физиков и натуралистов, от Сиракуз, Акраганта и Мессины до первых физиков Эфеса и Милета, от пифагорейских мудрецов и арифметиков до ионийских натурфилософов, от пифагорейцев, оперировавших числами, до ионийцев, оперировавших стихиями, и далее до персидских варваров, до жаркого, изнеженного варварского Востока, до персидских нег, εἰς τὰς μαλακότητας[11], по всему греческому миру, и до самых крайних пределов и даже за этими пределами, и через опаснейшие мели Сидры, до самых глубоких и изрезанных вод Трапезунда, который мы называли Трапезонтом, то есть Равнинным городом, по всему эллинскому миру, и до самых варварских миров, от холодного варварского севера до варварских стран, которые мы называем экваториальными или межтропическими, от заснеженных пустынь до пустынь из песка, от бесплодных ледяных пустынь до бесплодных песчаных пустынь, по всему этому огромному греческому миру, единственному на свете, уникальному в истории, от гиперборейских пустынь до пустынь африканских, от пустынь населенных льдами, до пустынь, населенных чернокожими людьми, от ледовых пустынь, до знойных пустынь, от Геркулесовых столбов, открывающих путь дальше, к иным морям, к Океанам нового мира, до первобытных долин, до рек-родоначальниц Востока, откуда пошел человек, от суровейших варварских стран до варварств нежнейших, от самых жестоких варварств до варварств мягчайших, от варварств прежних до варварств будущих, от варварств предшествующих до варварств последующих, от недоразвитых варварств до варварств чересчур развитых, от доантичных варварств до варварств современных, – во всём этом уникальном эллинистическом мире не было на суше иль на море ни одной руки, протянутой с мольбой, ни одного потерпевшего крушение на суше иль на море, ни одного гостя, ни одного путешественника, ни одного скитальца, ни одного паломника, ни одного преступника, стучащегося у порога, которого величие моего отца не окутало бы нетленным плащом; которого не обволакивало бы всё величие моего отца. Вот что его спасало, бедного старика. И только это ему зачтется, бедный мой друг, причем зачтется, быть может, за пределами его смертного, а может, даже бессмертного пути, – зачтется то, что он был ξένιος[12], что ни одна дверь не открывалась перед чужаком без его ведома, что ни одна дверь не могла остаться закрытой, не нанеся оскорбления его величию.
Недавно я была больна[13]. Сами знаете: ничто в истории не может пройти незамеченным; и ничто в ней не может обойти вас стороной. Поэтому вас не обошел стороной тот факт, что месяцев восемь или десять назад я довольно серьезно заболела. Я перечла «Илиаду» и «Одиссею», книги моей юности. Но перечла так, как следует их читать, если уж не читать их по-гречески. Я неплохо читала по-гречески во времена своей мудрой юности. Но теперь я уже далеко не так молода и уже не владею греческим так, как владела им при отце Эде[14]. Не имея навыка греческого, я взяла перевод. Я взяла «Илиаду» и «Одиссею» в самом ненаучном переводе (на французский), какой только смогла достать; сколь бы извращенными мы ни были, сколь бы развращенными ни были наши времена, в каких бы отсталых и невежественных варваров мы, современные люди, (снова) ни превратились, какими бы мы ни стали, еще можно найти, по крайней мере у букинистов, переводы, не являющиеся научными; (когда болею, я опять становлюсь откровенной, так что мне бывает полезно отдохнуть, развлечься, отвлечься от привычных занятий). (А среди моих привычных занятий есть и научные переводы, и в особенности научные издания. И сколько я их сделала, этих научных переводов. Уж в чем в чем, а в научных переводах я поднаторела.) Я взяла «Илиаду» и «Одиссею» в самом старинном, в самом безобидном, в самом человеческом, в самом простом, в самом честном, в самом непритязательном, в самом академическом, старом академическом переводе, в том самом издании, в том самом старом добром переводе, где Клитемнестра называлась своим подлинным именем, Клитемнестрой, Минерва – Минервой, а Улисс – Улиссом. В переводе, который чаще всего дарили в качестве приза на церемониях вручения школьных премий, на старых добрых вручениях школьных наград, на прекрасных торжественных церемониях где-нибудь в провинции, в провинциальных лицеях, в красивых и архаичных зданиях префектур, на церемониях под председательством уважаемого депутата округа. Я имею в виду тот самый перевод, почтенный перевод Пьера Жиге, выпущенный в 1844 году в Париже в издательстве Полена по адресу: Рю де Сен, 33. Когда вы имеете честь быть больной и счастье сохранять при этом ясную голову (хотя бы временно, на период самой болезни, ибо потом, в период так называемого выздоровления, эта негодяйка снова принимается за свое), – скажем (беру пример навскидку), болеете желтухой, болезнью, грубо называемой в просторечье желтухой, что звучит грубовато-смешно, а по-научному называется гепатитом, что гораздо серьезней (и опасней), болезнью, которая сохраняет ясность рассудка, но при этом (к счастью ли?) строго-настрого запрещает работать: так диктуют врачи, так диктует природа, – тогда и только тогда вы становитесь идеальным читателем; и это единственный раз, когда вы им становитесь (ибо не мне, друг мой, говорить вам о том, что чтение само по себе есть работа, реализация, переход к действию, что оно вовсе не является индифферентным, ничтожным, что оно отнюдь не является отсутствием деятельности, чистой пассивностью, чистым листом); ибо в обычной жизни мы настолько со всех сторон нагружены работой, одолеваемы, осаждаемы, обуреваемы жизненными потребностями, задавлены работой, задавлены сомнениями, задавлены угрызениями совести, что мы читаем уже только нужное для работы; тогда и только тогда, когда мы болеем, причем только теми болезнями, что оставляют нам ясную голову и здравый рассудок, принуждая в то же время лежать в кровати и формально запрещая трудиться, – тогда, ради исключения, ради соблюдения временно навязанного положения, ради краткого перемирия, мы в силу обстоятельств (а не по сути своей, как это было бы до́лжно) вдруг опять становимся теми, кем нам никогда не следовало бы переставать быть, – читателями; просто читателями, которые читают ради того, чтобы читать, а не ради учебы или работы; просто читателями; так же как трагедии и комедии нужны просто зрители, как скульптуре нужны просто зрители, здесь нужны просто читатели, которые, с одной стороны, умеют читать, а с другой – хотят читать и в конечном итоге просто читают; и читают просто; нужны люди, которые смотрят на произведение, просто чтобы его видеть и воспринимать, которые читают произведение, просто чтобы его читать и воспринимать, впитывать его, напитываться им, как ценным питанием, чтобы расти, крепнуть внутренне, органически, а вовсе не для того, чтобы «работать с» (произведением) или за счет него обрести социальную значимость в рамках своего столетия; в общем, нужны те самые люди, которые умеют читать и знают, что такое читать, то есть «проникать в»; во что, друг мой? – в суть произведения, погружаться в чтение произведения, в жизнь, в созерцание жизни, дружелюбно, преданно, с непременной долей сочувствия, не просто с симпатией, а с любовью; необходимо проникать в истоки произведения; и буквально сотрудничать с автором; нельзя воспринимать произведение пассивно; ведь чтение – это совместное действие, совместная работа читающего и читаемого, произведения и читателя, книги и читателя, автора и читателя; как спектакль – это совместное действие, совместная работа драматического произведения и зрителя, драматурга и зрителя; как созерцание статуи, представление изваяния – это совместное действие, совместная работа произведения и созерцателя, скульптора и зрителя. Чтение добросовестное, честное, простое, в общем, чтение хорошее – оно как цветок, как плод, выросший из цветка; (пушок на кожице персика, как говорили древние); оно как спектакль, создающий у зрителя хороший взгляд, хорошее восприятие; как статуя, создающая у зрителя ощущение гармонии, ритмической правильности; представление о тексте, которое мы даем себе, подобно представлению, которое нам дает драматическое произведение (и которое мы также даем себе); оно подобно представлению, которое нам дает произведение скульптуры (и которое мы также даем себе); оно является не чем иным, как подлинным, настоящим и, главное, реальным завершением текста, реальным завершением произведения; словно венчающим его; словно осеняющим его особым благодатным венцом; как зонтик на вершине стебля; как фронтон, покоящийся на колоннах храма; как занимающий свое место, гармонично расположенный фронтон; как покоящийся на своем месте фронтон, венчающий храм; как плод, достигший высшей точки своего созревания; как зрелость в ее предельной – единожды установленной, единожды выбранной, единожды достигнутой – точке; как полнота; как редкая, уникальная, особая точка; как нечто особое; как некий успех; как однажды достигнутая точка, достигнутый успех; как достижение; как пища, как питающее дополнение и восполнение; как своего рода напитывающее восполнение и совокупность всей работы. Простое чтение – это совместное действие, совместная работа читающего и читаемого, автора и читателя, произведения и читателя, текста и читателя. Это осуществление, завершение работы, высшая точка в создании произведения, особое утверждение, утверждение реальности, воплощения, исполнения, достижения вершины, полноты; это произведение, которое (в конечном счете) исполняет свое предназначение, завершает свою стезю. То есть это буквально совместное действие, сокровенное, внутреннее сотрудничество; сотрудничество особое, высшее; и возникающая вследствие этого ответственность; высокая, высшая, особая ответственность; ответственность будоражащая. Это чудесная и почти пугающая стезя, когда огромное количество великих произведений, огромное количество произведений великих, даже величайших людей еще могут получить конечное воплощение, завершение, венец от нас, бедный мой друг, от нашего чтения. Какая пугающая ответственность ложится на нас. (И в некотором смысле какая ответственность ложится на автора, на всех авторов, на весь этот небольшой писательский народец, побуждающий, увлекающий, ведущий к сотрудничеству, к дальнейшему, не ограниченному временными рамками сотрудничеству большой, по крайней мере более многочисленный, народ читателей, который когда-то был столь велик и который с каждым днем уменьшается.) Вот она, как говорили раньше, жестокая игра судьбы, а мы скажем – одна из самых жестоких игр нашего временного, земного предназначения, во всём на это предназначение похожая, во всём ему вторящая и подражающая, когда ни один автор во времени не имеет права закрыть свою дверь и ни одно произведение никогда не бывает вечно-временно замкнуто в мастерской своего автора; вот, вероятно, одна из самых тревожащих тайн временного предназначения, одна из самых наполненных, самых напичканных тревогами тайн, состоящая в том, что ни одно произведение, каким бы завершенным оно ни было, каким бы законченным оно ни казалось нам и, быть может, даже своему автору, своему отцу, ни одно произведение не обладает такой законченностью во времени, не достигает столь абсолютного совершенства во времени, какого оно, вероятно, достигает в ином смысле (а по сути, в том же самом смысле, ибо все люди – люди, и автор – тоже человек, и мы, ничтожные, – тоже люди и, как бы там ни было, в каком-то смысле являемся продолжением автора), постоянно завершаясь как незавершенное, по праву незавершенного, которому только и остается, что достичь совершенства, которого оно достигает и постоянно должно достигать, – того самого, постоянно несовершенного венца. Таков удел всего временного, удел самого произведения в самой его временности. Оно всегда, волей-неволей, volens nolens, достигнет своего постоянного завершения, совершенства, вечного, постоянного венца, в свою очередь постоянно несовершенного, постоянно незавершенного, которого, возможно и даже наверняка, оно и не требовало; к которому оно, вероятно, не стремилось; к которому оно вообще, как правило, не стремится; поскольку автор, невежда, глупец, заведомо разочарованный во всём, – величайший в мире гений, – желает быть у себя полным хозяином. Как будто человек может быть у себя хозяином или просто где-либо быть у себя. Ибо во временных пристанищах сама механика времени не позволяет ему быть у себя, не позволяет ему добиться, достичь этого обладания; а в чужом доме он – чужой. Желание быть у себя полным хозяином, сама фантазия об этом – невероятное тщеславие. И что с того, что хозяин запер дверь? Он оставил произведение в своей мастерской, мой дорогой Пьер Лоранс[15], он запер в ней свое произведение; он закрыл свое произведение в мастерской; а потом закрыл дом, в котором находится мастерская; и не оставил в двери ключа; видите, в замке (в замочной скважине) нет ключа, и мы не сможем войти; и мы не найдем этого ключа на доске у консьержа; и автору хотелось бы, чтобы его оставили в покое, – он так старался, чтобы обрести покой, что пусть его наконец оставят в покое, верно? – ведь он закончил труд; ведь он так много трудился, чтобы создать свое произведение, он измучен; у него болит голова; воображение ваятеля лежит под ногами, как протоптанная им же самим тропа; он не только больше не может, что само по себе не страшно и вполне естественно, но он больше не хочет. Он больше не хочет даже слышать об этом. И вот пришла к нему смерть, та горничная, что в последний раз наводит порядок. Пришла смерть. И навела порядок: в последний раз подмела пол, расставила труды автора по полочкам. Привела в порядок и самого автора. Она нашла достойное место его произведениям. Нашла достойное место и автору, и растоптанному воображению вателя. В последний раз смахнула пыль с его трудов и определила каждому из них свое место. Определила место и для автора. В первый и последний раз. Единственный раз. В последний раз заперла его труды в мастерской и затворила дверь самой мастерской. Покрыла автора гробовой доской, затворила вход, задвинула могильный камень,