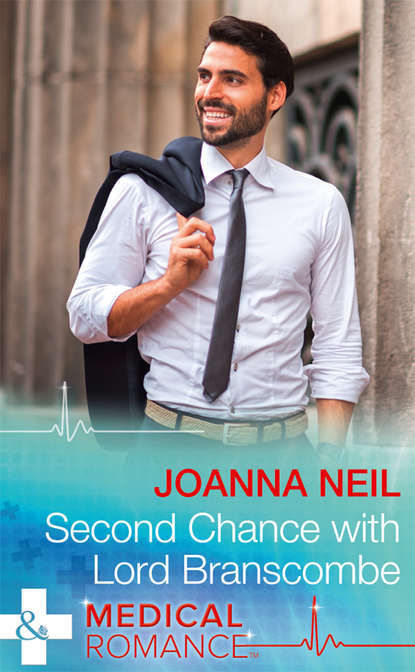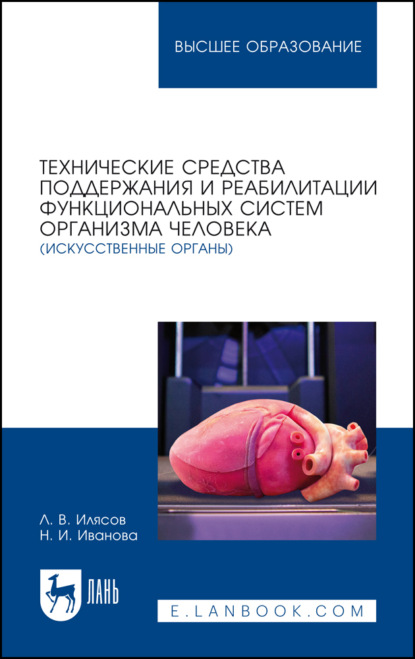Клио. Диалог истории и языческой души

- -
- 100%
- +
И скоро ляжем мы под гробовой доской[16].
И не оставила никакого земного, никакого временного ключа. И автору хотелось бы (мирно) наслаждаться покоем, которого, как ему кажется, он заслужил. Автору хотелось бы отведать, испить из чаши вечного покоя. Не тут-то было – мы все навеки заперты в той мастерской: дурное прочтение Гомера сказывается на произведении и внутри него, на авторе и внутри него. А дурное прочтение Гомера – это самое что ни на есть возможное, самое что ни на есть простое, самое что ни на есть доступное для нас с вами действо. Мы сами прекрасно это знаем и себя в том не виним. Дурное прочтение Гомера в некотором смысле, в некотором роде и в некоторой связи, отчасти и на сравнительно небольшом отрезке развенчивает и автора, и произведение его; а хорошее прочтение (может) увенчать его (заново). Наше дурное прочтение Гомера, то есть прочтение нами Гомера, снова его развенчивает. И получается постоянное, вечное раскачивание во времени туда-сюда, завершение, никогда не достигающее завершения, незавершенность, которая только сама и может, вероятно, завершиться, ибо таково устройство временного, таков его закон, в этом (кроется) сам механизм временного, в котором при таком устройстве, при таком совместном акте, при таком совместном действии читающего и читаемого, автора и читателя, текста и читателя никакие завершения, увенчания, приращения, наращения не могут быть стойкими, навеки устоявшимися, бесповоротно устойчивыми. И напротив, ухудшения, утраты, умаления могут быть или стать устоявшимися, могут быть укоренившимися, устоявшимися, вечными, вечными во времени, устойчивыми, бесповоротными. В этом и есть закон, правило, манера действия временного механизма. Позитивные ценности не могут приращиваться к нему незыблемо, беспрепятственно, безгранично, на постоянной и, главное, бесповоротной основе. Отрицательные же ценности, напротив, могут (врастать) приращиваться к нему безгранично, незыблемо, беспрепятственно, постоянно, бесповоротно и безвозвратно. Ценности приращения, наращения, увенчания никогда не гарантируют свой прирост. Тогда как ценности умаления, упадка, развенчания могут быть или стать гарантами развенчания и упадка. Все хорошие прочтения Гомера, вместе взятые, не обеспечат этому тексту – «Илиаде» и «Одиссее» – нетленного венца. Но множество дурных прочтений могут опошлить, могут буквально изуродовать текст, могут просто разрушить его до такой степени, что даже мощная глыба этого текста рискует погибнуть, и погибнуть безвозвратно. Утраты здесь обеспечены, а приобретения – нет и не могут быть. Это общий, повсеместный закон всего временного. Сколь бы ни был прочен пентелийский мрамор, он не только подвергался и будет вечно подвергаться физическому воздействию времени, наблюдать которое нас уже приучили философы, но подвергается и будет вечно подвергаться не менее серьезному воздействию увенчаний и развенчаний, приращений и утрат от сотрудничества всех тех, кто живет во времени. И нет смысла искать спасения в безразличии, в безличии, в нулевом прочтении, чтобы не делать выбор между хорошим прочтением и дурным, а вернее, чтобы избежать дурного. Потому что этот порядок, это сотрудничество, которое является частным порядком общего порядка жизни, – он, как и вообще порядок жизни, в особенности не признает нуля, безразличия, безличия, в конце концов пустоты, состояния «ни то ни се», промежуточности. Он не признает нейтральности. Нулевое прочтение произведения в каком-то смысле является его наивысшим развенчанием. В этом смысле нулевое прочтение может являться наихудшим прочтением и, несомненно, таковым является. Хуже некуда. Оно может нанести и, несомненно, наносит произведению самый сокрушительный удар. Ибо открывает двери забвению, заброшенности; ведет не только к отвыканию, но к истощению. Ведь мы говорим о пище, о постоянной подпитке, а вовсе не о том, чтобы закопать, составить опись, внести раз и навсегда в ведомость. Отметиться в книге соболезнований. Ведь мы по большей части говорим о временном, в частности, о сотрудничестве, о совместном, постоянном и постоянно временном процессе. Сколь бы ни был прочен тот пентелийский мрамор и какая бы патина его ни покрывала, он не только постоянно и вечно-временно испытывает физическое влияние времени, влияние, о котором мы привыкли рассуждать благодаря тому, что все философы о нем рассуждают, а нередко и размышляют, но в то же время, в это же самое время он постоянно и вечно-временно испытывает и другие отдельные влияния, воздействия, нескончаемые увенчания и развенчания, постоянно незавершенные завершенности и реально завершенные, реально приобретенные, реально достигнутые незавершенности, постоянно венчаемые увенчания, а также развенчания, постоянно и реально венчаемые нашим постоянным сотрудничеством, сотрудничеством всех и каждого, сколь бы оно ни было мало. Возможно, именно здесь кроется величайшая тайна события, мой друг, именно здесь, собственно, кроется тайна и сам механизм события, исторического события, секрет моей силы, мой друг, секрет силы времени, таинственный временной секрет, таинственный исторический секрет, сам механизм времени, истории, механика, разобранная на части, секрет силы истории, секрет моей силы и моего господства; именно благодаря ему, этому хитрому механизму, я утвердила свое временное господство. Вы знаете, кого я имею в виду, друг мой, когда говорю о своем временном господстве, знаете, насколько оно устойчиво и прочно. Вы сами сказали, что оно могло бы заменить мне полное отсутствие господства вечного, если бы вся временная вечность могла сравняться на весах хоть с одним атомом настоящей, реальной вечности, вечной вечности, если бы нечто временное могло нас утешить. И если всё это несчастное вечно-временное господство и обладает, как вы знаете, устойчивостью и прочностью, то лишь по одной причине. Оно целиком держится на этом простом механизме. Сколь бы ни был прочен тот пентелийский мрамор и какая бы патина, вековая, желтая, горячая, серебристая, ржавая, золоченая патина его ни покрывала, патина, вызолоченная солнцами двадцати четырех или двадцати шести веков, словно позолоченная корка, словно солнце, тронувшее поверхность камня, словно солнце, выкристаллизовавшееся на его поверхности, древнее солнце на поверхности старого камня, – этот мрамор подвергается иным воздействиям, он непрестанно обретает и столь же непрестанно теряет иную патину. Он непрестанно обретает и так же непрестанно теряет иные патины, совсем не похожие на природную, физическую патину, патину (старого) солнца. Он непрестанно испытывает иные воздействия, совсем не похожие на природные, физические воздействия непогожих времен. Я, история, истинно говорю вам: подлинный скандал; а стало быть, тайна; величайшая тайна временного творения – в том, что (величайшие) произведения гения оказываются отданы на откуп зверью (нам с вами, господа и дорогие сограждане); в том, что ради этой временной вечности их постоянно передают, роняют, отдают, бросают такие руки, такие ничтожные руки – как наши. То есть все подряд. Сколь бы ни был прочен тот мрамор, построенные из него здания непрестанно обретают и теряют из-за нас, из-за всех подряд, патину иную, непохожую на патину телесного солнца, патину новую; наши взгляды, наши глупые взгляды беспрестанно оставляют на нем и снимают с него, непрерывно наносят на него и сдирают с него невидимую патину. Это и есть та самая патина истории. Наши дурные взгляды, взгляды недостойные, лишают эти храмы венца. А взгляды хорошие, достойные взгляды, могли бы на время вернуть им венец. Придать им необходимые надстройки, дополнения. Придать им необходимую завершенность.
Я говорю «необходимые», ибо, если мы этого не сделаем, никто не сделает этого никогда. Хороший взгляд, античный взгляд, придает законченность. Дурной взгляд, взгляд варварский, современный взгляд, разрушает законченность. Несуществующий взгляд, взгляд нулевой, полностью отсутствующий – в каком-то смысле худший, наихудший из дурных взглядов: ибо это взгляд, который окончательно лишает произведение подпитки, полностью лишает его какого-либо интереса, это взгляд, который навеки вычеркивает это произведение, взгляд, который предает его распаду, забвению.
Художник запер свое произведение в мастерской. Его глаза затуманились. Всё кончено. Он больше не хотел ничего знать. Он больше не мог видеть свое творение. Я имею в виду, что он уже не мог охватить его одним взглядом, взглядом всегда свежим, всегда новым, иным, новаторским, взглядом автора, творца: он начинал волей-неволей, ἑκών τε καὶ ἄκων, invitus invitatus, неизбежно начинал смотреть на него взглядом привычным, взглядом, приобретя который больше уже ничего нельзя сделать. И он больше не мог ничего сделать. Его взгляд лишился новизны. Это единственная слепота, от которой художник не может исцелиться. И тогда он закрыл лавочку. Он, автор, стал смотреть как простой зритель. Он стал своим первым зрителем, положил начало своей публике. И всё же мы по-прежнему в той мастерской, которая была заперта автором, заперта смертью, – мы, (те самые) ничтожные, – и произведение находится (у нас) в наших руках, как и его судьба, поскольку мы на него смотрим. И мы наполняем мастерскую гулом своих недостойных, своих убогих голосов. Слова обладают смыслом бесконечно более глубоким в сравнении с их собственным смыслом, а главное, бедняжки, в сравнении с их зна-че-ни-ем. Сколь бы ни был прочен тот паросский мрамор, какой бы ни была его древняя, солнцем навеянная патина, наши взгляды будут беспрестанно создавать и разрушать древнюю Афродиту. В любой момент мы вольны сказать и сделать какую-то глупость, мой бедный друг, и мы так и делаем, что уж там говорить. Мы вольны болтать, увы, что хотим, то есть вторгаться со своим сотрудничеством как нам вздумается. Мы вольны говорить и делать любые глупости, какие только пожелаем. А желания у нас хоть отбавляй. Но хуже всего, что, когда желание пропадет, настанет худшее, ибо это будет забвение, предвестник той самой смерти. Сколь бы ни был прочен тот текст, из какого бы мрамора он ни был, пентелийского ли, паросского ли, какова бы ни была его тридцативековая патина, он всё же находится у нас в руках (какая неосторожность, дети мои!) (и, как я уже справедливо заметила, какой скандал! и вместе с тем в результате – какая великая тайна). «Три тысячи лет пролетели над прахом Гомера»[17]. Три тысячи лет его читали, за исключением перерыва в несколько веков и грядущих (бесчисленных) веков забвения и варварства. То есть читали задолго до нашего появления. Тридцать веков хорошего и дурного чтения за исключением нескольких веков чтения нулевого, худшего из всех, куда входят и века грядущие. Вернее, те, что вот-вот наступят. Те, что наслаиваются не как случайный довесок, а как неизбежное дополнение, окончательное дополнение к многовековому дурному прочтению. Хорошее прочтение создает завершенность, но не ставит окончательную точку. Оно не вешает на дверь замок. Дурное прочтение разрушает. А нулевое прочтение кладет конец череде веков; кладет конец череде времен; оно приводит в итоге к высшему распаду, к окончательному распаду; оно словно вершит первый, временной Страшный суд, оно словно рисует (первый), временной образ Страшного суда.
Страшно подумать, друг мой, что у нас есть полное право, то самое чудовищное право, что мы имеем право на дурное прочтение Гомера, что мы можем развенчать творение гения, что величайшее творение величайшего гения находится в наших руках, причем творение не безжизненное, а живое, как маленький загнанный кролик. А главное, что, выронив его из своих рук, тех самых безвольных рук, мы можем убить его своим забвением. Какой это чудовищный риск, друг мой, какая чудовищная игра случайностей; а главное, какая чудовищная ответственность. Какими догадками, какими стечениями обстоятельств обусловлено это двустороннее действие. С одной стороны, с одной точки зрения, какой это риск для автора; автор перестал видеть ясно свое произведение; он стал замечать – не без страха, не без некоторого внутреннего отторжения, ибо он хорошо знал, признавал, что это конец, что спустя какое-то время он уже ничего не сможет с этим поделать и что в дальнейшем всё останется как есть, что это знак, предвестие конца самого его действия, самого его влияния на собственное творение, – автор стал замечать, что пора оставить это творение, (потому) что он, можно сказать, оборачивается внутри себя против себя же, что он вопреки своей воле и против своей воли начинает занимать, примеряет, так сказать, на себя позицию, противоречащую его изначальной позиции, мысленную позицию, которая в корне полностью противоречит его первой позиции, позиции автора. Невольно и неумолимо, несмотря на всё сопротивление своего гения, он чувствовал, как становится другим человеком, человеком полностью противоположным; он принимал облик другого человека, и, по мере того как он надевал на себя эту личину, натягивал ее на себя, он уже не мог от нее избавиться; как Геракл от плаща кентавра; он чувствовал, как превращается из автора в его противоположность, в зрителя. Он чувствовал, как превращается в первые ряды своей публики, в человека, стоящего напротив него, в зеваку, глупца, глядящего другими глазами, глазами незнакомыми, невежественными; «как много карих, голубых, любимых глаз зарю встречало»[18]; в самого первого из этих господ; в первого встречного, в первого прохожего, проходящего мимо в череде времен; в того, кто стоит у ограды, той самой ограды, что отделяет произведение от публики; в того, кто своей (грубой) рукой (столь неуклюже) оперся на перила, – и вот он чувствует, как неодолимо превращается, превращается в это, в это убожество, в это скудоумие, в эту немощь, в первого зрителя, в первого читателя, в первого зеваку; он видит себя; он узнает в нем себя; отныне он и есть тот враждебный, более чем враждебный ему человек, безвозвратно чужой. Он и есть тот, другой, отныне это он сам, отныне это его самый большой враг, бесконечно больше, чем враг, – самый чуждый ему человек. И он запирает дверь. Пора обрубить концы. Пора поставить точку. Ведь это он стоит там, у ограды. Пора закрыть дверь, и он ее закрывает. Но он, бедняга, не догадывается, что публика-то никогда не закроет дверь, или если закроет, то это станет худшим из возможных ходов, худшим из решений, какие только могут быть приняты в будущем, худшим и наипоследнейшим из всех исходов. Сам он больше не может, он не хочет больше (над этим) работать, поскольку чувствует, как превращается в зрителя; он чувствует какое-то отвращение, оцепенение. Зритель же, напротив, не чувствует, как превращается в зрителя. Ведь он таким родился. Он никогда не был автором. Он не является отцом этого произведения. И в тот момент, когда вы бросаете работу, когда вам уже невмоготу, когда это уже выше ваших сил, ибо вы чувствуете, как вы, автор, неодолимо начинаете превращаться из автора в зрителя, – в этот самый момент тот самый зритель, в голове у которого совсем другие соображения, в этот самый момент он, напротив, включается в работу: нагло – поскольку он наглец, грубо – поскольку он мужлан. И так он будет продолжать очень долго. Будем надеяться – всегда. Ибо, если он хоть раз остановится, станет еще хуже; станет хуже некуда. Великий риск, друзья мои. Великая беда и для произведения, и для автора. Впрочем, это всеобщая беда, свойственная времени. Всеобщая беда, свойственная истории. Но, увы, это единственная стезя. Подвергаться риску, переходить из одних рук в другие, самые грубые руки, скитаться, отдаться на волю судьбы; или, напротив, подвергнуться еще большему риску, высочайшему риску: перестать быть в чьих-либо руках. По сути, это означает болезнь или смерть. Такова общая историческая мера, общая беда, свойственная самой механике истории, общая временная беда любого произведения и события, существующего во времени, беда произведения и исторического события, то есть произведения и документально подтвержденного события. Брисеида в наших руках. Она в великой опасности. И Ахилл в великой опасности. Именно из-за этого внутреннего противоречия всё временное является сомнительным, мой бедный друг, историческое – всё историческое, то есть подтвержденное исторически, – является сомнительным, любое событие является сомнительным, любое произведение – как событие, как неотъемлемая часть и сторона события, – является сомнительным. И это моя глубочайшая рана, временная рана, вечно-временная рана. Это моя тайная рана, которая не затянется никогда. Конечно, когда я, будучи порождением интеллектуального народа, в годы своей невинности направляла младших сестер тропами той интеллектуальной горы, я не предвидела, да и никто не мог заподозрить, что наш дедушка-время втайне уготовил нам столь жалкую судьбу – беду, возникающую изнутри и простирающуюся в будущее, вечно-временную, непобедимую, неуничтожимую, этакий тайный изъян – обладать такой же, как у него, сомнительностью; неисцелимой; быть разъедаемой такой же, как у него, раковой опухолью; поскольку старый дед (я говорю здесь вовсе не о Вильгельме I) оставил нам в наследство этот тайный изъян; и унаследовали его не только мы, но и всё, что принадлежало деду, всё временное творение, всё, что есть временного в мироздании. Какое ужасное применение, друг мой, какое ужасное, всеохватное применение нашел здесь тот старинный закон, открытие которого вы наивно и (псевдо)научно приписываете себе и который вы несколько напыщенно называете, который вы окрестили законом наследственности. Всё, что относится ко времени, то есть всё на свете, несет на себе печать времени, тот самый изъян времени. И это уже не просто зараза или смертный грех, Пеги, это и зараза и смертный грех. Таким образом, и во все времена всякое временное творение, всякую историческую материю постоянно разъедает внутренний изъян, тщеславие, пустота. Вечно-временное, как и оно само, тщеславие. Вечно-временная пустота, которая его сопровождает и живет внутри него. Внешний коршун неустанно клевал, терзал печень бессмертного Прометея. Нас же пожирает внутренний коршун, этот коршун, доставшийся нам в наследство, точно так же неумолимо терзает нашу печень: неустанный коршун клюет бессмертное и всё же смертное временное творение. Окончательно смертное. То, что когда-нибудь умрет. И здесь кроется то, что в точности, буквально, диаметрально противоречит «Антигоне». То есть нынешний и вчерашний закон, закон писаный, самый что ни на есть писаный, закон самой исторической записи. «Νῦν γε κἀχθές, ἀλλ᾿ ἀεί ποτε / ζῇ ταῦτα, κοὐδεὶς οἶδεν ἐξ ὅτου ᾿φάνη»[19]. Он жив сегодня (по крайней мере), был жив вчера и будет жив всегда; всегда лишь временно; и мы все (прекрасно) знаем, от кого, откуда он пришел. Он к нам пришел, он был нам завещан, мы получили его, он был нам дан нашим дедушкой Хроносом. (Не будем излишне правильно называть его Кроном, чтобы не уподобляться Леконту де Лилю.) К несчастью, наш предок Время, этот костлявый старик, старикашка с косой, дряхлый старикан, приходится дедом не только нам, несчастным сестрам. Он является дедом вообще всех людей. Он наш общий дед. Вселенский дед всего мироздания.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
οὐ γάρ τί μοι Ζεὺς ἦν ὁ κηρύξας τάδε,
οὐδ᾿ ἡ ξύνοικος τῶν κάτω θεῶν Δίκη
τοιούσδ᾿ ἐν ἀνθρώποισιν ὥρισεν νόμους·
οὐδὲ σθένειν τοσοῦτον ᾠόμην τὰ σὰ
κηρύγμαθ᾿ ὥστ᾿ ἄγραπτα κἀσφαλῆ θεῶν
νόμιμα δύνασθαι θνητὸν ὄνθ᾿ ὑπερδραμεῖν.
οὐ γάρ τι νῦν γε κἀχθές, ἀλλ᾿ ἀεί ποτε
ζῇ ταῦτα, κοὐδεὶς οἶδεν ἐξ ὅτου ᾿φάνη[20].
АНТИГОНА
Ибо не Зевс (как глашатай) возвестил мне о них, не Справедливость, пребывающая с подземными богами, постановила те законы среди людей; и я не считала, что твои указы (возвещаемые твоим глашатаем) имеют (достаточно) силы, чтобы смертный мог преступить (переступить) неписаные и незыблемые (или непреложные) законы богов. Ведь эти законы (уж точно) появились не сегодня и не вчера, они были всегда, и никто не знает, когда они возникли.
Всё диаметрально противоположно, мой бедный друг. Мы знаем, от кого пошли законы, и не только писаные законы, но и законы письма и даже законы исторической записи. Вот так молоденькие девушки, девочки рождаются и растут в невинности, храня глубоко внутри пороки, унаследованные от предков: только так и не иначе, haud secus[21], росли мы в невинности, и уже тогда я несла глубоко внутри тот тайный порок, что меня гложет. Или болезнь, или смерть: нам всем остается лишь выбирать. Как всему творению вокруг нас, вместе с нами, так же, как и нам. Но опять же, как и мы, всё гниет изнутри; ибо только вечность здорова и чиста. Поэтому произведение и автор стоят перед выбором: либо подвергнуться риску опошления, оказаться в самых грубых руках, быть залапанными самыми грязными руками, подобно тем авторским рукописям, что попадают в руки вашего большого друга Эрнеста Лависса[22], или подвергнуться еще большему риску, наивысшему из всех рисков: оказаться лишенными даже этих грубых, пошлых ласк, то есть умереть. Или опошление, то есть особая разновидность, особый вид, так сказать, особый сорт унижения, – или смерть. Или смертельное унижение – или унизительная смерть как высочайшее, как наивысшее унижение, унижение крайнее, совершенное, гнусность, одним словом. Либо испытывать унижение как постоянное оскорбление, как непонимание, как тупость, как риск подвергнуться этому унижению, либо совсем опуститься: жалеть о самом унижении, о риске такого унижения, жалеть о том, что его больше нет. «И псу живому лучше, нежели мертвому льву»[23]. Какой чудовищный риск для автора. И какая чудовищная ответственность, друг мой, лежит на нас. Перед нами, друг мой, лежит квазидоговор со всеми вытекающими из него обязанностями. Этот договор был подписан без нас, но мы связаны им, хотя нашего мнения никто не спрашивал. И это лишь один. Один из множества квазидоговоров, которые связывают нам руки на всё время жизни, а может, даже чуть дольше. С одной стороны, от себя автор кладет на чашу весов произведение. С другой стороны, от нас мы предоставляем всю память мира, кладем на чашу весов совокупную память всего человечества. Мы кладем на весы всеобщую память, весьма непрочную и столь могучую, – память, что беспрестанно возникает и умирает. Таков вклад каждой из договаривающихся сторон. Таковы отношения, связи, взаимные узы. Таковы, в конце концов, обязательства обеих сторон. Этот договор неисполним, как и все договоры на свете, и, как и все договоры, он нерасторжим. Договор, о котором нас никогда не спрашивали и никогда не спросят, причем ни одну из сторон – ни автора, ни нас, то есть публику. Эти произведения находятся в наших руках, как заложники, они как пленные рабыни, как дочери Дария[24]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Здесь и далее цитируется стихотворение В. Гюго «Ultima verba», перевод М. Донского.
2
Цитата из баллады Ф. Вийона «Жалобы прекрасной шлемницы», перевод Ю. Кожевникова (Франсуа Вийон в переводе Юрия Кожевникова. М.: Русслит, 1995).
3
Vituli, vitelli, juvenci (лат.) – телята, молодые быки, бычки.
4
«Данаидова бочка» – выражение отсылает к мифу о дочерях Даная (Данаидах), которые убили своих мужей в первую брачную ночь и после своей смерти были осуждены в царстве Аида вечно наполнять дырявую бочку.
5
Имеется в виду Сорбонна.
6
Вероятно, отсылка к Блаженному Августину. Ср.: «Quærebam quid amarem, amans amare» – «Я искал, что бы мне полюбить, любя любовь» (Исповедь Блаженного Августина, епископа Иппонского. Кн. III, I-1 / пер. М. Сергеенко // Богословские труды. 1978. Вып. 19. С. 87).
7
Термин «раса» Пеги употребляет не в антропологическом, а скорее в теософском значении некоего народа, оказавшего фундаментальное влияние на эволюцию всего человечества. В частности, далее он говорит о французском народе как «расе», имея в виду тот великий французский народ, который подарил человечеству одно из величайших событий истории – Французскую революцию.
8
Корнель П. Полиевкт. Акт 5. Явление III. Перевод Т. Гнедич. Цитируется по изданию: Корнель П. Театр. В 2 т. Т. 1. М.: Искусство, 1984. С. 515.
9
Φυγάς (греч.), exsul (лат.) – изгнанник.
10