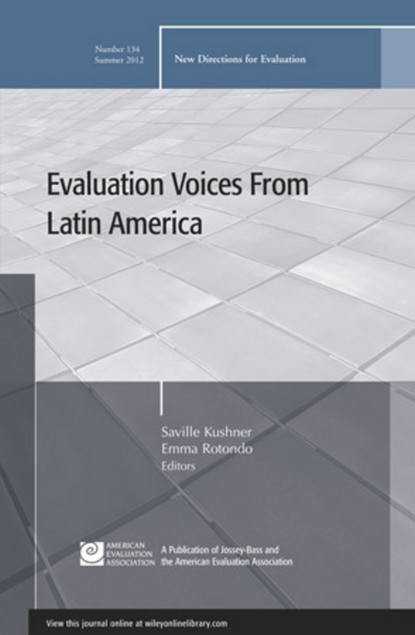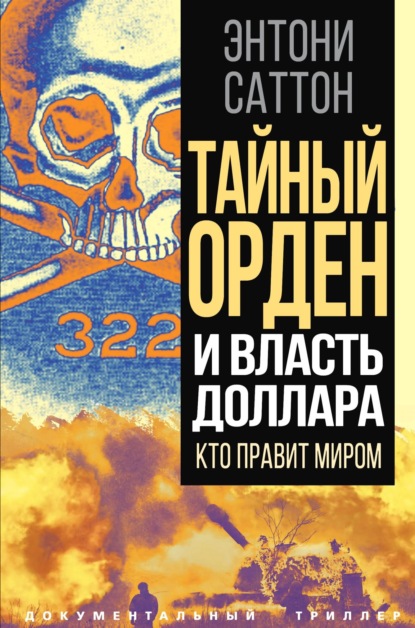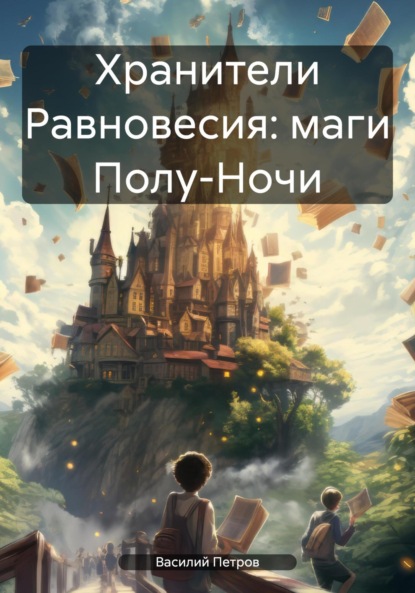Бей друга так, чтобы враги испугались. Рассказы о послевоенных подростках
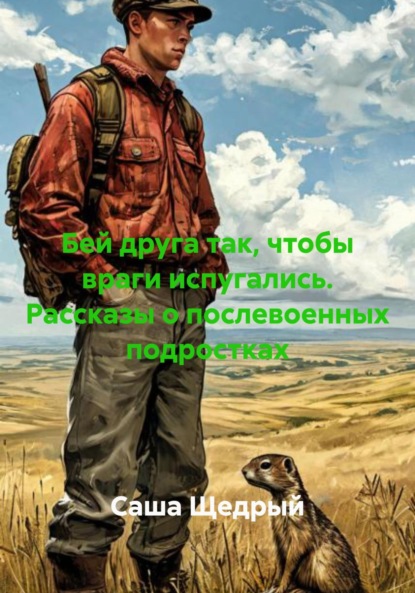
- -
- 100%
- +

ПРЕСТУПЛЕНИЯ БЕЗ НАКАЗАНИЯ
Об этом человеке известно только то,
что он не сидел в тюрьме,
но почему не сидел – неизвестно.
Марк Твен
Преступность была высокой целое десятилетие после войны. Потом преступность пошла на спад, но в начале шестидесятых годов снова был её всплеск, особенно среди подростков.1
Это подросло многочисленное поколение, родившееся после войны, нередко значительную часть времени находящееся без надлежащего присмотра, а то и вообще беспризорное и от этого очень своевольное, хулиганистое. Послевоенные семьи, их устройство, быт в значительной степени отличались от тех, что были ранее. Потеря страной почти тридцати миллионов человек оказала существенное влияние на все стороны жизни людей, в том числе и на семейный уклад. Появилась огромная масса неполных семей, во многих из которых дети как раз родились после войны.
Война выкосила мужчин, в некоторых селах их едва набирался десяток. Многие женщины, не родившие детей до войны и потерявшие на ней мужей, а также те, которые не успели выйти замуж, в том числе по причине своей молодости, теперь лишились возможности родить ребёнка выйдя замуж. Но женщинам хотелось родить, нянчить ребёнка, это свойственно их природе. И они рожали «для себя», иногда и не одного.
Кроме этого, немало мужчин, вернувшихся с войны сильно покалеченными, больными скончались в послевоенные годы, оставив жён с маленькими ребятишками.
А вот присматривать за этими детьми вдовых и незамужних зачастую было некому. Раньше было довольно много многодетных семей, женщины в них занимались домашним хозяйством, дети были под приглядом, после войны же многие матери с утра до вечера находились на работе. Кроме этого, прежде дети зачастую были под присмотром ещё и старшего поколения, а его тоже немало погибло в годы войны, многие семьи остались без дедушек и бабушек.
В полных семьях тоже зачастую не всё было благополучно. Масса мужчин вернулась с войны инвалидами, калеками. У государства не было возможности, а зачастую и особого желания, помогать им. Многие так и не смогли приспособиться к жизни, пьянствовали, дома дебоширили. В этих бедных, часто нищих семьях, с полукриминальным бытом и «ростки» обычно были соответствующие. Но даже те участники войны, что смогли более-менее нормально войти в жизнь, имели настолько травмированную психику, что могли в любую минуту вспылить, прийти в ярость, за малейшую провинность жестоко наказать ребёнка.
Конечно, в таких условиях дети росли жёсткими, усвоившими, что за место под солнцем надо бороться, слабому не выжить. И старались показать свою «силу», характер, удаль.
На рост противоправных действий в определенной степени повлияла хрущёвская оттепель в десятилетие его правления. Если раньше даже за небольшое деяние можно было получить реальный срок, то теперь за мелкие преступления нередко давали лишь условный.
Так что Сашино поколение в массе своей росло очень хулиганистым. Большая часть ребят посёлка постоянно участвовала в самых различных проделках. Днём забирались в огороды у реки, ночью лазали по садам, бахчам. Запускали ракеты с помощью артиллерийского пороха, мастерили небольшие взрывные устройства – просто так, для развлечения. Некоторые глушили рыбу в водоемах с помощью взрывчатого вещества, имеющего длинное и звучное название, но все называли его просто «тол». Занимались изготовлением самого разнообразного оружия.
Саша тоже вращался этой среде, обычной для того времени и не считающейся преступной, подобно тому, как у Лермонтова герой повести укоряет себя: «И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг ЧЕСТНЫХ контрабандистов?» Хотя контрабанда ведь противозаконна.
Они с друзьями мало чем отличались от других подростков, также не имевших приводов в милицию, не занимавшихся воровством в том «нехорошем» смысле, как они это понимали: набеги на сады, огороды, колхозные поля по их понятиям к воровству никак не относились. Это было одним из распространенных среди подростков занятий, не считавшимся у них каким-нибудь серьезным проступком. Кроме того, это было естественное стремление молодого, здорового организма набить свой желудок.
В те времена родителей подростков уж точно не беспокоила проблема лишнего веса детей, в основном они были худощавы. Кушать, «жрать», учитывая подвижные игры того времени и выполняемую подростками разнообразную работу по хозяйству, им хотелось всегда. Очень хорошо выражал это желание Вася, никто не мог с ним в этом сравниться. Положив ладони на живот, он немного поднимал подбородок и чуть-чуть мотая головой изрекал из самого нутра:
– Жра-а-ть хочется …
Тут все ощущали, что «жрать» действительно хочется и начинали предлагать разные варианты. С началом созревания овощей начинались набеги на огороды. Воды во дворах в посёлке ещё не было, поэтому большая часть семей не имела огородов, это пришло в более поздние времена. Некоторые счастливчики получили землю вдоль берега небольшой реки Самарка и выращивали на своих огородах овощи. Вот туда друзья и отправлялись после купания.
Реденькая ограда защищала огороды только от бродячего скота, обычно со стороны реки её вообще не было. Согнувшись пониже, ребята пробирались по воде вдоль берега, потом так же – вдоль грядок, садились на землю и утоляли голод. Все что не было «корешками» ели просто так, а вот редиску, морковь, выдернув из обычно сухой почвы просто обтирали рукой или вытирали об штаны и ели: почва была песчанистая, на корнеплодах земля почти не налипала. Да и экология была другая, не как сейчас: на речке выбирали мелкое с песчаным дном место, ложились на землю опершись на полусогнутые руки и пили из реки. Посмотреть со стороны – ну прямо телятки.
Через какое-то время в поселке провели воду для полива, огороды появились считай в каждом дворе, и Саша с друзьями по огородам уже не шастали.
А вот плодоносящие сады были ещё редкостью, деревья ведь долго растут после посадки. На их улице такие сады были только в пяти дворах, вот в них в основном они и забирались. Как только начинали поспевать первые ягоды и фрукты, вечером, когда стемнеет, кто-нибудь спрашивал:
– Ну, к кому сегодня лезем? Давайте к Митрофановым.
Другой возражал:
– Нет, у них яблоки ещё кисловаты. Валь, у вас самый ранний сорт. Давай к вам?
Валя кивала головой, и подростки уже не раз пройденным путем пробирались в их сад, стараясь ничего не поломать, не повредить. Набрав в карманы и за пазуху яблок, ранеток выбирались из сада.
Через несколько дней забирались все вместе в другой сад, к Тоне, если её не было, то и без неё. В случае, когда в доме проживал крепкий мужик, то дверь блокировали снаружи, вставив в петлю навесного замка какой-нибудь штырь, который потом вытаскивали перед тем, как убраться со двора.
Летом способов набить желудки было немало и кроме садов-огородов. Собирали и ели дары природы: землянику, ежевику, паслён, который ребята почему-то называли «бзника», дикую вишню и смородину, лесные ранетки, тёрн и многое другое. На обширных колхозных просторах рвали подсолнухи, стараясь не попасться на глаза объездчику – колхознику, периодически объезжавшему на лошади охраняемые им поля. От него можно было получить такой удар кнутом, что потом долго не захочется подсолнухов.
В эти годы в Оренбургской области, как и по всей стране, на огромных площадях стали выращивать кукурузу, так что подростки добавили к свои блюдам ещё и кукурузные початки. Делая набеги на колхозные поля, ребята старались быстрее нарвать початков и смыться. Дома у Саши появилась возможность внимательно изучить кукурузу. Разрезая её ствол в разные периоды созревания, он открыл для себя, что у стебля, жесткого снаружи как дерево, внутри волокнистая, сладкая на вкус мякоть. Она стала ещё одним блюдом для ребят, они жевали мякоть подобно жевательной резинке.
Моду на кукурузу ввёл руководитель страны Никита Хрущёв, побывавший в Америке. Кукуруза там давала урожаи намного более высокие, чем другие зерновые. В США её посевы составляли треть от всех зерновых, в СССР – в десять раз меньше. Поэтому Хрущёв решил за счёт увеличения посевов «королевы полей» резко повысить производство зерна. На указания первого лица у нас в стране всегда «берут под козырёк»: кукурузу сажали везде, не обращая внимания ни на климат, ни на отсутствие в стране в нужном количестве собственных холодостойких семян. В результате сельскому хозяйству был нанесён существенный урон. Появилось очень много анекдотов на тему кукурузы. Был вот такой:
– Никита Сергеевич, а мой папа говорит, что вы запустили не только спутник, но и сельское хозяйство.
– Скажи своему папе, что я сажаю не только кукурузу.
Хрущёв был волюнтарист, но вместе с тем и большой романтик. Он брался реализовывать то одну грандиозную идею, то другую. Освоение целинных земель в Казахстане и Оренбуржье – одна из них.
В первые годы производство зерна резко возросло. Плюс к этому в стране были достигнуты значительные успехи в самой передовой отрасли – освоении космоса: первый в мире спутник, первый космонавт. У руководства страны голова и закружилась. Партия поставила амбициозную задачу: догнать и перегнать Америку. «Догнать и перегнать» – стало таким слоганом, девизом. Например, появился станок марки ДИП, мальчикам давали имя Дип.
Однако кампанейщина, непродуманные решения не привели к серьёзным долговременным результатам. Сельское хозяйство перестало развиваться, возникли большие проблемы в животноводстве. Дошло до того, что с целью увеличения поголовья в колхозах и совхозах у селян стали изымать крупный рогатый скот.
Когда ребята ездили летом на прополку, они, стоя в кузове, весело напевали популярную в то время песню:
Мы Америку догнали
По надою молока,
А по мясу не успели –
Х.. сломался у быка
Одним из широко распространенных увлечений ребят было изготовление разного вида оружия. Вначале это были кастеты, ножи. В драках использовали, и то иногда, кастеты. Хотя в сильных руках это страшное оружие, особенно если он тяжёлый, а ведь некоторые умудрялись отливать его из свинца. Ножи носили больше для самоутверждения, для чувства уверенности и редко пускали в ход. Хотя и такое бывало. Одного из Сашиных одноклассников ударили ножом, а потом подобное случилось в техникуме, в группе, где он учился.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Согласно данным отдела статистики прокуратуры СССР, число выявленных несовершеннолетних, совершивших преступления, росло по годам:
1961 – 40 тыс.
1962 – 56 тыс.
1963 – 77 тыс.
1964 – 100 тыс.