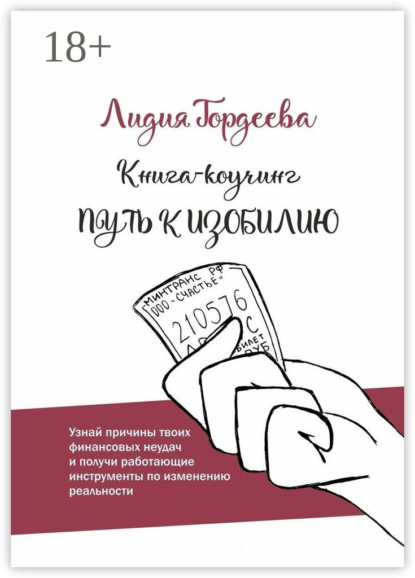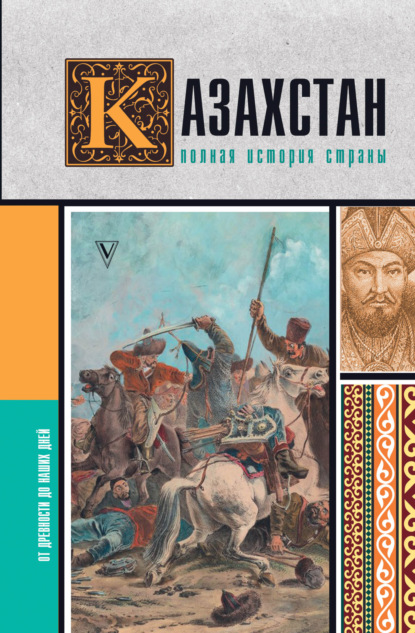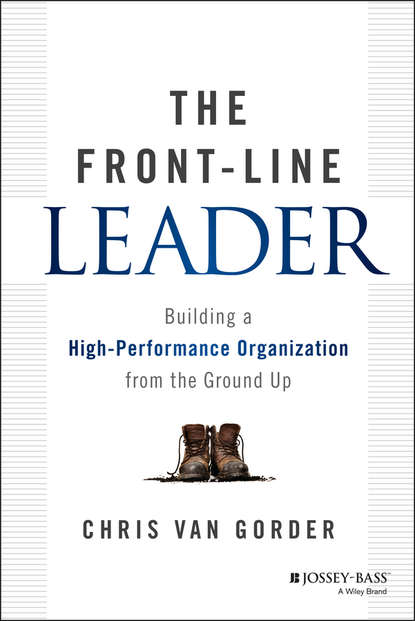Достигнуть границ

- -
- 100%
- +
Старые вояки сидели на земле, связанные, с огромными фингалами под глазами, а перед ними расхаживали пятеро человек. Их принадлежность по одежде ни Шереметьев, ни Долгорукий не смогли определить, слишком уж надетые вещи не вязались ни с одним из знакомых им образов.
– Ещё раз спрашиваю, вы кто и куда направляетесь? – один из пленивших денщиков людей стоял напротив них и задавал вопросы негромким голосом.
– А я в который раз тебе отвечаю, беглые мы. Коней вот свели у князя и подались на волю, – ответил Митрич за обоих.
– Вот так свели таких коней, и никто за вами даже погоню не организовал? – в ответ Митрич как сумел пожал плечами, что из-за связанных за спиной рук было сделать затруднительно.
– Дык, кто ж их господ-то поймёт? А у князя Черкасского денег куры не клюют, у него поди цельная конюшня, что тот дворец. Он ещё долго коняшек не хватится, ежели вообще хватится. Не Цезаря же государева мы со двора свели, – при упоминании о государе стоящий напротив пленников мужик так сморщился, словно клюкву неспелую раскусил. – А вы кто, люди добрые, сами будете-то? – спросил мужика Митрич. Тот замахнулся, и Ванька сжал кулаки, но удара не последовало. Мужик внезапно опустил руку и усмехнулся, глядя на связанных уже немолодых людей.
– Мы-то? Мы ближайшие слуги государя-императора Петра Алексеевича, коего тати из князей держат в крепости в Кронштадте, – высокопарно провозгласил мужик, а Петька недоуменно посмотрел на Долгорукого, но тот только плечами пожал.
– Ого, страсти-то какие говоришь, мил человек, – протянул в ответ Иваныч. – Токма чудится мне, что брешешь ты. Я-то Цезаря, про коего дружок мой недавно баял, своими глазами видал. Зверь, а не конь. Того и гляди из ноздрей пламя рванёт. Не пустил бы он к себе никого, акромя государя, а он на днях прогуливался с молодой женой. Уединения, видать, искали, но энто дело молодое, да и наследник трону надобен. Так что, брешешь ты про государя-то.
Мужик поморщился и наотмашь ударил по лицу старого солдата. Вот сейчас кулаки сжал Петька, а Иван покачал головой и потянулся к поясу, расстегивая петли и освобождая оба пистолета. Привычка абсолютно всё пристегивать, привязывать и намертво приматывать появилась у него в море, когда во время качки можно остаться в одном исподнем, растеряв всё самое необходимое.
Протянув один пистолет Шереметьеву, Иван принялся заряжать свой, стараясь не делать резких движений, чтобы не привлечь внимания этих татей. Пётр последовал его примеру. Когда пистолеты были снаряжены, они взяли в левые руки кинжалы и, кивнув друг другу, вскочили на ноги, одновременно разряжая пистолеты в двоих разбойников.
Их появление было неожиданным, и это позволило выиграть драгоценные секунды. Очень скоро всё было кончено, и Петька ударом рукояти кинжала в висок отправил в глубокое беспамятство предводителя этой странной пятёрки, который байку про Петра сочинил.
– Ну, а теперь узнаем, кто это были на самом деле, – проговорил Иван, наблюдая, как Митрич сноровисто связывает единственного оставленного в живых противника. Буквально через минуту тот приоткрыл глаза и застонал. Когда его взгляд сконцентрировался на князе, Долгорукий вытащил кинжал и поднёс его к лицу пленника, прислонив кончик рядом с глазом. – Я, конечно, не Андрей Иванович, тому даже кинжала не требуется, чтобы кого-то разговорить, но я тоже кое-что умею, так что, мил человек, лучше по-хорошему рассказывай, кто ты и что делаешь здесь?
После окончания допроса Иван Долгорукий без всяких сантиментов перерезал пленнику глотку, и они с Шереметьевым снова тронулись в путь. Некоторое время ехали молча, а примерно через полчаса напряжённых раздумий Петька задал вопрос:
– На что они рассчитывали? В их байку всё равно никто бы не поверил.
– Ну, не скажи, – Ванька покачал головой. – Мало кто знает, как выглядит на самом деле Пётр Алексеевич, и какое-то время местный народ вполне можно было держать в сомнениях, а от сомнений недалеко и до бунта. Просто Швеция уже хватается за соломинку, пусть и такую сомнительную. Кто-то всё равно поверит в эти россказни. Главная цель у них остаётся неизменной – Кронштадт. А вот ревельскому губернатору нужно посоветовать пристальнее следить за своими подчинёнными.
– И Андрею Ивановичу нужно передать про эту байку. Не может быть, чтобы эта пятёрка была единственной, кому поручено такие сказки рассказывать, – Петька нахмурился. – А ещё нужно как-то убедить государя, что пора портрет рисовать и профиль на монетах печатать, дабы подданные были в курсе, как их император вообще выглядит.
– А вот это правильная мысль, – Ванька улыбнулся. – А то уже я даже начал забывать, какой он. А так, на монету посмотрю и сразу вспомню.
***
– У нас проблемы, – Ушаков вошёл без стука и сразу же сел в кресло.
– А когда их у нас не было? – я посмотрел на свою тошнотворную попытку написать письмо испанцам, скривился и смял лист, отшвырнув его в сторону. – Что на этот раз? – достойная дочь Албании была послана обратно к Ахмеду с заверениями дружбы и просьбой озвучить, как я могу помочь царственному собрату. Сейчас оставалось только ждать результата и готовить войска к выступлению.
– Надир-шах написал письмо Махмуду, в котором выражает надежду на заключение мира, на том основании, что они принадлежат к одной ветке тюркских народов, – я удивлённо посмотрел на Ушакова.
– И что послужило такой разительной переменой в планах самого Надира? – я смял уже чистый лист бумаги и швырнул его в сторону исписанного.
– Он недавно вырезал последних представителей Сефевидов и взял Кабул. А сейчас движется прямиком к Индии, потому что мечтает о павлиньем троне, – Ушаков скривился. Вот это поворот, как говорится. Надир в своих действиях ведёт себя совсем не так, как я помню. Вот он, пресловутый эффект бабочки, или, скорее всего, слона. – И да, Юсуп Арыков снова бузить вздумал. Ведёт активную переписку с шахом Мухаммедом из Среднего жуза.
– Дьявол, – я услышал, как ломается в моих руках перо, а пальцы пачкаются чернилами. – Они что, сговорились? Вот что, Андрей Иванович, пошли к Шафирову гонца, пущай он делает что хочет, но письмо Надира или должно затеряться, или его должны отвергнуть. И ещё. Англичане при дворе Надира присутствуют? – Ушаков усмехнулся и утвердительно кивнул.
– Да. В количестве аж шести рыл. И они весьма неплохо справляются с тем, что поют ему в уши, как сладкоголосая птица Сирин, какой он красивый и какой замечательный и зачем ему союзники, ежели он сам способен завоевать Великого Могола и всё, что ему принадлежит.
– И они, как это ни прискорбно, правы, – я стиснул зубы и недоумённо посмотрел на переломанное перо. – Головин должен ускориться с проталкиванием Акта о гербовых сборах. Это важно, Андрей Иванович. Румянцев пущай летит в Испанию как на крыльях и разузнает, что нужно Изабелле. Чем мы можем заплатить, чтобы та территория, пусть и урезанная, с которой пришёл Долгорукий, стала нашей. Если мы сейчас не зацепимся за Америки, то не зацепимся за них никогда. Чёрт! – я яростно начал стирать чернила с пальцев, но казалось, что только больше размазываю их по коже. – Чёрт! – отшвырнув в сторону платок, я с ненавистью посмотрел на смятую бумагу.
Если я до сегодняшнего момента ещё мог как-то пользоваться своим послезнанием, то теперешние события показали во всей своей красе, что уже не могу. Всё, это совершенно другая история, и люди здесь ведут себя не так, как я привык думать. То преимущество, что у меня было, растаяло как дым, остались такие мелочи, типа причины войны за независимость. Зато Долгорукий припёр первый пенициллин – вроде бы мелочь, а приятно. Тем более, что Флемингу, похоже, лавры не достанутся.
– Что делать с башкирами? – деловито спросил Ушаков.
– Пригласи лидеров сюда. Поговорим, выясним, чем они вечно недовольны. Если не придём к какому-либо решению, то предложим им переехать на один из тех островов, которые нам достанутся после совместной с французами экспедиции. Пущай где-нибудь подальше баранам хвосты выкручивают, – Ушаков согласно кивнул, делая какие-то заметки.
Дверь приоткрылась, и в кабинет вошёл Брюс, торжественно неся в руках такой знакомый прибор. Поставив его передо мной на стол, он посмотрел на часы и молча поднял вверх указательный палец. Как только стрелки передвинулись в ту позицию, какая была нужна Якову Вилимовичу, прибор ожил и по столу поползла бумага с чётко отпечатанными на ней знаками морзянки.
Я вместе с Ушаковым с приоткрытым ртом смотрел на это чудо, уже очень мало похожее на тот опытный образец, давным-давно собранный мною на коленке в мастерской Петра Великого. Я даже забыл про выпачканные руки, так и не оттёршиеся от чернил.
Торжественно оторвав бумагу, закончившую выползать из специального отверстия, Брюс, широко улыбаясь, протянул её мне. Я принял телеграмму дрожащими руками и попытался разобраться, что на ней написано. «Получилось», вот какое послание сейчас лежало у меня на ладони. Я вопросительно посмотрел на Брюса.
– Где установлен подающий сигнал прибор? – я внимательно рассматривал аппарат, словно ребёнок, которому подарили огромную корзину различных сладостей.
– В Университете, государь, Пётр Алексеевич, – Брюс не переставал улыбаться. – Конечно, нужно сейчас думать, каким образом увеличить передачу сообщений, выявить максимальное расстояние, может так получиться, что наша задумка с расположением почтовых станций верна, и не нужно будет ничего придумывать дополнительно. Дел предстоит много, не спорю, но вот он, первый действующий образец!
– Потрясающе, – прошептал я, проводя перепачканными пальцами по корпусу прибора. – Это потрясающе. Но я смотрю, ты немного переделал прибор?
– Пришлось, государь, Пётр Алексеевич, – пожал плечами Брюс. – Но мне помогли, конечно. Бернулли-старший весьма заинтересовался прибором, и мы вдвоём довели его вот до этого вида, и можно с уверенностью сказать, что наши работы на том не закончатся.
– Потрясающе, – ещё раз проговорил я. – Вы блестяще потрудились, у меня слов нет.
– Это лучшая награда для меня, государь, Пётр Алексеевич, – улыбнулся Брюс. – Думаю, что прибор можно будет поставить в приёмной, дабы принимаемые сообщения, кои пока являются частью эксперимента, не тревожили тебя понапрасну.
– Да, думаю, что это будет хорошей идеей, – я посмотрел на вошедшего в кабинет Митьку.
Он ухмыльнулся и подошёл к столу, чтобы забрать телеграф. Провод был в тканной обмотке, причём использовали плотную джинсу. Но, конечно, лучше бы это был каучук. Ничего, скоро всё будет, включая и каучук, а пока моя мечта хоть о какой-то связи с отдалёнными районами, похоже, начала осуществляться.
Глава 5
«Сегодняшнее происшествие всколыхнуло всю Москву, а за ней и всю Российскую империю. А как им было не всколыхнуться, ежели прямо на выходе из Китай-города состоялась прямо как на древнем вече сходка стенка на стенку, в коей приняли безобразное участие, с битиём рож и вырыванием волос и бород, всеми уважаемые учёные мужи, построившие по велению государя нашего Петра Алексеевича Университет, дабы учить отроков наукам различным и вельми важным знаниям.
Другая стенка состоялась из попов наших, кои кадилами сумели махать, что былинные воины кистенями, повергая врагов своих направо и налево.
Кроме этих, без сомнения, ценных подданных государя нашего Петра Алексеевича, не менее ценные вои, что личную дворцовую гвардию составляют, пытаючись разнять этих петухов окаянных, сами стали участие незнамо для себя в махаловке той великой принимать.
И ежели бы государь на жеребце своем Цезаре не навёл порядку среди овец своих заблудших, мы могли бы к скорби великой и не досчитаться кого, а так не досчитались лишь зубов, выбитых в ходе забавы энтой.
А уже как государь наводил порядок, и нагайкой, и ногами, и кулаками да прямо в рыло смердящее, посмевшее на царственную особу лапу свою задрать…
Уж так стать свою показал, что вашему покорному слуге стало известно по большому секрету, многие дамы, видящие тело молодое, бесстыдно оголившееся в ходе вразумления каким-то ополоумевшим попом, коий с государя камзол сдернуть сумел, и рубаху белоснежную порвал, в обморок спасительный рухнули из-за стеснения в грудях. Хотя, не исключается вероятность слишком сильно затянутого корсета, но она маловероятна…»
– Какая сука это написала?! – заорал я, отшвыривая в сторону злополучную газету, и охая, когда висок уже привычно прострелило острой болью.
Митька тут же протянул мне платок, в который завернули лёд, вытащенный специально из ледника. Он уже успел подтаять на серебряном подносе, стоявшем на маленьком столике возле окна, но всё ещё оставался холодным и приносящим облегчение.
Я схватил платок со льдом и с облегчением приложил его к подбитому, жутко болевшему глазу. Я им вдобавок ко всему плохо видел. Хорошо ещё, что не переломал себе ничего, «усмиряя дурное стадо этих баранов», устроившее вчера такую бучу.
– Александр Кожин, – прочитал Митька имя этого борзописца.
Так как штат газетный разросся, каждый, кто приложил ручонку к созданию газеты, сейчас подписывал свои опусы, и это было прекрасно в том плане, что не приходилось долго искать очередного шутника, чтобы Юдина мордой натыкать и дать по шее с дальнейшей передачей провинившемуся.
– Да ладно тебе яриться, государь Пётр Алексеевич, ничего такого он не написал, чего бы десятки москвичей своими глазами не видели, включая и «молодое тело, бесстыдно обнажённое», – я злобно посмотрел на него и увидел, что Митька едва сдерживается, чтобы не заржать, когда его взгляд падал на статью. Перевернув платок более холодной стороной, я процедил:
– Кофе мне принеси, весельчак, – и, откинувшись на спинку стула, задумался о вчерашнем происшествии. Его ничем другим, кроме как недоразумением, назвать было нельзя, но и последствия сейчас предсказать оказалось невозможно.
Началось всё довольно буднично. Я выехал в Кремль, чтобы посмотреть, как продвигаются работы по реконструкции моего будущего жилища. В общем и целом, мне нравилось то, что получалось. Растрелли и Кнобельсдорф работали в совершенно разных стилях, но на каком-то моменте сумели договориться, и теперь два стиля плавно переплетались между собой, создавая нечто принципиально новое. Мрачные стрельчатые линии немца очень органично вплетались в лёгкие завитушки итальянца, и эти вплетения завораживали, притягивали взгляд.
– Мы назвали этот стиль Кремлёвское барокко, – степенно произнёс Растрелли, заметив мой интерес. – Мы также старались не трогать самобытную изысканность церквей, но многие из них нуждаются в реставрации, на которую просим позволения у вашего императорского величества, – и он льстиво расшаркался передо мною.
Но я и сам видел, что некоторые, особенно старинные здания, не вписываются в получающийся ансамбль, поэтому без особых раздумий выдал разрешение с условием узнаваемости храмов.
Покивав в ответ, Растрелли продолжил мою экскурсию. Уже был почти закончен основной дворец – место пребывания императорской семьи, а также полностью перестроен патриарший дворец, из которого сделали Министерский дворец, чьё предназначение было понятно из названия.
Побродив ещё некоторое время по стройке, я вышел к Китай-городу, где меня ждал взвод сопровождения и нетерпеливо бьющий копытом о землю Цезарь. Потрепав верного друга по шее, я вскочил в седло и выехал с территории Кремля.
А в это же самое время…
У Эйлера что-то то ли получилось, то ли не совсем получилось, но он решил провести испытания очередной версии воздушного шара на свежем воздухе, и выбрал довольно пустынное место, которое Михайлов запретил трогать и как-то украшать, как раз за Кремлевской стеной в районе Китай-города.
За ним увязались оба Бернулли, Ломоносов и ещё несколько учёных, решивших размять косточки. Как я в последствии понял, Эйлер разработал какую-то хитрую заслонку, чтобы она регулировала давление пара в куполе шара и тем самым влияла на высоту.
А Мопертюи, когда-то приехавший с Бернулли-старшим и как-то незаметно прижившийся в Москве, сумел соорудить из некоторого количества каучука, привезённого Ванькой в паре бочек, нечто, похожее на резину. То ли он вулканизацию провёл, наткнувшись на неё случайно, то ли ещё что сделал, я пока в такие подробности не вдавался. Я даже не знал про привезённый каучук. Его Ванька припёр под видом диковинки, но, похоже, не осознавал его ценности.
В общем, всё это не столь важно, потому что к последующим событиям отношения практически не имеет. Когда эксперимент Эйлера завершился удачно, и он наблюдал за погрузкой шара на телегу, искоса поглядывая на пытающегося растягивать получившийся кусок не очень качественной, но всё же резины, Мопертюи, и прикидывая, как можно вот это применить к его детищу-воздушному шару, на площадь, где и расположились негромко переговаривающиеся учёные, вышла весьма представительная делегация попов, среди которых сновал, ну кто бы мог подумать, Шумахер, и что-то яростно им доказывал.
Как впоследствии выяснилось, вопрос шёл о переносе Славяно-греко-латинской академии… куда-нибудь, потому что время шло и уже давно вышел отведённый мною срок, а решения никакого принято так и не было.
Попы не хотели ничего ему обещать, а практически все монастыри не годились для переселения учащихся академии, потому что на их территориях расположились больницы.
Оставались храмы и молитвенные дома, а также дома для расселения прибывших помолиться паломников, не слишком двинутых, и ограничившихся церквями. Но любой храм в этом случае требовал перестройки, добавления площадей, да и просто строительства учебных зданий и общежития для учащихся. Никто на себя такую мороку брать не хотел, да и меня беспокоить по этому вопросу почему-то попы не желали.
И вот Шумахер не выдержал и присоединился к делегации, которую пригласил Растрелли, дабы они точно указали, какие именно элементы храмов, расположенных на территории Кремля, никак нельзя трогать, чтобы не нарушить самобытность и связь с Господом, или что там у них подразумевается под святынями. Вот к этим весьма почтенным и обладающим высокими духовными званиями священникам и присоединился вездесущий Шумахер.
Делегация священнослужителей, назначенных, кстати, решением Синода, вышла на площадь. Делить им с учёными мужами было нечего, кроме того, они с важным видом покивали косматыми головами, приветствуя оных. Довольно сухо, но всё же приветствуя.
Но! Среди них присутствовал Шумахер, успевший уже всем надоесть до колик. Завидев тех, над которыми совсем недавно у него была власть и власть довольно существенная, этот тип решил напомнить им о себе, и заодно попытаться решить свою проблему, как обычно выехав на чужом горбу.
Пока пытающиеся понять, что от них нужно ненавистному библиотекарю, попортившему многим из них крови, учёные врубались в его претензии, Шумахер продолжал толкать речь. Он настаивал на том, чтобы Бильфингер едва ли не принял академию под своё крыло и начал вот прямо сейчас выделять достойные помещения для учащихся.
Бильфингер слегка охренел и попытался выяснить у не менее офигевших попов, с чего бы это физикам и естествоиспытателям, а также разным химикам принимать на себя бремя обучения отроков, многие из которых затем примут сан? Такое положение вещей что, совсем никак не напрягло многоуважаемых попов? Но попы, не разобравшись почему-то приняли возмущения Бильфингера на свой счёт, что это он их чуть ли не обвинял в том, что они хотят избавиться от своих потенциальных кадров, путём сбагривания их едва ли не конкурентам и в большинстве своём вообще еретикам.
Слово за слово, и полемика стала происходить на повышенных тонах. Но, дело бы на этом и закончилось, тем более что к месту брани стали подтягиваться гвардейцы конвоя. Командиру моего охранения совершенно не понравилось подобное громкоговорящее столпотворение на пути следования охраняемого лица, вот только в дело вступил его величество Случай.
Мопертюи практически не принимал участия в разгорающемся скандале. Он, к счастью для себя, с Шумахером был не знаком, и сути претензий того не понимал, потому стоял в стороночке и всё ещё пытался что-то делать со своим куском скверной резины. К нему присоединился Ломоносов, которому ещё не по чину было пасть открывать в присутствии таких личностей. А личности в это время орали друг на друга, уже практически не понимая, кто и что говорит, потому что почти все учёные мужи в пылу ссоры перешли на свои родные языки.
То ли они сжатие решили проверить, то ли растягивание – ни тот, ни другой в точности не помнил, когда, заикаясь, рассказывал о произошедшем взбешенному Ушакову. Андрей Иванович и так работал на износ и ещё на подобные дела вынужден был отвлекаться!
Если подытожить, эти два гения, и я нисколько не кривлю душой, так их называя, что-то непотребное делали с куском резины, а Шумахер подошёл к ним слишком близко, стараясь уйти от разгоряченных перебранкой спорщиков и встать там, где в данный момент было поспокойнее.
Злополучная резина вырвалась из рук экспериментаторов и заехала Шумахеру прямиком в лоб. Скорее от неожиданности, чем получив серьёзные увечья, Иван Данилович взмахнул руками и, пытаясь сохранить равновесие, завалился прямо на рослого Ломоносова, боднув того головой в живот. Не ожидавший нападения Михаил отшвырнул врезавшееся в него тело, а так как силушкой богатырской он обделён не был, то Шумахер от его оплеухи отлетел прямиком к одному из стоявших поблизости попов. Чтобы всё же устоять на ногах, этот идиот не придумал ничего лучшего, чем… вцепиться священнику в бороду! Совершенно нетрудно догадаться, к чему привело подобное кощунство.
Командир конвоя отдал приказ разнять мутузивших друг друга с упоением людей максимально щадящим образом, потому что прекрасно знал, что за каждого из них, даже за придурка Шумахера, я его на башку укорочу. Слишком уж мало в Российской империи по-настоящему грамотных и образованных людей, чтобы можно было позволить себе потерять хотя бы одного.
Проблема заключалась в том, что бьющиеся на площади учёные со священниками вовсе не хотели, чтобы их разнимали. Многовековая классовая ненависть именно в этот день нашла выход, и теперь они вымещали друг на друге все те обиды, что были даже не конкретно этим учёным конкретно этими священниками нанесены. Не прошло и минуты, как гвардейцы увязли в принимающей непредсказуемый оборот безобразной драке.
И как раз на этой мажорной ноте я решил покинуть Кремль. Одновременно с этим телега, в которую забросили не полностью опустошённый шар Эйлера, была буквально атакована с двух сторон и, не выдержав такого отношения, опрокинулась навзничь. Воздух с шумом вырвался из-под купола, а само падение сопровождалось сильным стуком, напоминающим взрыв.
Цезарь до сих пор окончательно не оправился после той засады, и если на поле боя он ждал, что сейчас начнут взрываться вокруг множество снарядов, и хоть и вздрагивал, но всё же мог себя перебороть, то вот так внезапно…
Я не знаю, может быть, он в этот момент вспоминал резкий, бьющий по ушам до контузии звук, пришедшую после него волну, которую он не мог выдержать, заваливаясь на землю. Услышав нечто похожее в то время, когда он вот-вот уже намеривался понестись вскачь, Цезарь резко остановился и поднялся на задние ноги, начав бить в воздухе передними. Ну а я не ожидал, что он так себя поведёт, и принялся махать рукой с зажатой в ней нагайкой, чтобы удержаться в седле и не вылететь из него ласточкой.
Но как бы я ни старался, падения избежать не удалось. Хорошо, что я буквально своей пятой точкой почувствовал этот момент и сумел сгруппироваться, отшвырнув нагайку в сторону.
Какой-то поп, рядом с которым всё и произошло, узнал меня и, всплеснув руками, принялся ловить, но поймал только камзол. Он вцепился в него своей огромной лапищей, сгребая вместе с ним рубашку и даже чуток кожи, оставив весьма интересный синяк под лопаткой, за который мне ещё предстоит как-то отчитываться перед женой в том случае, если синяк этот не сойдёт к моменту её возвращения.
В итоге на земле мы оказались вместе с попом, а я ко всему прочему ещё и голый по пояс. Уж не знаю, за кого меня приняли приблизившиеся уже изрядно потрёпанные участники драки, но, не успел я подняться, как мне в глаз прилетел чей-то кулак, возможно, даже Михайлова, прорывавшегося ко мне, метеля всех, кто под его кулаки попадался.
Ну вот тут я не сдержался и душу отвёл, раздавая оплеухи всякому, кто приближался ко мне, не разбирая, кого я вообще бью. Кадил у святош, кстати, не было – это художественное преувеличение настоящего творца Александра Кожина.
В конечном счёте озверевший Михайлов навёл порядок, и всех участников утащили на правеж к чрезвычайно раздраженному Ушакову.
Когда всё успокоилось, и я стоял, тяжело дыша, с расплывающимся на пол-лица фингалом и сбитыми костяшками на сжатых кулаках, оказалось, что меня всё это время опекали четверо гвардейцев, изрядно потрепанных, но не подпустивших никого к моему телу, кроме самого первого энтузиаста, сорвавшего с меня одежду. Но там был настоятель храма Василия Блаженного, как именовался этот храм в народе, и заподозрить в нем хулу… Такое даже Михайлову в голову не пришло.