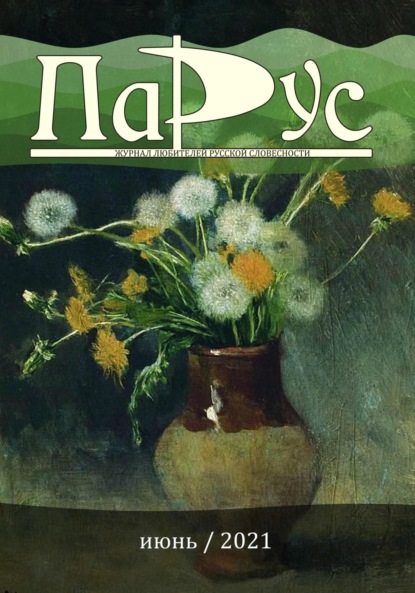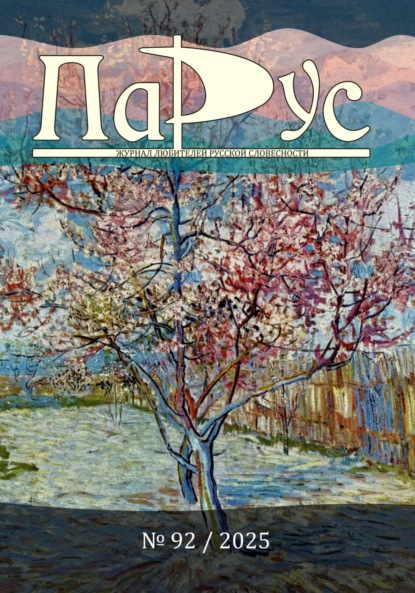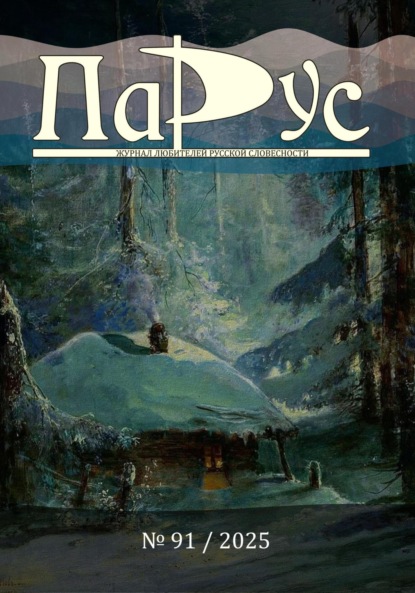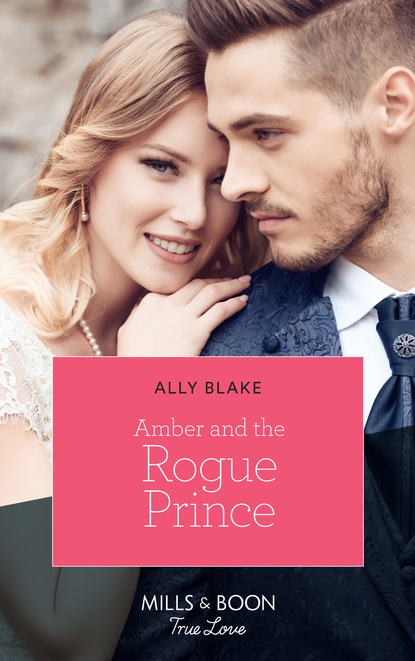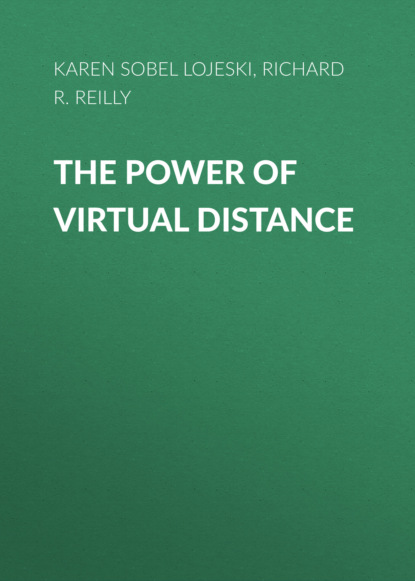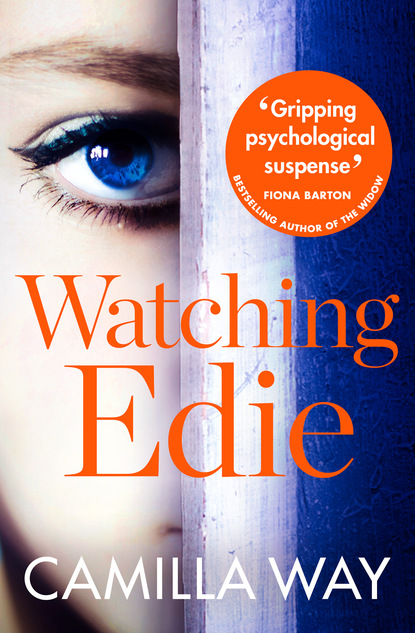Журнал «Парус» №84, 2020 г.
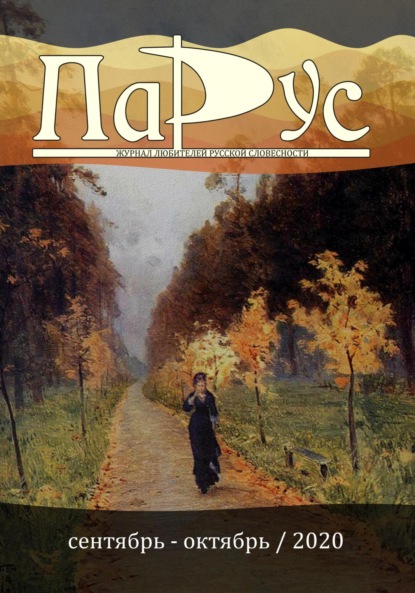
- -
- 100%
- +

Цитата
Василий ЖУКОВСКИЙ
ЛИСТОК
От дружной ветки отлученный,
Скажи, листок уединенный,
Куда летишь?.. «Не знаю сам;
Гроза разбила дуб родимый;
С тех пор, по долам, по горам
По воле случая носимый,
Стремлюсь, куда велит мне рок,
Куда на свете все стремится,
Куда и лист лавровый мчится
И легкий розовый листок».
1818
Художественное слово: поэзия
Анжела БЕЦКО. Будет небо – будет и крыло
***
Удочери меня, мой ясный свет.
Как небо – землю и как месяц – звезды.
Возьми туда, куда другим не след.
Вдохни в себя, как ты вдыхаешь воздух.
В течение, в мелодию, в тоску
своей реки тайком возьми… послушай,
как я читаю бережно строку,
которая твою читает душу.
Возьми в ладоней теплое кольцо,
как яблоко последнее из сада,
где снегопад забил мое лицо —
там, где душа, лица уже не надо, —
где яблони распяты на снегу
и умер сад, заброшен и завьюжен…
Возьми туда, куда я не могу,
в ту невозможность взять – возьми…
И глубже.
***
Птица, не умирай…
За тебя ль не молилась?
Здесь, конечно, не рай,
но Господняя милость
и зерно от щедрот
вездесущего неба.
Что еще просит рот,
кроме песен и хлеба?
Птица, не умирай!
В смерть не верю – хоть тресни!
Даже если за край,
в неизбежное если…
Тут, понятно, не юг
и луч солнечный редок.
Что еще хочет дух,
кроме ветра и веток,
что сплетаются в сеть —
против птичьей природы…
Неизбывное – петь,
если певчей породы.
ДУДКИ
Есть дудки разные.
Одни —
дыханием живут,
и ноты путают они,
и чисто не поют
в чужих руках,
как соловей
стал в клетке б доживать,
о ветке думая своей…
Другим —
на все плевать.
За неумолчный звон монет —
талант,
как пес,
издох —
продать готовы белый свет
и верят:
с ними – Бог.
НИЧЕЙ
Выше небушка не вырасти
ни на суше, ни в воде.
Нет на свете большей сирости,
чем свивать гнездо нигде.
Прописался глупый скворушка
в раззолоченном раю.
Как живется, серо перышко,
у могилы на краю?
Горизонт забит скворечнями
в той заморской стороне,
двухэтажными, нездешними
да пустыми – в глубине…
А у нас снежинки мечутся,
как рыбешки…
Но зато
минареты в полумесяцах
в том краю, где ты никто,
богородицы по улицам
да спасители…
не те?..
А у нас – Один…
сутулится,
воскресает на кресте…
А в окне – всполох рябиновый —
рай оседлых снегирей…
А в твоем – горчит чужбиною,
ночь – темнее, день – серей,
оттого и бродишь за морем…
А у нас – белым-бело,
на просвет – все то же самое,
с небом дружится крыло,
только к прозе мы привычные:
горы – снега, ведра – щей —
хорошо до неприличия!..
Чей ты, скворушка ничей?
***
По ангелу – тебе, и мне, и всем.
Как будто божьих тварей миллионы
и лучшее из редкостных поэм
запрятано в их шепоты и звоны…
Ты несозвучен. Ты – не ко двору.
Ты – диссонанс в мажоре и в миноре…
Тогда хотя бы по крылу, перу,
по голосу, что в ангеловом хоре
срывается до бездновых высот,
где места нет ни свету, ни блаженству…
И если вдрызг, фатально не везет,
тогда хотя б по шелесту…
по жесту…
***
Выстоять – как трава —
в море пламени, в мире пепла,
вынянчить те слова,
что растут, чтоб душа не слепла,
вышептать те пути —
неизменные – что наружу,
выдышать то «прости»,
без которого вдох не нужен.
К ОФЕЛИИ
Душа моя, Офелия, молчи,
как если бы молчали колокольни.
Едва ли звук тревожней и безвольней
отыщется в немеющей ночи,
чем шепот приглушенный твой. Плети
венки из трав дурманящих и сизых.
И если бы тебя позвали снизу,
безумным не внимай. В твоей горсти
зажата нить трагедий, кривд и правд.
Кисть разомкни, плывущая над миром…
По-прежнему все серо здесь и сиро.
Остывшая, пустынная квартира,
где я плету венок из слов и трав
той, для которой нелюбовь – отрава…
ПОДЗАБОРНОЕ
Ветошка, лоскутье подзаборное,
черепок я, осколок стекла.
Легшей в землю попкорном – не зернами,
не взойти. Потому не смогла.
По плевку, по бычку да по камешку
на помойке расту и расту.
И росточком не вышла пока еще:
не видна я тебе за версту.
Все косишься на звезды блестящие,
что на нитках висят в Новый год.
Подзаборное все – настоящее —
терпеливо и верно растет.
НЕИСТРЕБИМОСТЬ
Неистребимо – в дереве – качать
упрямой и веселой головою,
а в пугале – на дереве торчать
и пялиться в пространство мировое,
в калитке – без хозяина скрипеть
от боли и до боли в перепонках.
А в женщине неистребимость – петь,
укачивая на руках ребенка.
***
Отойди, судьба, не трожь чужого,
пусть оно и на душу легло,
ни чужой строки не трожь, ни слова,
ни чужого призрачного Рима,
ни чужого над трубою дыма,
даже если дым и был тобой,
не была для дыма ты трубой,
даже если мысль невыносима,
всё равно – упрямо – мимо, мимо —
только в своего гнезда тепло…
Будет небо – будет и крыло.
НИЩЕТА
На нищету мою пошли цветок.
Пусть будет незатейлив, одинок
и в пестрой стайке родственных цветов
пропасть в глухом забвенье не готов.
С неведомого краешка земли
мне ласточку на нищету пошли.
И будет в мире песня, будет кров,
и мир не так пустынен и суров.
Пошли хоть неба синий лоскуток,
коль не послал ни птицу, ни цветок.
Коль ты – не тот. И я, видать, не та…
Пришлась бы только впору нищета.
***
С тобой говорили о разных вещах:
об истинном, ложном в искусстве,
о сочности мяса говяжьего в щах,
о пошлом и низменном чувстве,
о том, что твой папа любил рисовать
(хорошим бы стал маринистом),
о том, что на свете есть стол и кровать,
где должно быть честным и чистым,
о том, что картины стоят у стены
(все занятость – надо повесить!),
о том, что давно жить мы вместе должны…
Но нужно домой: скоро десять.
ОДИССЕЮ
Так пел ее голос, летящий в купол…
Александр Блок
Ты будешь жить на берегу
Бискайского залива.
Толпятся волны, на бегу
бормочут торопливо.
Ты будешь жить один как перст,
без языка и правил,
с тоскою тех забытых мест,
что навсегда оставил.
Но, одинокого любя,
не дремлет Божье око,
и будет в сердце у тебя
совсем не одиноко,
и будут муку навевать
о родине далекой:
и голос петь, и очи звать
печальной Пенелопы.
ЯЩЕРКА
лист последний облетает
значит осени конец
и во рту как будто тает
кисло-сладкий леденец
лишних слов не говорила
яблок – сад
и небо – звезд
и туманы всё варила
осень-ящерку за хвост
не тяни
погибнет ночью
у ближайшего куста
потому что больно очень
жить на свете без хвоста
***
Держи меня, соломинка, держи меня.
Из песни
соломинка соломинка соло…
весло мое веселое крыло
везучее везущее былье
все сущее во мне и все мое
и стоит ли былинка горевать
суденышко мое моя кровать
а если в море ветром унесло
то ветреное выдалось число
послушай небо ангелов приют
венки сонетов ангелы плетут
поэтово святое ремесло
поэтому соломинка светло
Владислав ПЕНЬКОВ. Для ангелов и лебедей
На смерть Влада Пенькова (1969–2020)
…Всегда замираешь от прихода таких вестей – у нас ведь расширенная «ситуация контакта», и контакта не поверхностного, а глубокого, «сердечного», затрагивающего самые тонкие душевные струны.
Так сформировался достаточно большой круг людей, которые идут бок о бок с тобой, которых считаешь «своими» и за которых болит душа как за самых близких.
Чуткий к слову и к миру поэт Влад Пеньков принадлежал к этому кругу – не по длительности совместного с «Парусом» пути, не по личным знакомствам, но по отчётливости и своеобычности художественного дара – как будто нездешнего, взлетающего к горним далёким мирам и с той высоты приносящего свою, запечатленную в оболочку поэтического слова весть.
Последние стихи Влада Пенькова показались совсем необычными – как будто перешёл он куда-то, в мир «зримых слов» (пользуюсь словом писателя Николая Смирнова) ещё до завершения своего земного пути.
И мы будем перечитывать эти удивительные стихи, помнить о таланте Влада и о том, что у Бога мёртвых нет.
Родным и близким Влада Пенькова – самые искренние соболезнования.
Редакция журнала «Парус»
ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА
Не обретение – паденье
в ужасный мрак и в тёмный луч.
Моё пере- и пре-вращенье,
прошу тебя, меня не мучь,
не становись обычным светом,
простою плотью, кровью, но
излейся на меня на этом,
потустороннее вино.
Я потерял себя, ты – тоже.
Ты – тёмный жар, ты – свет ночей,
созвездье родинок на коже,
ты гибели моей ручей.
– И ты такой же. Ты потеря.
Я потеряла мир в тебе.
Бормочет истины тетеря,
глухая к нашенской судьбе.
Я быть и жить я перестала.
Ты тоже – смерть, ты тоже час,
когда на свете не застала
тупица-жизнь обоих нас.
Я жить не смею. Так хрупка я.
Ты видишь, милый, милый мой,
я для всего теперь такая —
луна обратной стороной.
...................................................
И мчался маленький кораблик.
Изольда и Тристан – и всё.
Вселенной крохотуля-зяблик
таких ни разу не спасёт.
ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ
К. Ер-ву
Так эта улочка нелепа,
полуживёт-полугниёт.
Какое дело ей до Шеппа?
Какое Шеппу до неё?
Подъезды, лавки, магазины,
и камень мокрый и нагой.
Вчера сказала тётя Зина,
чтоб я к ней больше ни ногой.
Клялась вчерашним перманентом,
что нет любви, пощады нет
и что не склеится «Моментом»
разбитый на осколки свет.
И я иду куда-то мимо,
и Шепп играет в небесах,
и грустно мне невыразимо,
ах и увы, увы и ах.
Гуляю долгими часами,
стужусь на холоде-ветру,
и – дядя с длинными усами —
потом как маленький умру.
Но есть должок пред этим светом —
осенним, нежным навсегда —
связать его навеки с Шеппом,
хотя б на долгие года.
Года молчаний. Мы любили.
Мы падали, как жёлтый лист.
Скрипят-фырчат автомобили,
в одном из них – саксофонист.
ЛЁТЧИКИ
Чен Киму
Поздно думать о белиберде.
В сердце пустота, покой и жалость.
А поедем-ка в Улан-Удэ.
Там эстрада старая осталась?
Помнишь, как лежалось нам на ней?
Как сияли звёзды, пилось, пелось.
Как тогда нам было всё видней,
и – особо то, чего хотелось.
Бороздили спутники в ночи
всё пространство космоса над нами.
Я прошу тебя – ты помолчи,
потому что надо не словами
говорить об этом, mon ami.
Просто звёзды низко пролетают,
и двоих, считавшихся людьми,
не зовут, а сразу забирают.
И летим в их стае мы, летим,
видим город, парки и эстраду,
видим крыш сверкающий хитин,
всё, что надо видеть звездопаду.
Видим вечность, взятую вот так,
взятую за хвостик и за жабры.
И не нужен вечности пустяк,
вроде наших посторонних жалоб.
Мы с тобой счастливые вполне,
мы пилоты вечности и мига,
на фруктово-ягодном вине
в космос улетающего МИГа.
ВАЛЬС ДЛЯ ЖАННЫ
Во Франции зима. Волков голодных стаи
уходят в снег по горло на охоте.
Когда отрядик лучников оттает,
достанет серым человечьей плоти.
Стоят и там и тут пустые храмы,
в них только ветра стылые напевы,
К озябшим тонким пальцам Божьей Мамы
в одном из них приникли губы девы.
Смотрю на оловянные фигурки,
мне – дважды семь. Я плачу. Я рыдаю.
Бургундские проклятые придурки
ещё узнают, что она – Святая.
А в Таллине, как всадники по снегу,
вороны по сугробам жутко скачут.
Потом взлетают с быстрого разбегу
и, Боже мой, со мною вместе плачут.
Как розы чёрные летят они, роняя
то боевые кличи, то рыданья.
И гасят свет, но ничего не зная,
смутившиеся сланцевые зданья.
ZELDA
1
Наташе
Как ты будешь одна ночевать?
Ночью холодно, страшно и сыро.
Двор, вообще-то, плохая кровать
посреди неуютного мира.
Затрепещут от ветра меха
и завоют на звёзды собаки.
Как ты спишь, балерина-ольха,
в этой летней прохладе во мраке.
Не смогу я накинуть пальто
на дрожащие хрупкие плечи,
чтоб тебя оградить от Ничто,
что назвать мне по имени нечем.
Смотрит старый философ с высот
Ничего, головою качая,
и древесный сведённый твой рот
задохнулся, ему отвечая
тихим шёпотом – танец придёт,
только утро окрасит раствором
этот синий безжалостный лёд
с философским его разговором.
2
Звёздочка, девочка, море,
берег Лазурный. А там —
в синем сиянии – горе
будет целующим ртам.
Здесь – вечеринки и танцы,
песенки, джазовый фон.
Юные американцы
юных невинных времён,
гладкие ножки, и рожки
чёртика из-за кулис.
С прелестью дикою кошки —
не говори, веселись.
Детка, мяукать не надо.
Ночь лишь однажды нежна.
Пахнет она виноградом.
Бэби, какого рожна
смотришь ты страшно и резко
парой безумною глаз.
Если сорвать занавеску,
что-то накроет всех нас.
Ну а пока всё в порядке,
сладкая плоть горяча.
Нежно касаются прядки
страшных ожогов плеча.
НИНЬЯ
В. Щ.
Древние боги столицы,
Карлос, сыграй нам про них,
Карлос, для маленькой жрицы
в храме девчонок босых.
Ты сатанински умеешь
падать созвучьями вниз,
древним богам ты согреешь
каменный древний маис.
Девочка наша разута.
Пальчики ног так нежны,
что, обнаглевшие – Puta! —
ей не кричат пацаны.
Карлос, она на работе.
Всё, чем торгует она,
это немножечко плоти
и позвоночник-струна.
Девочка спляшет, как сможет,
в девочке много любви,
ей мостовая обгложет
ноги до алой крови.
Карлос, сыграй же, чтоб веки
дрогнули древних божеств,
чтоб оценили ацтеки
девичий жреческий жест.
Крови хлебнувшие боги, —
Карлос, играй им и пой, —
пусть поцелуют ей ноги,
сбитые на мостовой.
СВЕТЛЫЙ
Я смотрю на тебя исподлобья
и чифирь наливаю в стакан.
Неужели мы оба – подобья?
Я и светлый отец Феофан?
Я не знаю ни сна, ни покоя,
я забыл, что такое покой.
Феофан, стариковской рукою
ты меня от ненастья укрой.
От дождя – сыплет пятые сутки,
от бензиновой вони шоссе.
Это ангелы? Нет, это утки
ходят в парке по сладкой росе,
перемешанной с кислой водицей
столько суток идущих дождей.
У цветов – человечии лица,
это стало немного видней
с той поры, как ты где-то и рядом,
с той поры, как мне знобко слегка
под твоим несмыкаемым взглядом
не глядящего вниз старика.
БЕЛЫЙ АНГЕЛ МИЛЕШЕВА
1
Неба синяя извёстка,
ветра синего покров.
Приглашал святой мой тёзка
отовсюду мастеров.
И пришли тогда горами —
шли под солнцем и дождём —
те, кто звался мастерами,
и пришли они с вождём.
Был он мощный и кудрявый,
очи были синевой.
Век ужасный и кровавый
богомаз прикрыл собой
от презрительного взгляда,
жало выдернул злобе.
Оттого и духам ада
до сих пор не по себе.
Знают духи – в храме белом
белый ангел, белый свет.
И крыло его вскипело,
потому что смерти нет.
Не огонь, не пламень боя,
не сверкнувшая гроза,
небо сине-голубое —
эти нежные глаза.
Пусть крылат он, словно птица,
тайну он откроет нам —
белых ангелов глазницы
мастер дал своим глазам.
2
Наверное, ветром летучим
тебя занесло в этот край,
сорвало с какой-нибудь тучи,
летящей над городом в рай.
Твой путь был не слишком-то долог.
И вот – ты теперь среди нас.
О как же смотрел Палеолог
на твой лучезарный анфас.
Дрожащие пальцы в алмазах
запутались в алой парче.
Встречал он такого – в рассказах,
и слышал про вас вообще.
Но ты – и в огне, и в покое —
ты можешь дарить, не спросясь,
не камни, не злато – такое,
что можно взлететь, помолясь.
И царь, покачнувшись от страха
– Лечу! – закричал и – взлетел
туда, где белела рубаха
того, кто с любовью глядел
на люд, на художников нищих,
на, в общем-то, тёмных людей,
на свет восхищенья – на пищу
для ангелов и лебедей.
Ольга БЕЛОВА-ДАЛИНА. Коль скоро рифма так надиктовала
***
Cиничек желтогрудых, пташек малых,
я приручу (о сколько солнца в них!) —
не снегирей: мне нынче вреден алый —
цвет непокоя зимних снов моих,
цвет боли, жажды и стыда, и гнева,
и яблока, которое Адам
не пригубил бы, если бы не Ева…
Снегирь. На крыше дома. К холодам.
***
Я, межуясь от жизни забором,
осложнённую душу лечу:
наслаждаюсь взволнованным спором
суетливых весенних пичуг.
Слабый запах цветов над лужайкой.
Пасторальный неброский покой.
Вдруг запахло тоской и Рожайкой*,
обмелевшей, как память, рекой.
А над садом, над крыш черепицей
нарочито бесстрашно парит
вольный сокол – надменная птица.
Что Гекуба ему? Что COVID?!
* Река в Подмосковье.
***
Нарушилась невидимая связь
между холмом и мной. Мой брат оконный,
любила я твоих окатов грязь —
примету беспогодиц межсезонных,
и сушь июля, и январский снег,
врачующий печали и ожоги,
и тот – особый – угaсимый свет,
что лился вечерами на отлоги.
Bо мне не отзывается теперь
твоя весна – ни болью, ни улыбкой.
Стареет коронованный апрель,
а скорый май предвидится ошибкой.
КОЛОКОЛЬЧИКИ
Колокольчики,
Колокольчики —
Ни конца вам, ни края нет…
Георгий Кольцов
Колокольчики на лугу
не глазами я – сердцем – вижу.
И чем дальше от них бегу,
тем они всё ясней, всё ближе.
Василёк им – и брат, и сват,
клевер – кум, а полынь – соседка,
у деревни, где воздух свят,
где срывала их ручкой детской.
Им однажды звонить по мне —
неизбывнее нет закона.
Отзовутся в чужой стране
колокольчики русским звоном.
В САДУ
Не засыпай: упустишь миг
рожденья чуда,
когда цикадам вторит крик
ночной пичуги,
когда жемчужина-луна —
каратов десять —
небесного коснувшись дна,
все сорок весит,
когда сливаются в одно —
как ключ и слепок,
как свет от лампы и окно —
земля и небо,
а леденцовый аромат
кустов цветущих
безбожно превращает сад
в земные кущи.
***
Сестре Лене Руцкой
До срока кто-то выпустил луну:
пускай летит медлительною птицей.
И пусть сегодня как дитя усну!
Мне детство подмосковное приснится.
Увижу васильковый океан
и Никоново – океана берег.
Там – живы – баба Клава, дед Иван,
и в боженьку с икон там просто верить.
А пироги – нахохлились в печи,
на молоке топлёном – роскошь пенки.
Там множество игрушечных причин
поссориться, чтоб помириться, с Ленкой.
Китайки там желтеют напоказ,
в их яблочках – живительные соки…
А яблоки моих усталых глаз
бессоннее луны глазниц безоких!
КУСТ СМОРОДИНЫ
Сплошь полячка с поморскою кровью,
я москвичка с увесистым стажем.
Но вот здесь мной с любовью посажен
куст смородины – как в Подмосковье.
Неказистый, кудлатый, он тоже,
вдоль забора – пусть будет «вдоль тына» —
разрастётся однажды картинно
недалёко от Эльбы и Огрже*.
Вот и я с этим краем – не вроде —
породнилась: не корнем, так – словом, —
звуки-ритмы катая по строфам,
как горошины спелых смородин.
* Реки в Чехии.
СЕРДЦЕ АРИАДНЫ
Ариадне Эфрон
Сестра… воды… пока не поздно!..
Вдруг вспомнился малютка Мур:
он на руках моих уснул,
а вечер был сутул и хмур.
В дому не топлено, промозгло.
В углу, у печки трость – Марины,
её попутчица. Вокруг
Вшенор* бродить – простой досуг:
желты холмы, но зелен луг,
и так редки кусты рябины!
Кто Бога знал – не ведал ада.
О жизни непосильный воз!
Отцова пуля, мамин гвоздь…
Воды!.. Всё тщетно. Знать, всерьёз
устало сердце Ариадны…
* Городок в Чехии, где жила Марина Цветаева.
В АВГУСТЕ
Астероид – маленькая планета,
привыкшая к движению по заданной
орбите в обществе себе подобных.
Метеорит («падающая звезда») – астероид,
оторвавшийся от коллектива и (за это)
сгоревший в атмосфере Земли.
(Из астрономических познаний автора)
Вот и август уже середину
разменял. Впрочем, к этому шло.
Я приму неизбежное зло.
Так однажды, наверно, Ундина*
в беглом свете сорвавшихся звёзд
принимала чешуйчатый хвост:
без обид, без сомнений – повинно.
Затаю ли на август обиду?
Или нас примирит звездопад?
Но я нынче, признаться, скупа
на желания. Там персеиды,
где желания и непокой…
Я почти поняла, милый мой,
в чём достоинство торной орбиты.
* Ундина (русалка) – один из астероидов главного пояса.
КОНЕЦ СЕНТЯБРЯ
Опять писать о заморозках ранних,
уставившись на мокрые холсты,
натянутые на оконных рамах:
на листья жёлтые, нет – жёлтые листы
(коль скоро рифма так надиктовала),
на бурый лес и потускневший сад,
и – слава Богу! – неизбежно алый
июлями намоленный закат.
Андрей ШЕНДАКОВ. Сквозь глубину текущих к небу рек…
***
…Как будто было не со мной:
«Весь этот мир, холмы, берёзы,