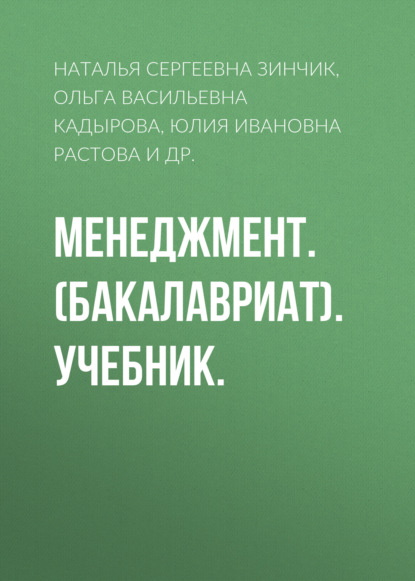Список неполезных

- -
- 100%
- +
– А вдруг он заразный? – голос женщины прозвучал почти шёпотом, но слова прокатились по комнате, как холодная волна.
– Глупости, – отмахнулся кто—то. – Неполезность – не болезнь. Но… лучше держаться подальше, на всякий случай.
Это "на всякий случай" кольнуло сильнее всего.
Бенедикт сидел, опустив взор в чашку, словно та могла укрыть его от взглядов и перешёптываний. Ему хотелось закричать: "Да ведь это ошибка! Я не делал ничего плохого!" Но слова застревали в горле.
Короткий, злой смех где—то в углу снова прорезал тишину.
– А я слышал, что пустой отчёт – знак тайного общества неполезных. Они специально так делают, чтобы расшатать основы.
– Где ты такое слышал?
– Люди говорят.
"Люди говорят". Эта фраза повисла в воздухе, словно приговор.
Бенедикт допил чай в два быстрых глотка, хотя горячий напиток обжигал язык. Встал, но не сразу решился выйти. Казалось, если он сейчас уйдёт, все взгляды пронзят его спину, и шёпот станет громче.
Он оглядел лавку. Люди сидели так же, как всегда. Кто—то с газетой, кто—то с чашкой. Но ощущение было, будто они уже на другом берегу, а он – на этом, один.
Хозяин Мортен всё так же протирал кружку, упрямо не поднимая глаз.
– Спасибо за чай, – тихо сказал Бенедикт, но ответа не последовало.
Он снова надел шляпу, колокольчик звякнул при выходе и этот звук показался ему издевательски слишком звонким.
На улице было светло, но в душу заползла темень. Слухи ширились, как круги по воде. Они перебегали от одного к другому, и каждый добавлял что—то своё. И уже никто не помнил, что в начале был лишь пустой лист, случайность. Теперь это превращалось в историю, миф, обвинение.
Бенедикт шёл медленно, чувствуя, как его собственная тень словно отстаёт от него самого и не хочет принадлежать ему. Он ощутил, будто на плечах у него висит нечто невидимое и тяжёлое, словно сам воздух стал невыносимо тягостным. Он шёл медленно, стараясь не встречаться взглядами с прохожими. Каждый взгляд теперь казался острым, настороженным, будто в каждом звучал скрытый вопрос: "Это он? Тот самый?".
У угла улицы Полезных дел он увидел старушку—швею Фелтон. Её звали госпожа Фелтон, и весь квартал почитал её за неустанный труд. Она сидела почти всегда у окна своей мастерской. Руки её не знали покоя, игла в пальцах мелькала быстрее мысли, а глаза, хоть и старые, замечали каждую неровность. Для Бенедикта она была своего рода нравственным эталоном – строгая, но справедливая. Он всегда уважал её, и несколько раз именно её советы помогали ему поправить отчёт или выбрать правильное слово.
Сегодня же она стояла у порога мастерской, в окружении нескольких соседок и мальчишек, что дразнились и болтали.
– А, вот и он, – сказала госпожа Фелтон, заметив Бенедикта. Голос её прозвучал негромко, но отчётливо, и сразу же все обернулись.
Он снял шляпу, чуть поклонился, надеясь на её привычное доброе приветствие.
Но старушка прищурилась и, чуть наклонив голову, произнесла с улыбкой, в которой было больше железа, чем тепла:
– Знаешь, милый, я всегда подозревала, что твоя аккуратность чересчур.
В толпе раздался лёгкий смешок, ещё не злой, а скорее удивлённый.
Бенедикт замер, не понимая.
– Чересчур? – повторил он тихо.
– Да—да, – кивнула она и игла блеснула в её пальцах, будто восклицательный знак. – Кто слишком ровно пишет, тот что—то скрывает. Всё уж больно чисто у тебя было, без единой кляксы. И вот – пустой лист. А я ведь говорила себе, что не бывает такого, чтобы всегда идеально.
Толпа засмеялась громче. Смех переливался, словно звон монет, от одного к другому. Кто—то хлопнул ладонью по колену, мальчишки прыснули, прикрывая рты.
Для Бенедикта эти слова прозвучали как удар. В его памяти вставали картины прежних лет. Как он гордился тем, что отчёты у него всегда были настолько образцовые, что даже госпожа Фелтон однажды сказала: "У тебя почерк, словно ниточка – ровный и надёжный". Эти слова тогда были для него наградой.
Теперь же она сама их обратила в насмешку.
– Госпожа Фелтон, – попытался он возразить, голос дрогнул, – вы же знаете, я всегда старался… я ничего не скрывал.
– А кто ж признается, что скрывает? – отозвалась старушка, и её глаза сверкнули хитрым блеском.
Толпа снова хохотнула.
Бенедикт чувствовал, как из—под ног уходит земля. Казалось, что вместе со словами этой женщины рушится последняя опора – уважение тех, кто для него всегда был примером. Если уж она сомневается, то что говорить об остальных?
Он хотел ещё что—то сказать, но к горлу подкатил ком. Толпа вокруг шепталась и смеялась, глядя на него с любопытством, словно он стал частью какой—то новой уличной забавы.
– Видите, как он краснеет, – сказала одна соседка. – Значит, правда есть что скрывать.
– А пустой лист – это, может, и есть его истинное лицо, – добавил другой голос.
Смех усилился, и теперь звучал уже без всякого стеснения.
Бенедикт чувствовал, что должен уйти, иначе просто не выдержит. Он поспешно обратно надел шляпу, кивнул, но никто не ответил. Только госпожа Фелтон снова вскинула иглу и, улыбнувшись, сказала почти добродушно:
– Ладно, не держи зла, милый. Всё равно каждый лист когда—нибудь обнажает то, что скрыто.
Её слова прозвучали как предсказание. Толпа ещё раз тихо засмеялась, но уже более сдержанно.
Бенедикт быстрым шагом пошёл прочь. Его сердце гулко билось, в ушах звенели отголоски смеха. Уважение, которым он так дорожил, обернулось в насмешку. И боль от этого была сильнее, чем холодность посетителей и хозяина в чайной лавке или равнодушие соседей утром.
Площадь, через которую Бенедикту приходилось идти домой, всегда была шумной. Здесь торговали фруктами, спорили о ценах на молоко, а дети устраивали свои бесконечные игры – бегали, кричали, ловили друг друга. Обычно этот гам казался ему отрадным. Он любил смотреть, как малыши с азартом повторяют за взрослыми, придумывают новые правила, делают всё "по—настоящему".
Сегодня шум был громче обычного. Когда Бенедикт вышел на площадь, он заметил стайку мальчишек и девчонок в самом её центре. Они построили импровизированную "сцену": несколько ящиков из—под яблок, перевёрнутых набок, и тряпичный флаг, привязанный к палке.
– Внимание, граждане! – выкрикнул худой мальчишка с серьёзным видом. Он залез на ящики и изображал чиновника Комитета. Он выпятил грудь, нахмурил брови и важно размахивал деревянной линейкой. – Сегодня у нас важное дело – проверка отчётов!
Толпа малышей радостно завизжала.
Другой мальчонка, постарше, выскочил вперёд, размахивая белым платочком. Он согнулся, нацепил на нос очки из проволоки, явно подражая Бенедикту. В руках он держал чистый лист бумаги.
– Я – Бенедикт, – тонким голосом произнёс он, вызывая хохот сверстников. – Я полезный, очень—очень полезный! Только вот мой отчёт… – он театрально развернул лист, на котором не было ни единой строчки. – Ой! Пустой!
Дети захохотали.
– Неполезный! – крикнул один.
– Пустой! – подхватил другой.
– Я неполезный, я пустой! – радостно выкрикивал "Бенедикт", бегая по кругу и размахивая листом, словно флагом.
Подлинный Бенедикт застыл на краю площади. Кровь отхлынула от лица. Сначала он хотел ускорить шаг и пройти мимо этого зрелища. Но детский хохот был слишком звонким, слишком заразительным. Он слышал каждое слово.
– В книгу его! – провозгласил "чиновник", важно записывая что—то воображаемой ручкой. – Неполезный номер один!
– В книгу! В книгу! – скандировала стайка, прыгая и хлопая в ладоши.
Бенедикт попытался идти дальше, втянув голову в плечи. Но дети уже заметили его. Кто—то первый ткнул пальцем:
– Смотрите, это он! Настоящий!
И вдруг все разом закричали:
– Неполезный! Пустой!
Маленькие руки подняли вверх белые платочки и клочки бумаги – откуда они их набрали? Может, просто изорвали ненужные листы. И эта импровизированная "метка" взвилась над площадью, как снежный вихрь.
Они побежали за ним гурьбой, визжа от восторга.
– Вот он идёт, – кричал "чиновник", бегая позади. – Сдаёт пустоту!
– Я пустой, я пустой! – наперебой орали дети.
Кто—то из них бросил в Бенедикта бумажный комок. Он ударился в плечо и развернулся, расправившись в воздухе. Белый лист лег прямо к его ногам. За ним полетели другие.
Бенедикт ускорил шаг, потом почти побежал. Смех и визг преследовали его. Белые бумажки сыпались на землю, крутились в воздухе. Казалось, вся площадь превратилась в белое облако сплошной насмешки.
Игра, придуманная детьми, была комичной и страшной одновременно. Комичной – потому что малыши, ещё толком не понимая сути, подражали взрослым. Страшной – потому что именно в их игре закреплялся новый образ. "Неполезный" уже стал персонажем, маской, которую можно надеть и высмеивать.
Он наконец свернул в узкий переулок, дети не решились бежать туда дальше. Их крики стихли, но эхом ещё долго звенели в ушах: "Я неполезный, я пустой!"
Бенедикт остановился, тяжело дыша. Белый клочок бумаги прилип к его ботинку. Он нагнулся, хотел сорвать его, но рука замерла. Бумага казалась холодной, как приговор.
Он всё же отцепил её и посмотрел. На листе не было ничего, только чистая поверхность. Та самая пустота, которая теперь преследовала его везде.
Бенедикт сжал бумагу в кулак, потом разжал пальцы. Ветер подхватил смятую белизну и унёс дальше.
Он шёл домой, и каждый шаг отдавался мыслью, что если даже дети уже все знают и дразнят, значит, образ закрепился. Значит, пустой лист стал не ошибкой, а судьбой.
Наступил долгий вечер, словно сам город медленно выдохнул накопленные за целый день заботы и теперь отдыхал. В окнах домов загорались ровные огоньки, а с улиц доносился приглушённый шум – разговоры, скрип тележных колёс, лай собак. У Бенедикта дома всё было тихо. Слишком тихо.
Он сел за стол, на котором лежал новый, безукоризненно белый лист бумаги. Чистота страницы пугала его, будто перед ним разверзлась пропасть. Но в то же время именно этот лист был его шансом. Если он заполнит его чем—то, хоть малым, то сможет доказать – и себе, и всем, – что он по—прежнему полезен.
Он открыл чернильницу, осторожно обмакнул перо и, сжав зубы, начал писать.
"Сегодня я вымыл чашку".
Он посмотрел на строчку. Чернила ещё не успели подохнуть и блестели.
– Да, чашку я действительно вымыл, – пробормотал он. – Это ведь полезно? Без чашки и чая не выпьешь.
Но чем дольше он смотрел, тем абсурднее казалась запись. Вымыть чашку? Это ли достижение? Разве ради этого люди стоят в очередях, хвастаются отчётами о спасённых яблоках и подсчитанных голубях?
Он зачерпнул ещё чернил и перечеркнул строчку.
Вторая попытка вылилась в следующую строку:
"Смахнул пыль с полки".
Он огляделся. Да, полка у стены действительно чистая. Но мысль снова оказалась жалкой, смехотворной.
"Смахнул пыль". Разве это звучит как вклад в общее благо? Разве это не просто обязанность?
– Нет, так не пойдёт, – сказал он вслух.
Он попытался вспомнить что—то более значительное. Может, он помог соседу донести сумку? Но тот сосед сегодня даже не взглянул на него. Может, он придержал дверь в чайной лавке? Но никто этого не заметил.
Он снова склонился над листом и написал:
"Собрал свои носки в корзину".
Перо дрогнуло, чернила расплылись кляксой. Бенедикт всхлипнул – то ли от усталости, то ли от смеха. Даже ребёнок, дразня его на площади, придумал бы что—то более весомое.
Он вытер перо, но чернила уже капнули на страницу, оставив еще одно уродливое пятно.
– Чёрт побери… – прошептал он.
Он хотел переписать начисто, но рука предательски дрожала. Слова рождались нелепые, неубедительные:
"Проверил, что свеча не догорела".
"Завернул хлеб в бумагу, чтобы не засох".
"Поправил стул, чтобы он не качался".
Каждая строка выглядела жалкой, как подделка. Он перечёркивал их, потом снова писал новые, всё мельче, всё короче. Бумага превращалась в поле битвы. Сплошные линии, кляксы, судорожно выведенные буквы, которые уже и сам он с трудом разбирал.
Иногда ему чудилось, что перо скребёт не по бумаге, а прямо по его нервам.
– Нет, нет, всё не то, – твердил он.
Он облокотился на стол, закрыл лицо руками. В ушах звучал смех детей, слова старушки—швеи, холодные голоса соседей. Всё повторялось, будто издёвка: "Неполезный! Пустой!"
Он снова взглянул на лист. Там уже не было ни чистоты, ни порядка. Чёрные линии пересекались, пятна разрастались. Это было не похоже на отчёт, а скорее на грязное признание в бессилии.
Бенедикт задумал разорвать лист, скомкать и бросить в корзину. Но рука замерла. Он заметил, что в этой уродливой странице есть правда. Не о делах, не о полезности, а о нём самом – растерянном, сломленном, неспособном придумать хоть одну весомую строчку.
Он оставил лист на столе. Чернила блестели в свете лампы, словно оживали и шептали: "Вот оно, твоё настоящее лицо".
Бенедикт откинулся на спинку стула. Впервые за весь сегодняшний день он не пытался оправдываться. Он просто смотрел на уродливую страницу и понимал, что теперь его отчёт действительно полон. Полон клякс, исправлений, отчаяния. Полон пустоты, которая, оказавшись записанной, стала заметнее всякой строки.
***
Следующее утро было свежим, но тревожным. Бенедикт вышел из дома с бумагой в руках. Лист, испещрённый заметками и кляксами, казался ему доказательством, что он всё—таки не бесполезен. Пусть записи выглядели не так идеально, как раньше, но в них была одна лишь правда. Он ведь действительно вымыл чашку, смахнул пыль, поправил стул.
"Если я покажу это соседям, – думал он, – они поймут, что я исправился. Я ещё могу быть полезным".
У калитки вновь стояла группа соседей, обсуждая свои отчёты. Один хвалился, что помогал грузчику, другой – что рассортировал гвозди по размерам. Бенедикт подошёл и, немного запинаясь, протянул им свой лист:
– Посмотрите… вчера я составил новый отчёт. Чтобы… ну, чтобы показать, что я не совсем… – он смолк, не находя нужного слова.
Соседи переглянулись. Женщина с туго затянутым платком взяла лист, поднесла к глазам и начала читать вслух:
– "Протёр перо у кактуса, чтобы воздух был полезен"… – она замерла на секунду, а потом фыркнула.
Другой сосед громко рассмеялся:
– Это что, шутка такая? Полезность для воздуха! А может, ты ещё и швабру проветрил, чтобы улица засияла?
Толпа захохотала. Кто—то захлопал руками, будто услышал остроумный анекдот.
Женщина продолжила:
– "Собрал носки в корзину". – Она едва выговорила, смех душил её. – Это серьёзное дело по—твоему? Это и есть твоя польза?
– Да он, наверное, издевается! – выкрикнул мужчина с рыжей бородой. – Хотел показать, что вся наша система смешна!
– Ну, если так, то он ещё опаснее, чем мы думали, – добавил другой. – Сначала пустой лист, теперь детский лепет. Завтра вообще напишет: "Покашлял в платок".
Соседи переговаривались наперебой. Смех становился всё громче, и уже трудно было различить, кто что говорит. Слова сливались в хор издёвки.
Бенедикт стоял посреди людского круга и чувствовал, как у него подкашиваются колени. Он попытался возразить:
– Но… ведь это тоже дела. Пусть мелкие, но дела. Разве порядок дома – не полезность? Разве чистота…
– Чистота! – перекричала его женщина в платке. – Неужели кто—то напишет в отчёте "подмёл за собой крошки"? Может, и это заслуга?
Соседи засмеялись ещё громче.
Рыжебородый вернул ему лист, но с такой снисходительной улыбкой, что это было хуже пощёчины:
– Держи. Это не отчёт, Бенедикт. Это детский лепет. С такими бумажками только в детский сад.
Бумага дрожала в его руках. Чернила, кляксы, кривоватые строки – всё это вдруг стало ещё уродливее под спудом их смехом. Лист, на который он возлагал большую надежду на оправдание, превратился в улику его бессилия.
– Но я ведь старался… – вырвалось у него.
– Старался! – эхом повторил рыжебородый, и снова раздался хохот. – Старался собрать носки! Ох, Бенедикт, ты и вправду особенный.
Толпа разошлась, продолжая перешёптываться. Кто—то ещё раз громко процитировал про "перо у кактуса", и снова послышался смех.
Бенедикт остался у калитки один, с листом в руках. Он смотрел на кривые строчки и не мог оторвать глаз. Вчера они казались слабым, но все же шансом. Сегодня они стали его позором.
Он прижал бумагу к груди, будто хотел спрятать её от чужих глаз. Но теперь такое спрятать уже стало невозможно. Слова вырвались наружу, и теперь весь город знал его "полезность".
И впервые Бенедикт почувствовал, что даже собственные записи могут быть повернуты против него.
Он ушел домой и просидел там в одиночестве до самого вечера. А вечера в этом городе наступали всегда одинаково – зажигались фонари, огни витрин разливались тёплым светом, в окнах появлялись силуэты семей, собравшихся за ужином. С улиц доносились голоса, смех, иногда звон ложек о фарфор. Город жил, дышал, был полон привычного уюта.
Бенедикт вышел на главную улицу и сразу почувствовал, что его шаги звучат слишком громко, будто каждый камень мостовой стучал: "Вот он идёт". Он шёл медленно, словно проверяя – а не изменилось ли что—то. Но всё выглядело по—прежнему. Люди беседовали, торговцы прилавков подзывали покупателей, мальчишки носились с обручами.
И все же пара женщин, обсуждавших покупки, осеклись, когда он проходил мимо. Одна кивнула другой и сделала вид, что поправляет корзину. Мужчина, сидевший на скамье у лавки, сдвинулся чуть в сторону, освобождая место, но взгляд его был холоден.
Бенедикт попробовал зайти в булочную. Обычно хозяин встречал его радостным возгласом: "А, господин Бенедикт, свежие булки, как вы любите!" Сегодня же булочник даже не поднял головы. Он молча поставил корзину на прилавок, и голос его был сух, как черствый хлеб:
– Берите, что нужно.
Бенедикт купил батон, но, уходя, обратил внимание на то, что ему не сказали ни "спасибо", ни "до свидания".
Он прошёл ещё немного и увидел компанию соседей у ворот дома. Они смеялись, оживлённо делились новостями. Но как только он приблизился, разговор оборвался. Несколько человек сделали вид, что смотрят куда—то в сторону, кто—то поправил воротник. Бенедикт кивнул им, но в ответ не получил ни одного взгляда.
Он продолжал идти, и город, казалось, отступал от него. Витрины сияли, но свет не касался его. Голоса звучали, но не для него. Даже голуби, которых он всегда подкармливал хлебными крошками у фонтана, вдруг разлетелись раньше времени, будто почувствовали угрозу.
Бенедикт остановился. Его сердце билось быстро, будто он только что быстро бежал, хотя его шаги наоборот были непривычно медленные. Он пытался убедить себя в том, что всё это случайности, ему кажется, он слишком остро воспринимает. Но в глубине души он уже знал – никакая это не случайность.
Вчера он был одним из них. Его приветствовали, с ним шутили, угощали чаем. Сегодня – он изгой. Всё изменилось за один день. Нет, за один пустой лист.
"Из—за этого белого листа…" – думал он. – "Я потерял место в их глазах. В их разговорах. В их жизнях. Они смотрят сквозь меня. Я стал прозрачным. Нет, хуже – я стал заметным только своей пустотой".
Он прошёл мимо кафе, где когда—то любил сидеть у окна. За столиком смеялась компания. Он почти машинально сделал шаг к двери, но замер. Он знал, что, если войдёт, смех оборвётся. И чашку ему подадут так же сухо, как сегодня хлеб.
Он развернулся и пошёл дальше.
Улица была полна огней, но ему казалось, что он идёт по тёмному коридору. Все улыбки, все голоса, весь свет – словно сделались отрезанными от него невидимой стеной.
И только теперь он впервые ощутил одиночество не как временное недоразумение, а как приговор. Это не досадная ошибка, которую можно объяснить, исправить. Нет. Это новый порядок вещей.
"Я больше не "один из". Я – "тот самый". Неполезный. Человек с пустым листом. Отныне на мне клеймо, и свести его невозможно. Я мог бы написать тысячу строк, переделать тысячу дел, но они будут видеть только то, что уже записано в их книге. Я уже другой. И они это знают. А значит, и я должен это понимать".
Бенедикт шёл всё дальше, не разбирая дороги. Шум города не касался его. Даже собственные шаги он слышал глухо, будто шёл не по мостовой, а по пустыне.
Он подумал о своём доме, о столе с кляксами, о бумаге, что ждала новых строк. Но впервые ему показалось, что дальше писать бессмысленно. Ведь даже если он заполнит сотни листов, они уже все решили за него.
"Вчера я был одним из них. Сегодня – изгой. Всё из—за пустого листа".
Он повторял эту фразу про себя, пока она не превратилась в ритм его шагов.
И город вокруг, полный огней и голосов, казался теперь чужим и враждебным.
***
Ночь накрыла город ровным колпаком тишины. Лишь редкие шаги сторожа да шелест ветра в ставнях напоминали, что мир не уснул окончательно. В комнате Бенедикта горела маленькая свеча, оставленная на прикроватном столике. Он долго ворочался, не находя покоя, пока наконец усталость не придавила его веки.
Сначала ему показалось, что он снова стоит в зале Комитета. Но зал был не тот – потолок уходил в бесконечную высоту, колонны были толсты, как стволы вековых деревьев, и тянулись ввысь без конца. Между ними сидели чиновники – огромные, неподвижные, как статуи. Их лица были вырезаны будто из мрамора, но глаза светились жёлтым огнём.
Бенедикт взглянул вниз и понял, что сам он стал крошечным – меньше букашки. А перед ним, наклоняясь, прямо с потолка, медленно опускался белый лист. Огромный, как фасад целого дома. Он закрывал собой всё, заслонял колонны, и, когда коснулся пола, поднял вихрь пыли.
Чиновники сдвинулись. Их движения были величавы и ужасны. Один из них, наклонясь, заговорил голосом, гулким и металлическим:
– Гражданин Бенедикт. Ваш отчёт.
Голос эхом прокатился по залу, так что уши заложило.
– Но он же… пустой… – попытался возразить Бенедикт, но его голос был тонок, как писк комара.
– Пустой, – повторил второй гигант, и это слово, как скала, упало с высоты.
Толпа появилась внезапно. Из—за колонн, из щелей в полу, с балконов хлынули жители города. Они были вдвое выше обычного роста, и каждый держал в руках белый лист, которым размахивал, словно флагом. Листы шелестели, хлопали, и этот звук сливался в один бесконечный смех.
– Пустой! Пустой! – скандировала толпа.
Дети подбежали ближе всех. Один, изображая чиновника, поднял воображаемое перо и грозно объявил:
– Мы заносим его в Список!
Другой, изобразив самого Бенедикта, комично согнулся, протянул вверх пустую страницу и завыл тонким голосом:
– Я неполезный, я пустой!
Толпа взорвалась хохотом.
Бенедикт пытался закричать, что это всего лишь сон, но его голос утонул в шелесте белых страниц.
И тут из середины толпы вышла старушка—швея. Она была огромна, как башня. В руках у неё блестела игла, и нить за ней тянулась длинная, словно верёвка. Она подняла Бенедикта двумя пальцами, как тряпичную куклу, поднесла к лицу и прищурилась:
– Я всегда говорила – слишком ровно пишет. А значит, что—то скрывает.
Толпа снова загоготала.
Старушка поднесла его поближе к глазам и начала вышивать прямо у него на лбу. Игла входила и выходила, оставляя огненные следы. Каждое движение сопровождалось словом, произносимым толпой.
– Не… – укол.
– По… – укол.
– Лез… – укол.
– Ный! – последний укол.
И нить засияла на его коже красным шрамом.
Бенедикт почувствовал, что на лбу у него появилось слово, огромное, горящее, видимое всем. Он закрыл лицо руками, но ладони тут же стали абсолютно прозрачными. Толпа захохотала ещё громче.
Теперь даже голуби кружили над ним, держа в клювах маленькие белые листочки и осыпая его ими сверху, как снегом. Листки падали, липли к его плечам, к ногам, пока он не оказался по шею в белом море.
– Неполезный! – кричала толпа. – Неполезный!
Он пытался выплыть, но бумажное море было вязким, как клей. Огромный чиновник наклонился и сказал, заполняя всё пространство своим шёпотом:
– Твой отчёт навсегда пуст. Пустота – твоя вина.
И весь зал качнулся, словно это была клетка, и белые листы полетели, как стая птиц, закрывая ему лицо, рот, глаза.
Бенедикт вскрикнул и подскочил на постели. Свеча уже догорела, в комнате было темно. Пот струился по лбу, по спине. Он дрожал, будто только что бежал по лестнице до самого неба.
Он коснулся лба. Там не было ни слова, ни шрама, только холодная кожа. Но в ушах всё ещё звенел смех толпы. Он не мог от него избавиться – словно этот злой смех поселился где—то глубоко внутри.
Бенедикт зажёг новую свечу. Пламя качнулось, озаряя стены. На столе лежал измятый лист с кляксами и перечёркнутыми словами. Он посмотрел на него и содрогнулся. В колеблющемся свете кляксы казались вышитыми буквами.