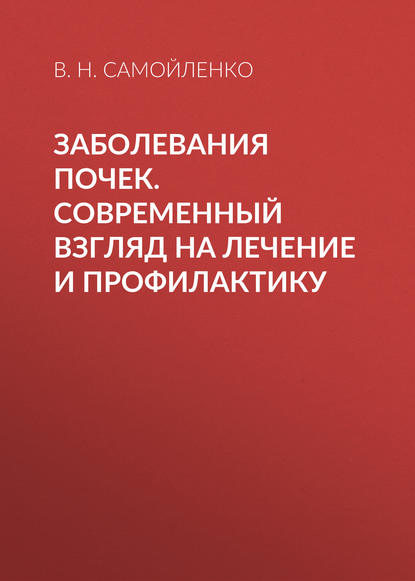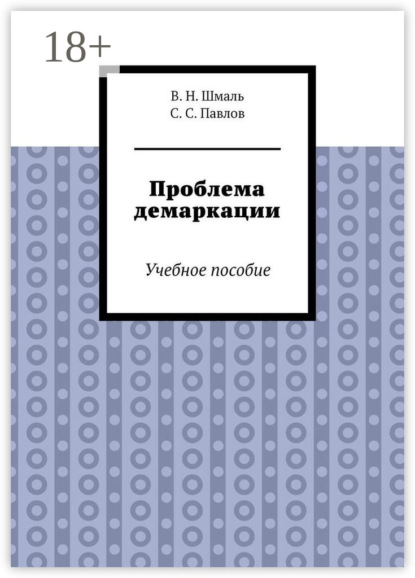- -
- 100%
- +

1. Русская сказка – Леший (эпическое сказание)
Жил-был в посаде березовом богатырь Добромир. Дом у него – изба ладная, срублена из бревен белоствольных, как само утро весной. Весна уж пришла, снег сошел, под полом завалинка снята -чтоб ветерок просушил доски да мыши не завелись.
Сидел Добромир на скамейке, сапоги маслом смазывал, кольчугу чинил. А жена его, Мирослава, из печи борщ доставала – наваристый, духмяный, с борщевиком, капустой да свеклой. Поставила на стол глиняный горшок, ложку деревянную рядом. Добромир понюхал, кивнул, что сытно, да спрошал:
– А мяса-то чего в борще нету?
А Мирослава улыбнулась, и с усмешкой отвечала:
– Али праздник сегодня какой? На праздник будет и мясо. А пока – зеленью живи, да живот береги.
Не успел Добромир слово вставить, как в дверь постучали. Заходит в избу старый его товарищ, богатырь Святогор – плечист, борода с проседью, взгляд – как гром с весенней тучи. Сел на лавку, поклонился Мирославе и говорит:
– Князь зовет нас в терем. Дело важное.
Не стал Добромир возражать. Надел рубаху под кольчугу, шлем латный на голову, меч за пояс, щит в руку, копье на плечо. Вышли они из ибенки.
Деревня жила своим, привычным, неторопливым ходом. Воздух стоял теплый и пах молодой травой, влажной землей и чуть-чуть дымком – таким, какой бывает только весной, когда печи топят уже не ради тепла, а чтобы борщ сварить, да самовар вскипятить. На одной улочке, под забором, сидели трое мальчишек, терзали балалайку, да с детским задором выводили частушки – про козла, что бабку боднул, и про кур, что по избам ходят. Смеялись, перекрикивали друг друга, а девчонки в ответ кривлялись с крылечек.
У одной избы, на ступенях, девчушка в рваном сарафанчике задумчиво играла в матрешку, вынимая из большой все меньшие и будто удивляясь каждый раз, как они туда влезают. Рядом спал щенок, свернувшись клубком на солнцепеке. Из соседнего окна, с вышитыми занавесками, неспешно тянулся дымок – это самовар дышал, пыхтел, звал кого-то на чай. Из окна доносился стук чашек и неспешная беседа – хрипловатый голос старика и певучий голос женщины. Весна, солнце, да веселый люд – будто сама земля проснулась и тянулась к жизни.
Отошли за посад, прошли за частокол – и ступили на пологий холм, поросший еще прошлогодней желтой травой, что уже местами пробивалась свежей зеленью. Ветер стал шире, не такой домашний – с простором. С вершины открывался вид на широкое поле, залитое солнцем, словно золотом. Там парни и девицы водили хороводы, смеялись, пели песню про жаворонка, что весну принес. Девицы венки плели – из первых цветов и сухих трав, из одуванчиков да веточек ивы, косы украшали. Кто-то играл на рожке, и звук был такой, будто сама весна уговаривала землю растаять до конца, пробудиться.
На самой вершине холма возвышались каменные стены – древние, серые, но живые. Это был детинец княжий, старый кремль. Стены обросли мхом, но стояли крепко, и бойницы в них, словно прищуренные глаза, глядели вниз на поля, деревню, на все, что подле. У ворот, где резные створки были подперты брусьями, стояли стражи в кольчугах – суровые, с обветренными лицами. Один из них узнал богатырей, шагнул вперед, коротко поклонился:
– Князь ожидает вас. Проходите!
И повел их внутрь – сквозь ворота, по вымощенному булыжником двору, мимо конюшен и деревянных палат, к терему с крыльцом, выкрашенным в красный. Над крыльцом – резьба, старинная, вьющаяся, как лоза, а на двери – кольцо железное, тяжелое, как у древнего сундука. Там, в тереме, их уже ждал князь, встревоженный, но все еще державший себя с достоинством.
– Пропала, – говорит, – дочь моя. Видели ее у леса, а дальше – ни слуху, ни духу. Думаю, леший ее унес – за жену вздумал взять, да детишек наплодить. Беды не хочу. А воинам моим с лесной нечистью не совладать.
Добромир со Святогором переглянулись – молча, по-богатырски. Кивнули князю: пойдем, разыщем.
Вышли богатыри из терема – серьезные, задумчивые. Солнце было в зените, и яркое солнце окрашивало в золото кремлевские стены, словно покрывало благословения или предостережения. По двору прошел теплый ветерок, принесший с собой запахи – древесной смолы, пыли и ладана, что по вечерам витал над городом из храмов.
Добромир, глядя вдаль, к лесной кромке, тихо молвил, будто себе под нос, но твердо:
– Надо бы лешего задобрить, подношение принести. Угостить духа, а там глядишь – и отпустит он девицу живую, целую.
Святогор остановился, обернулся к нему и будто топором отрубил:
– С нечистью не дружат. С нечистью сражаются. И да поможет нам в том Господь Всемогущий.
Сказал – перекрестился. Добромир нахмурился, но спорить не стал. Уж такой Святогор – прямой, как древо сруба.
Они направились к храму святителя Николая, что стоял на пригорке, обнесенный беленым частоколом, с синими куполами, что словно капли небес свисали над миром. К храму вела тропа, протоптанная и утоптанная – крестьяне шли туда с каждым горем и каждой радостью.
Когда подошли, остановились у ворот. Сняли шлемы – с уважением и благоговением. Святогор приложил ладонь к сердцу и тихо пробормотал молитву. Трижды перекрестились, трижды в пояс поклонились – как положено. Тишина стояла у храма, лишь птицы в ветвях перекликались и где-то вдали звякал колокольчик на шее у теленка.
Внутри храма было полутемно, только лампады мерцали у икон, отбрасывая дрожащие тени. Воздух был густ от ладана, и в этом запахе будто витало нечто большее, чем просто смола – сама вера, сам дух народа. На стенах – образа, старые, но светлые, лики святых с проницательными глазами. И перед каждым образом лежали подношения – хлеб, яйца, узелки с солью, все, что люди приносили в надежде на помощь или в благодарность.
К ним вышел служитель – седой, в подряснике, с тихой поступью. Выслушал, не перебивая. Лишь кивнул, понял.
– Святую воду хотите? – спросил негромко.
– Надо, – ответил Добромир. – В дело великое идем.
– Против нечисти? – уточнил служитель.
– Против нее, – молвил Святогор. – Ради княжьей дочери – Ольги. Ради чести людской.
Служитель прошел в алтарную, вернулся с глиняной бутылью. Та была обвязана берестяной плетенкой, чтобы не расплескалась в дороге. Подал с молитвой:
– Сей водице – сила велика. Не в самой воде, а в вере. Если вера крепка – никакая нечисть не устоит. Да хранит вас святитель Николай.
Поклонились богатыри еще раз. Поблагодарили, вновь перекрестились и вышли – не торопясь, молча, будто несли с собой не только воду, но и частицу святого духа, что теперь был с ними в каждом шаге.
Дорога вилась меж перелесков, словно змея, затаившаяся меж холмов. То узкая, то шире, то поднимется к редкому сосняку, то уйдет в низину, где под сапогами чавкали прошлогодние листья и вода из лесных ключей. Весна уже брала свое – снег сошел, но в низинах хранилась сырость, воздух стоял насыщенный, полон запахов гнили, коры и пробуждающейся жизни.
Вокруг – то березка склонится, будто шепчет что-то, то ель, старая и мшистая, будто следит за каждым шагом. Сквозь ветви пробивалось солнце – пятнами, золотыми окнами на земле. Пели птицы: синицы, дрозды, где-то дальше – жаворонок пробовал голос. Все звенело, все жило.
Добромир шел, глядя по сторонам – не спеша. Он вел, Святогор следом шел, шаг твердый, ухо – к каждому звуку. На опушке остановились. Добромир подошел к кривой, скрючившейся рябине. Красные ягоды все еще висели – сухие, сморщенные, словно глаза старухи. Никто не тронул – ни птица, ни зверь.
Он снял мешок с пояса, наполнил – бережно, не спеша. Плоды прошлого года. Воронье обошло стороной, а дерево с них не сбросилось. Это, считал он, знак. Да и знал Добромир: леший рябину почитает. Не как пищу, как знак. Мирное подношение. Мир за мир.
– Гляди, – молвил он Святогору, – не к бою все идет. Леший – не бес. С ним, как с речкой: не по течению – утопит, по течению – довезет.
Святогор хмыкнул, но не стал спорить. Он знал: если Добромир берет рябину – значит, так надобно.
Дальше пошли в лес. Вошли – и будто порог переступили. Мир сменился. Деревья сомкнулись над головой – чаща пошла, темная, влажная. Мох под ногами – мягкий, пружинистый. Капли с веток падали на шлемы. Где-то поодаль журчал ручей, по нему прыгали комары, как по зеркалу. Грибы под пнями, паутина меж сучьев. Тут и воздух другой – тягучий, с оттенком болотины и гари, будто кто вглуби разжег трут.
Из кустов вдруг – хруст. И медведь вывалился. Худой, взъерошенный, шерсть клочьями, глаза – злые, как у человека, что не выспался. Зарычал, поднялся на задние лапы. Но богатыри не отпрянули.
Святогор шагнул вперед, щит поднял, щелкнул по нему рукою – звон, будто гром. Добромир гортанным голосом крикнул, как пастух на волка. Медведь застыл, зыркнул, и, решив, что лучше жить, чем геройствовать, – развернулся, затрусил прочь, ломая кусты.
Следом – рысь. Бесшумно, как тень. Пронеслась сбоку, скользнула меж деревьев, только глаза в траве мелькнули, да заяц, обмякший в зубах, – и тишина.
– Живет лес, – пробормотал Добромир, вглядываясь в чащу. – Не пустой он.
– А нам сквозь него идти, – отозвался Святогор. – Не к лесу пришли – к тому, кто в нем живет.
К вечеру дошли до болот. Солнце клонилось к горизонту, небо окрасилось в охру и золото, будто мир застыл в теплом дыхании свечи. Воздух стал плотнее, пах мхом, старой водой, чем-то застоявшимся, но не зловещим – древним, как воспоминание.
Болото встретило тишиной. Комары уже вились стайками, лягушки пели свои песни, редкие птицы кричали протяжно, будто кого звали. Меж кочек и стоячих луж дрожала зыбь, отражая закат, как зеркало. Над водой – пар, над паром – ржавые травы, мох на сваях, коряги, похожие на скрюченные пальцы.
А в глубине болота – изба. Кривобокая, с покосившейся крышей, одна нога на кочке, другая – в воде. Казалось, она дышит, покачивается на дыхании земли. Окна светились тускло, будто кто-то внутри держал не свечу – жар души.
Подошли. Дверь открылась сама собой, без скрипа, тихо, как если б давно ждала. Внутри пахло сушеными травами, печеным тестом и дымом. На лавке – старуха. Спина горбата, глаз один косит, другой – будто в прошлое смотрит. Голос – скрип половиц, но теплый.
Добромир шагнул вперед, открыл мешок с рябиной, поклонился низко:
– Не от бедности, бабушка, а от чистого сердца. Чтоб с миром.
Яга прищурилась, лицо ее – то как кора, то как мамины морщины. Улыбнулась. Взяла рябину бережно, как дитя.
– Ох, знал ты, чем угостить. Не хлеб мне нужен, не злато. А вот такое – по сердцу. Спасибо, добрый.
Печь натопила, полати постелила – с сеном, с подушками, пахнущими сухими цветами. Поставила на стол глиняные миски, налила травяного отвара – горького, но живого. К гостям – с уважением, как к тем, кто прошел дорогу и не потерял себя.
– Где лешего искать? – спросил Святогор, не снимая руки с меча.
Старуха рассмеялась негромко, хрипло, будто ветер в трубе.
– Эй, ты все о битве, да о лезвии… А с лешим не так. Его не победишь – его надо понять.
Она клюкой постучала в пол, потом ткнула ею в запотевшее окно.
– Там ищите. Где вода стоит, где трава не растет. Где даже птица обходит стороной. Там его гнездо.
Утром тронулись в путь. Болото встретило их глухим дыханием – ни ветра, ни птиц. Только хлюпанье под ногами, да редкий всплеск – будто кто-то в воде шевельнулся. Небо было свинцовым, затянутым, как похмелье. Меж корявых деревьев – туман, серый и вязкий, словно сгустки гнилого молока. Казалось, сама земля тут спит, но видит дурной сон.
Шли молча. Мхи – багровые, вода – черна, а воздух – тяжел, как перед грозой. И вот, из глубины, где и дороги нет, раздалось:
– Уходите…
Голос сиплый, древний, будто не человек говорит, а осока. Не крик, не рев – просьба, жалоба.
– Это мои топи… Девка – моя… Любовь у нас…
Слова зависли в воздухе, как паутина. Добромир остановился, оглянулся – болото будто сжалось, нависло. Святогор шагнул вперед, вглядываясь в трясину. Молча.
– Мы не за битвой, – сказал Добромир, голосом мягким, но твердым. – Верни – и миром разойдемся.
Но тьма не отступила. В тростнике зашуршало, в камышах – захрипело. Что-то невидимое скользнуло под ногами, как змея. Болото будто зашептало само с собой – слова не разобрать, но смысл ясен: гость здесь лишний.
Тогда Святогор снял с пояса глиняную бутыль, берестяной перевес дрогнул. Он не молился только крест на воде начертил и, не колеблясь, плеснул святой воды в трясину.
Всплеск – и будто в саму плоть болота ударило. Вода закипела, пузыри взрывались со свистом, мох почернел, осока затрещала, как от жара. Из глубины раздался вопль:
– А-а-ай! Щадите! Не губите! Больно мне! – голос дрогнул, обмяк, захлебнулся в хрипе.
Добромир склонился ближе к глади воды и спокойно сказал:
– В следующий раз мы целую бочку принесем. И иконы в придачу.
Над болотом нависла тишина. Но тишина сдвинутая, тревожная. Под ближайшей корягой зашевелилось. Пузырь лопнул, и из мха показалась рука. Потом вторая. Из воды поднялась девушка – княжна, в платье, мокром и прилипшем к телу, глаза мутные, но дышит. В болото ее тянуло – но не пускает больше.
Вернула нечисть добычу, но не из милости, а из страха. Из-под коряг доносилось сиплое всхлипывание, будто болото само стонало.
Богатыри не сказали больше ни слова. Забрали девушку, покрыли плащом, и ушли обратно по тропе, где каждый шаг будто по грани.
Позади – гниющий стон, приглушенный мохом. Болото затаилось, как раненый зверь. Но они знали: еще не конец. Только отсрочка. И, быть может, в следующий раз придется не бутыль нести, а крест. Большой.
На обратном пути, когда трясина уже осталась позади, а деревья вокруг стали пореже, да солнечные блики начали играть на листве, княжна, закутавшись в теплый плащ, вдруг заговорила, тихо, но ясно:
– Шла я по лесу, грибов набрать хотела. Вдруг – батюшка мой. Как живой. Стоит, улыбается. Ну я за ним – думала, домой ведет… А он – шаг за шагом, да все дальше… А потом – будто туман на глаза. А батюшки нет. А я – в болоте. Одна.
Богатыри переглянулись. Добромир покачал головой:
– Морок. Нечисть навела, чтоб завлечь. Знать, силу знает – в одиночку легче поймать. Больше одна не ходи. Лес – он красивый, да не для одиноких ног.
Княжна кивнула. На глазах у нее заблестели слезы, но светлые. Как после бури небо чистое, да радуга над полем.
К полудню добрались до посада. Ворота распахнуты, стража – настороже. И тут же – весть разнеслась. Народ сбежался, а князь, как увидел дочь, так и обмяк. К ней, с дрожащими руками, обнял, губами к волосам прижался, и в слезы, как дитя:
– Вернулась… Живая…
Тут же велел пир готовить – не просто обед, а праздник. Скатерти на столы постелили, сбежался люд честной, песни пошли, шутки. Варево парит, хлеб румяный ломтями, медовуха в крынках. Мирослава, жена Добромира – девица бойкая, сама на праздник пришла, да не с пустыми руками – горшок глиняный, в нем мясо в хмеле, да с репчатым луком.
Добромир сидел у окна, за столом, не шумел, не пел. Ложку за ложкой ел, глаза щурил – то ли от солнца, то ли от мысли. Взор у него был спокойный, но внимательный. Смотрел в окно, на посад, где дети резвились, где кто-то балалайку теребил, где дымки от печей струились в небо, синее, как весенняя река.
И подумал:
«Хорошо, что все по-человечески вышло. Не кулаком, так рябиной. А если и кулаком – то по правде. Лишь бы по совести, а не по злобе.»
И зажил посад спокойно. До следующей весны. А в лес уж теперь никто поодиночке не ходил. Ни за грибом, ни за сказкой.
Потому что сказки – они добрые. А лес – нет. Лес живет сам по себе. И уважать его надо. И не забывать – батюшка, что в чаще стоит, не всегда твой.
2. Ирландская сказка – Два мира (мифологическое фэнтези)
Сорча была как утренняя заря над вересковыми полями – столь же светла, свежа и желанна. Ее волосы были рыжими, как пламенное солнце на закате, ее смех был звонок, как капли родниковой воды, а глаза искрились зеленью весеннего леса после дождя. Вокруг нее, говорили в деревне, витали невидимые птицы – поцелуи самого Аонгуса, бога любви. Эти волшебные создания приносили ей любовные признания: вздохи и тайные желания – все те слова, что юноши деревни посылали ей в мыслях и снах. Но ни один из этих призывов не находил отклика в ее сердце. Сорча лишь с улыбкой склоняла голову, мягко, но твердо отказывая каждому, кто осмеливался подойти ближе.
Она уже выбрала. В ее сердце жил один единственный образ – Киниод.
Киниод был не просто красив: он был тем, кого в древних сагах называли сыном судьбы. Высокий, с широкими плечами, с густыми каштановыми волосами и глазами цвета грозового неба, такого, когда над облаками бушевал Таранис. Юноша обладал одновременно силой быка и кротостью ягненка. Он с одинаковым упорством колол дрова для вдовы, чинил забор пастуху и лечил больных овец для старого скотовода. Его любили все: старики за уважение, женщины – за обаяние, дети – за доброту. Но больше всего поражало в нем другое – он был умен. Не по годам. Его рассуждения о мире, сдержанность и редкая способность слушать напоминали старца, прожившего множество десятков лет.
Его часто сравнивали с Кухулином – героем древних времен, славным воином и сердцеедом. Но Киниод был слишком скромен, чтобы принимать такие сравнения. Он лишь пожимал плечами и продолжал делать свое дело.
Сорча всеми силами старалась привлечь его внимание. Она знала, как ловко крутить ногами в ритме джиги, и как смотреть игриво, с прищуром, бросая взгляды украдкой, как будто бы случайно. На праздниках она плясала с таким жаром, что даже старухи одобрительно кивали, мол, «вот, будет счастье ее избраннику». Но Киниод, казалось, замечал в ней только девочку, соседскую малышку, что когда-то бегала за ним по холмам с травинкой в зубах. Его взгляд был мягок, но отстранен. Он благодарил ее за рагу с мелко нарубленным мясом и крупными кусками овощей и ел его с удовольствием, но потом спокойно возвращался к своим делам, не задержавшись ни взглядом, ни словом.
Сорча терзалась. Сердце ее рвалось на части от любви, от недоумения, от боли. Чтобы найти ответ, она отправлялась к Фер Сидхе – высокому зеленому холму, что одиноко стоял посреди лугов. В народе говорили, что внутри холма, как в чаше, живет Бригантия – Бин Сидхе, покровительница женщин, поэзии и врачевания. Сорча приходила туда одна, иногда до самого заката сидела на коленях у подножья холма, шепча просьбы на старом языке – чтобы богиня укрепила ее дух, дала ей знамение, подсказала путь к сердцу Киниода. Однажды она обнаружила возле холма три ручья, и вспомнив древнее поверье, выкопала ямку у берега и закопала туда живого цыпленка – жертву, призванную умилостивить духов. Цыпленок тихо пищал, пока не скрылся в земле. Но ответа все не было. Ни шороха, ни сна, ни знака.
Киниод тем временем жил так, как будто мир был прост. Он ел, спал, работал, смеялся с соседями и хмурился, когда заболевала скотина. Но внутри него была дыра. Пустота. Словно он был сосудом, из которого вытекла неведомая суть. Он чувствовал это особенно остро, когда смотрел на горизонт, туда, где небо сходится с морем.
Все чаще он убегал к побережью. Стоя босыми ногами на гальке, он слушал, как волны перекатываются с грохотом и шепотом, как ветер завывает и как дельфины выпрыгивают из воды, сверкая мокрыми спинами. Он не знал, зачем приходит сюда. Просто это место дышало как он. Оно понимало его молчание. Там, у границы между землей и великой водой, он чувствовал себя живым, или почти живым. Там, где соленый бриз обдувал лицо, где облака отражались в волнах, он ощущал, как море чуть-чуть заполняет его пустоту.
Однажды, на излете ночи, когда небо еще только начинало светлеть в ожидании рассвета, Киниод вновь пришел к морю. Воздух был холоден, и тишина лежала над прибрежными камнями, как покрывало. Волны лениво катились к берегу, убаюкивая мир своей мерной песней.
И тут он увидел ее.
Она стояла на самом краю воды, где галька темной полосой сливается с пенными гребнями. Девушка. Прекрасная, как сон, забытый, но не отпущенный. Ее кожа была белой, как цветок анемоны, а волосы – густыми, черными, как крыло ворона, напитанное ночной бурей. Они ниспадали по спине тяжелой волной, и, казалось, сами тянулись к морю.
Киниод окликнул ее – осторожно, почти шепотом, чтобы не спугнуть. Но она вздрогнула. Обернулась. Ее глаза сверкнули зеленым, как у кошки в темноте. В одно мгновение на лице мелькнули испуг и тоска. Она метнулась к лежащему на берегу свертку. Это была шкура тюленя, поблескивающая влажным серебром. Она быстро накинула ее на плечи, и в следующую секунду ее уже не было.
На том месте, где только что стояла девушка, остался лишь морской зверь. Тюлень, гибкий и скользкий, с черными глазами, в которых все еще отражалось небо. Он посмотрел на Киниода, нырнул в волны. И исчез.
С того утра Киниод стал другим. Он не находил себе места. Еда была безвкусной, работа – бессмысленной, слова собеседников – пустым гулом. Его разум вновь и вновь возвращался к тому утру, к взгляду ее глаз. Он чувствовал, будто кто-то вырвал у него часть души – и унес с собой в соленые глубины.
Он начал расспрашивать стариков, рыбаков, травниц, детей. Те смотрели на него с уважением, с недоумением, с опаской. Кто-то отмахивался, кто-то переговаривался шепотом. В конце концов, одна старуха, кривобокая, с лицом как высушенное яблоко, сказала:
– Иди к охотнику. Он ближе всех к зверю и к тайне.
Дом охотника стоял на краю деревни, в том месте, где лес уже тянул к нему свои тени. Это был старый, но ухоженный дом, с деревянными ставнями и вороньим черепом над входом – чтобы отгонять дурных духов. Во дворе, словно сторожа, лежали четыре волкодава – псы огромные, с шерстью цвета пепла. Собаки не зарычали, не залаяли – наоборот, поднялись, обнюхали юношу, ткнулись в ладони влажными носами и, виляя хвостами, потребовали ласки. Их глаза были умными, почти человеческими.
Из дома вышел охотник. Высокий, сухой, с лицом, обветренным как кора. В его взгляде было что-то от хищной птицы – внимательность, осторожность и знание. Он молча выслушал Киниода. Кивнул, провел рукой по бороде.
– Девушка с черными волосами… и шкурой тюленя, говоришь?.. – задумчиво произнес он. – Тогда ты ищешь не зверя и не женщину. Ты встретил шелки.
Киниод нахмурился.
– Шелки?
– Дочь моря, что ходит по берегу в человеческом обличье, а в глубинах – зверь. Легенды не лгут, но редко говорят все. Если хочешь знать больше, тебе не ко мне.
Охотник указал рукой в сторону леса.
– Там живет один, кто знает все сказки и то, что скрыто в них. Лепрекон. Мудрец. Безумец. Хитрец. Все в одном. Но если кто и подскажет тебе путь – это он.
Киниод не стал прощаться долго. С первыми лучами солнца он набросал в дорожную сумку кусок хлеба, немного сыра, бурдюк молока, да и вышел за ворота. Позади осталась деревня, с ее дымными крышами, собаками у порогов и воронами на изгороди. Осталась и Сорча – та, что смотрела ему вслед из-под платка, не решаясь окликнуть, но и не в силах скрыть тревогу. В ее взгляде было все: страх, надежда и та любовь, что не просит слов.
Он шел быстро, почти наугад, будто путь был в нем самом. Пересек зеленые, сочные холмы, где ветер играл травами, как струнами арфы. Миновал поле, сплошь усыпанное клевером. То был ковер богов, хранящий древние шаги. А за ним начинался лес.
Лес был папоротниковый – влажный, мшистый, шепчущий. Деревья здесь были высоки, а тени – длинны и задумчивы. В их объятиях даже ветер ходил неслышно, как вор.
К вечеру Киниод присел на упавшее бревно у лесной тропы. Сумерки уже расползались по подлеску, но день все еще держался на ветвях. Он достал из торбы хлеб, разломил, стал есть, запивая молоком. И тут заметил движение среди стволов.
Появился старик.
Невысокий – чуть больше метра ростом, с лицом, поросшим тонкими корнями морщин. Его одежды были зелены, выцветши, и сливались с лесом, как кора с деревом. Он неспешно шел, собирая грибы, перебирая их с вниманием алхимика.
Киниод приветствовал его и, не колеблясь, предложил присоединиться к трапезе. Хлеба и молока было не так уж много, но было достаточно, чтобы разделить их с добрым сердцем.
Старик принял приглашение, присел рядом. Поел с удовольствием, причмокивая и кивая. А после вытер губы рукавом и представился:
– Филитиарн я, из племени Дану.
Киниод поднял бровь, но не испугался. Он знал легенды и понял, кто перед ним. Лепрекон. Лесной мудрец. Один из тех, что старше деревьев и хитрее лис.
– Я ищу девушку, – сказал Киниод. – Ту, что называется шелки.
Филитиарн рассмеялся. Голос его был как шелест осенней листвы.