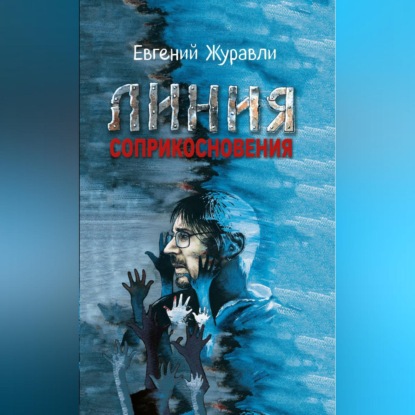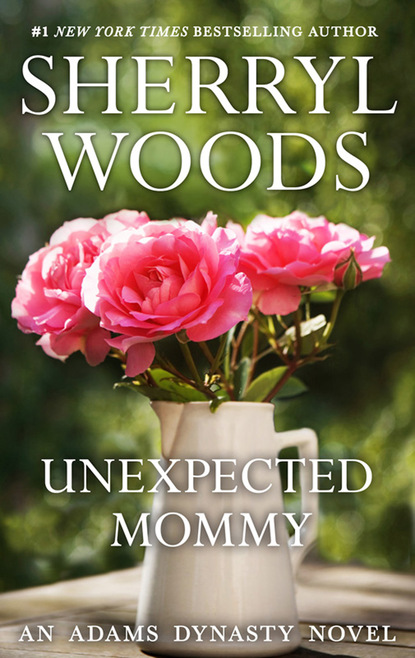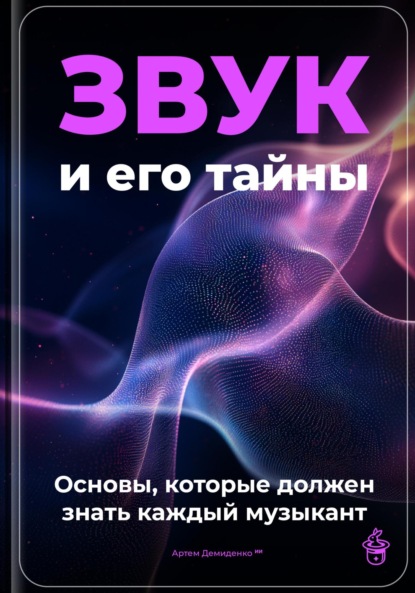После войны

- -
- 100%
- +
Самое интересное, как мы оказались на войне. Ведь вот те же хохлы сидят сейчас на плантациях и в ус не дуют, мародеры хреновы! А Замир не смог – я его даже после того случая зауважал. Дело было уже во вторую неделю наших дежурств, у меня как раз накануне была ночь на вышке, поэтому я отсыпался. Да еще и снились Чечня, штурм Совмина, выстрелы, поэтому я долго не мог спросонья сообразить, что стреляют-то рядом. Ну, схватился, конечно, разом – в ботинки, калаш с собой, и на улицу. А там все тихо так, мирно. Только на выходе из лагеря столпилось несколько охранников, Грэмм. Смотрю, среди них и наши бандеровцы. Подошел поближе – негр лежит, уже остывает, и Михась (это тот хохол, который постарше) что-то полковнику объясняет, а Грэмм вроде и не слушает, только что-то очень короткое бросил и показал рукой ему на живот.
Гляжу, Михась, недолго думая, выхватил тесак, задрал черному футболку, вспорол живот, и давай там чего-то ковыряться, даже на колени присел, чтоб сподручнее было. И все стоят, ждут, чем дело кончится. Вдруг младшой, Петро то есть, качнулся в сторону, и все, что у него было внутри, полезло наружу. А эти стоят, хоть бы хны – датчанин Аксель даже схохмил про молодого, и все вокруг заржали.
Подошел, спрашиваю – что, мол, чучело делать собираетесь? Объяснили, что Михась сегодня дежурил на выходе из лагеря, и, когда этот рабочий возвращался в деревню (он чуть-чуть запоздал), хохлу примерещилось, что он несет за щекою бриллиант, Михась его остановил и, опять же, как потом объяснял, – ну ясно увидел, что негр камешек проглотил. Тут он его и пристрелил.
Никакого камушка, разумеется, не нашли – просто этот козел решил власть свою над черными спробовать. А может, и примерещилось спьяну, они же там не просыхают, вояки! В общем, когда камушка не нашли, Грэмм сказал, что все «окей», только «блэкам» признаваться нельзя. «Белый всегда прав». На следующее утро рабочим так и сказали, что их товарища пристрелили при попытке украсть бриллиант и что так будет с каждым, кто попытается обмануть белого человека.
Когда вернулся в землянку, навстречу – Замир с побелевшими от ужаса глазами (он все видел). Ничего ему не сказал, но, когда он узнал на следующий день, что я ухожу воевать, попросился со мной. Все-таки он мужик, не то что эти…
* * *Вообще-то к белым здесь отношение особое, мне поначалу даже в кайф было, потом привык, а те из наших, что из Европы или из Штатов, так у них как будто так и надо. Когда я на следующее утро попросился у Грэмма к повстанцам, он только и спросил – из-за «блэка»? Я ответил, что устал без войны (а это правда), но он все равно не поверил и сказал, что все русские в душе придурки, хотя и хорошие солдаты, что они, англичане, уже триста лет имеют Африку (или владеют Африкой – по-английски это одно и то же) и черных знают насквозь. Мне даже показалось, что он не хотел отпускать меня – но они ведь такие, надуются и виду не покажут. Интересно, а что он Замиру сказал?..
Нет, я, честное слово, был уверен, что здесь интереснее будет: Атлантика, шикарные пляжи, черные женщины… И что же – об Атлантике лучше и не вспоминать, на пляжах, говорят, противопехотных мин больше, чем медуз, а женщины…
Не знаю, мне с ними всегда не везло, что ли, ну в том, нормальном смысле – они всегда раздевались раньше, чем я успевал их захотеть. Сначала по пьянке, затем из-за войны – какая нормальная баба пустится кататься с контрактником по ночной Москве? Никакая…
Но, когда летели сюда, думал, конечно, о черных женщинах – какие они… там, похожи ли на наших? И что это за «дикая африканская страсть» и все такое? Поначалу, до и после марш-броска, не до того было, а как прибыли в лагерь, поосвоились да в деревню за продуктами ходить начали, смотрю, то один наш чернокожую красавицу из буша (так здесь «зеленка» называется) в лагерь приведет, то другой…
Я у них – как, мол, и мне? Все очень просто, говорят, и показывают на камешки. Спрашиваю, неужели любая? Смеются в ответ, говорят, для них с белым человеком и бесплатно за счастье.
В общем, в одну из следующих вылазок в деревню встретил я свою «африканскую страсть» – у колодца стирала что-то в долбленном из цельного дерева корыте. По-моему, поняла все сразу: у нее во время стирки лямка на старенькой, выцветшей ее майке съехала, я туда откровенно и уставился. Поднялась, вытерла одним движением и пот со лба, и руку об волосы, улыбнулась и сказала: «Луис, сэр». Представилась, значит, ну и я тоже, сказал, что она красавица. Короче, когда до цены дошло, она как-то просто и весело сказала – сэр, мол, не обидит. А нищета у них жуткая, поэтому каждый белый – сэр и, само собою, богач…
Я ей сказал, чтобы приходила вечером ко входу в лагерь, и время показал, когда солнце в их деревне сядет за пальмы. Вечером гляжу, еще и солнце не зашло, а она уже возле часового топчется – в той же серенькой маечке, только бусы из какого-то черного не то дерева, не то кости нацепила. Я Замира-то заранее услал к хохлам, пусть там «писни про вильну Украйну послухает», а Луизу в нашу землянку провел…
Еще тогда обратил внимание, что она все время жует что-то и иногда улыбается-улыбается – и вдруг глаза закатит. На дурочку вроде не похожа, а там – кто его знает… Да, ну а потом, как до дела дошло, смотрю, она трястись начала, да так вздергивается, что мне страшно стало, и – то закатит глаза, то уставится прямо на тебя. А когда у нее кровь изо рта потекла – тут я вообще струхнул, ни хрена себе, думаю, «африканские страсти»! Ощущение – будто она перед костром в этих своих бусах мечется и тебя вот-вот по горлу полоснет, в жертву каким-нибудь лесным своим духам!
В общем, выставил я ее, двести леоне местными деньгами дал, иди, говорю, поостынь, больше не приходи. Такая вот экзотика. Потом мне объяснили, что это не кровь, а сок колы (коры местного дуба), здешний наркотик, его-то она и нажевалась для «страстности». Ну и с духами тоже неясно – ведь этот свой черный амулет она так и не сняла, майку скинула, а бусы так и болтались, охраняли ее… Интересно, а меня-то что охраняло?
А самое интересное – на следующее утро зовут меня на КПП, говорят, «блэк» какой-то тебя спрашивает. Думаю, что такое – никаких знакомств с черными не заводил, прихожу – и впрямь стоит какой-то, увидел меня и давай кланяться, улыбаться: спасибо, сэр, это большая честь, сэр, и для меня, и для моей жены, вы очень щедрый белый, сэр, Луис очень довольна, она придет еще, сэр.
Оказалось, это ее муж. Не столкнись сам, ни за что на свете не поверил бы, что так бывает. А здесь это запросто – муж или старший брат приходят и благодарят, что ты попользовался их женой или сестрой, и просят взять их к белому человеку пожить (у нас были в лагере такие, что подолгу жили с черными девушками), видя в этом прямую выгоду – и кормить не надо, да еще и денег подзаработают.
Короче, «любовь» моя и на африканской земле получилась какой-то странной…
Глава седьмая
Письмо сестре
«Здравствуй, Стрекоза! Когда почтальон дядя Миша постучит тебе этим письмом в окно, у вас уже, наверное, будет снег. Так что считай, что это тебе – кусочек жаркого африканского солнца.
Служба у меня идет хорошо, стрельбы никакой, знай себе, охраняй алмазные копи. Зато охотиться ходим часто – на слонов, леопардов и носорогов. Если пропустят на таможне, привезу тебе отсюда шкуру леопарда или носорожий рог.
Ребята подобрались хорошие, много наших – с Украины, Казахстана…
Знаешь, Наташка, давно хотел с тобой поговорить, да все времени не было, поэтому послушай старшего брата сейчас. Я тут от нечего делать чуть было писателем не стал – половину записной книжки исписал „своими впечатлениями“, так что, думаю, у меня получится написать и тебе как следует.
В последнее время мало сплю: душно, москиты гудят всю ночь, поэтому лежу и думаю. За эти ночи я много о нас с тобой передумал и вот что решил: во-первых, Стрекоза – ты девка уже взрослая, красивая, скоро школу закончишь, надо подумать и о будущем, поэтому не спеши с пацанами, не это главное. То есть гуляй, танцуй в клубе, но дальше – ни-ни. Нам с тобой, сестренка, нужно прорываться, а это как в бою. В жизни даже посложнее будет…
Тебе нужно учиться дальше, и не где-нибудь, а в Москве. Деньги у нас (я на твой счет положил, ты знаешь) есть, еще и отсюда малость привезу (а кому-то и бриллиантов, как обещал!). Поэтому решай уже сегодня: куда ты хочешь поступать? Хватит по соревнованиям со своей биатлоночкой мотаться, не бабье это дело по мишеням стрелять, да и не кормежное! Сегодня образование нужно, языки. Главное, синеглазая, ничего не бойся, пойми, с деньгами, с хорошими деньгами, мы всю эту вшивую Москву со всеми ее гнилыми потрохами купим, а не только высшее образование тебе.
А дальше – дальше надо будет определяться, сестренка. Мне ведь тоже надоело по свету мотаться, думаю, что это уже последняя командировка. Чем-нибудь займусь…
Вот только что с отцом делать, не знаю – по новой закодировать его, так сколько ж можно, все без толку. Говорят в Москве есть крутые клиники, где за большие бабки даже самых последних доходяг и наркошек вытягивают, может, и туда пристрою, посмотрим…
Главное – прорваться, понимаешь, Наташк. Я не знаю, как об этом правильно сказать, а только иногда кажется мне, что обложили всех нас по полной программе: поставили на выходах противопехотные мины, натянули растяжки, да еще и снайперов по периметру, чтоб головы нельзя было поднять! Вот и батя…
Кто виноват в этом – жизнь, другие люди, наши правители? Меньше всего, ты знаешь, он сам… И жалко его, и тебе, маленькой, он жизнь поганит. Потерпи его еще, что-нибудь придумаем.
Взять хотя бы меня – уже четвертый десяток разменял, а во всем этом разобраться не могу, поэтому ты учись лучше, книги читай, чтобы у тебя в жизни смысла побольше было.
Пойми самое важное, синеглазая, что нам нужны не копеечки, нет, это-то я понял, и даже не то, чтобы от нас отстали и оставили в покое, пойми, сестренка, – нам нужна Победа. А ты знаешь, что такое Победа? Вот я воюю уже восьмой год, а Победу видел только один раз – в 95-м, в Грозном…
Мы тогда четверо суток не могли пробиться к зданию Совмина, где зацепились морпехи старлея Вдовкина. И ходу-то – десять минут по прямой, а не пройдешь – из подвалов, из люков, изо всех щелей лупят так, что голову не поднять.
И все же пробились, вот уже и Совмин перед глазами, пошли – и тут мой взвод отсекают от наших, откуда-то с верхних этажей в упор по нам заработал пулемет. Лежим, вжались кто куда – кто в воронку от снаряда, кто за бордюр, а я носом в клумбу. И слышу – наши соединились с морпехами, стрельба уже на этажах, а пулемет по нам все кроет и кроет, нос не высунешь. И вдруг – он замолчал, и такая наступила тишина, что мне сначала показалось – контузило. Я трясу головой, гляжу по сторонам, вижу – ребята из моего взвода приподнимаются, сначала потихоньку, настороженно, а потом и во весь рост. А я только собрался встать, как смотрю – перед самым носом у меня фиалка, прошлогодняя, уже почти истлевшая, и так от нее сильно пахнет, ты себе даже представить не можешь. Помнишь, мама еще любила этот запах?
И так меня это поразило: все кругом разворочено, выжжено – а тут фиалка! Я лежу и чувствую, как к ее запаху примешивается, вплетается в него другой – сладковатый, даже приторный запах напалма и выжженной земли. А парни мои уже закурили, стоят не пригибаясь, да и остальные наши вместе с морпехами выходят из подъезда. И ведь всем известно, что бородатых вокруг полно, что зыркают они сейчас на нас из своих щелей, из подвалов, что шипят что-то свое гнилое, пробираясь по канализационным каналам, уходя из города, – но всем известно и другое, что ни одна сука сейчас по нам не выстрелит! Потому что мы задавили их, мы сделали это! И вот это, синеглазая, была Победа…
Потом ее у нас украли, я тебе рассказывал об этом, но она была – наша Победа…»
Здесь заканчиваются Вовкины записи, наверное, помешал бой. Может быть, последний…
Этого я точно не могу знать, зато другое мне представляется очень отчетливо – в час, когда Вовка отложил ручку и вступил в свой последний бой (по рассказам нигерийцев, полковника Акпаты, он погиб от случайного осколка при общем беспорядочном отступлении повстанцев), на другом конце земли был ясный морозный вечер. Дверь одной из крайних изб глухой, заметенной снегами архангельской деревушки отворилась, и в облаке табачного дыма, покачиваясь, вышел на снег не старый еще, но здорово опустившийся, по всему видно – пьющий мужик. Он расстегнул штаны, чтобы справить малую нужду, и посмотрел наверх – колючие декабрьские звезды позванивали в вышине. И вдруг по всему небу прокатился как будто вздох – волны зеленого, красного, желтого задрожали над миром.
– Ишь ты, – сказал мужик, – рановато в этом году играет…
Он хотел сказать что-то еще, но тут его сердце сдавило такой непонятной, тягучей тревогой, что он, зачем-то оглянувшись по сторонам, воровато заспешил обратно. И только миновав темные промороженные сени и войдя в ярко освещенную, натопленную избу, он успокоился. Встретил пронзительно синие вопрошающие глаза дочери, перевел взгляд на ухарскую армейскую фотографию сына, подошел к столу, налил, но не выпил, а только совсем уже жалко, по-стариковски затрясся:
– И где его носит, беспортошного!
Дочь подошла к нему, взяла из вздрагивающих рук стакан, отставила подальше. И тоже посмотрела на фотографию.
…Я потом пытался разыскать их, чтобы отдать Вовкины записи, в министерстве обороны мне даже помогли найти адрес, списаться с районным военкоматом. Но оттуда ответили, что Вовкин отец той же зимой умер, а сестра, не окончив десятилетки и даже не продав избы, куда-то уехала…
* * *А совсем уже недавно по телевизору показывали сюжет про Косово. Сам я начала не видел, меня ближе к концу Валя позвала – в ту пору я как раз заканчивал книгу по истории Сербии (моя давняя боль и любовь!), а на Балканах снова и снова лилась кровь. Мир потрясли очередные зверства исламских боевиков в Косово: свыше тридцати православных храмов было взорвано и сожжено, сотни сербов убиты, тысячи изгнаны с родной земли. И хотя это длилось там уже пятый год (о чем я в книге и писал), но долгожданные внимание и озабоченность «мировой общественности» вызвали, разумеется, не страдания сербов, а то, что албанским бандитам на этот раз под горячую руку попались несколько ооновских полицейских и миротворцев и кто-то из них даже погиб.
У нас с Валей были свои основания бояться таких известий – вот уже полгода как Евгений Николаевич уехал в Сербию в качестве эксперта по проблемам безопасности от какой-то не то датской, не то норвежской гуманитарной миссии. Вертаков своим привычкам не изменял и в очередной раз «случайно» оказался там, где стреляют.
– Милый, ну скорей же – про Сербию показывают! – торопила меня Валя, но, пока я дошел, больше половины сюжета уже показали. – Про сербские анклавы в Косово, – выдохнула она и снова повернулась к экрану.
Камера показывала унылые, кое-где разрушенные дома сербов, обнесенные колючей проволокой дворы и, что просто-таки поражало контрастом, – улыбающиеся, без каких либо следов страха, разве что только немного усталые лица молодых небритых мужчин с автоматами. К ним подходили старые сербские женщины в черных одеждах с иссеченными временем, выгоревшими на солнце лицами – ни дать ни взять наши рязанские или же орловские старухи – и угощали бойцов молоком, яйцами, просто заглядывали в глаза.
Корреспондент рассказывал о местных отрядах самообороны, которые, уже давно не надеясь на помощь натовских вояк, по ночам защищали эти маленькие островки православной Сербии в разъяренном вседозволенностью мусульманском море.
– А правда ли, – спросил он у группы сербских ополченцев, – что среди вас есть и добровольцы из России?
Но сербы только заулыбались в ответ и стали рассказывать подробности ночного боя.
В это время в объектив камеры, показывавшей площадь, на которой сидели у костра ополченцы, попал молодой боец, он, видимо, только проснулся и неторопливо брел к своим, неся в руках снайперскую винтовку. При виде его сербы загудели и что-то взволнованно заговорили, указывая на камеру. Он с удивлением обернулся, и меня буквально резанули пронзительно синие, уже где-то и когда-то виденные мною глаза. Вовкины глаза! От резкого поворота головы у ополченца немного сдвинулся берет, и из-под него выбились, вырвались на волю белокурые, немного вьющиеся длинные волосы…
– Надо же, – прокомментировал этот эпизод русский корреспондент, – и эта красивая сербская девушка вынуждена сегодня взяться за оружие, чтобы защитить своих старых родителей…
Я все еще не мог оторваться от экрана, хотя уже давно шли титры.
– Что с тобой, милый, – встревожилась жена, – кто-то из твоих белградских знакомых?
– Нет, дорогая, видимо, показалось, – пробормотал я и ушел к себе.
Автор глубоко признателен своим военным консультантам:
В. А. Азарову – подполковнику Советской армии, воину-интернационалисту, осуществлявшему миротворческие миссии на территории Афганистана, Боснии, Республики Сербская Краина, Косово, Западной Африки. Кавалеру ордена «Красная Звезда», медали «За боевые заслуги» и многих других отечественных и иностранных орденов и наград. Начальнику службы Безопасности миссии ООН в СьерраЛеоне с 1998 по 1999 год. Автору замечательной книги «Записки миротворца»;
В. В. Вдовкину – подполковнику Российской армии, Герою России, участнику штурма Дворца Дудаева в Грозном в январе 1995 года.
Ромаядины
Семейная хроника
Посвящаю Алексею Полуботе
Пролог
Ни свиста пуль, ни горячей толкнувшей волны воздуха.
Артема обожгла близкая вспышка и оглушил грохот АК–74М.
Автомат был без «банки», громкий, темнота и тишина – полные.
Очередь оказалась короткой.
5,45 – коварный калибр, с двадцати метров даже свист пуль не слышен.
То, что очередь дали по нему, Темка понял сразу.
Давший ее испугался сам.
– Свои, мать вашу! – Темка про своих крикнул почему-то не очень своим голосом. Не очень – потому что услышал его со стороны. – Балу, это ты?
Стрелявший тоже потихоньку возвращался в себя и в ответ нечленораздельно выругался.
Переполох произошел из-за подрыва.
Посреди ночи сработала одна из мин, расставленных по периметру наших позиций.
Со стороны Днепровского лимана.
На побережье.
Вариантов подрыва было всего два: или ДРГ противника зашла на наши мины, или какая животина забрела.
В радиусе нескольких сотен метров уже лежала пара туш диких лошадей, подорвавшихся на «монках».
Могло быть и третье – порывом ветра сломало старую большую ветку, и она упала на проволоку растяжки.
Но ветра не было.
А подрыв был.
Поэтому взвод высыпал из блиндажей в окопы на усиление дежуривших на НП наблюдателей.
Один Артем замешкался, надевая броню, и вышел с опозданием минуты в полторы.
Вот его и приветил Балу, решивший, что это хохол заходит с тыла.
Спасла непроглядная черноморская ночь и еще кое-что. Или Кто…
Но Темка в эту сторону сейчас не думал.
Балу, большой, как мультяшный мишка, по которому он получил позывной, мялся и немножко криво и растерянно улыбался.
Он умел так улыбаться, что ничего ему не скажешь.
В темноте было ни аза не видно, но Темка точно знал – товарищ улыбается.
– Ну, чего лыбишься, стрелок? Вот сходил бы я сейчас к теще на блины… неизведанной длины…
К теще.
Это была отдельная песня.
В общем-то, обычная, пересыпанная анекдотами, но с характерным «московским», оттепельным душком…
Глава 1 Безделушкины
Августа Владленовна почему-то считала себя римской матроной. Хотя от матроны в ней было, прямо скажем, немного – сухая ближневосточная кость и плоть, которая к старости становилась еще суше и ближневосточнее, провисая бесчисленными складками там, где в молодости блестел смуглый, отполированный крымским солнцем палисандр или сандал.
Так ей говорили видевшие и ценившие ее тело поклонники. Про палисандр. Иногда оговариваясь, и тогда получался полиандр[1], что звучало не совсем понятно, но еще более пикантно.
И было тоже правильно, ибо Августа Владленовна только замужем официально значилась несколько раз, про все же остальное говорить не будем, в ее среде это хоть и обсуждалось, но не осуждалось.
Кстати, о среде. Папа Августы – Владлен Борисович – был осветителем в Театре на Таганке и не однократно пил, по его словам, за сценой с самим Володей Высоцким. И не только с Высоцким.
Смуглая девочка росла, можно сказать, на подмостках.
Поэтому Гуся (а именно так повелось у домашних и близких приятелей – Авгуся или попросту Гуся) даже спустя годы после гибели Высоцкого по-прежнему называла его «бедный Володя», Любимова – «дядя Юра», Филатова – «Ленечкой».
Вспоминала с папиных слов историю, как на гастролях в Праге искали американские джинсы для Нееловой, разумеется, «Мариночки».
Последнее, то есть поиск, затруднялся тем, что «Мариночка была худа, как таракан».
Несмотря на погруженность в этот удивительный мир, профессию себе Гуся избрала нетеатральную и попробовала поступить в МГУ на филфак. Читала она всю жизнь жадно, правда – без особого разбору, как правило, то, что было модно в ту пору в ее кругу.
Тем не менее знание запрещенного в позднем СССР Солженицына и «гонимого» лауреата Сталинской премии Некрасова ее не спасло от сокрушительного провала на экзаменах.
Потому что знание «запрещенных и гонимых» не заменяло и не отменяло в МГУ знания Пушкина.
И Толстого.
И Шолохова.
Который хоть и был «сатрап», и «штрейкбрехер», и «певец коммунистического режима», но Нобелевскую премию по литературе получил все-таки не за Чапаева, как выпалила на экзамене Гуся. В ответ на вопрос о главном герое романа Шолохова о Гражданской войне.
Дружный хохот экзаменаторов поразил ее в самое сердце, и со словами «вы все здесь сатрапы» девочка в слезах выбежала из аудитории гуманитарного корпуса на Ленинских горах.
На этом ее борьба с режимом закончилась, прочитанный в перепечатке под одеялом и с фонариком Солженицын после его официального и триумфального издания на Родине был Гусочке уже неинтересен.
А интересным стало то, что в ее возрасте интересно любой девочке, вне зависимости от того, исполнено ее юное сердце тайным презрением к кровавому режиму или оглушено восторженными славословиями комсомольских вожаков, громогласно просивших «убрать Ленина с денег»[2] на стадионах и у памятника Маяковскому.
Гусю заинтересовал противоположный пол. Удивительно, но выросшая среди актеров, суфлеров и монтеров сцены девочка не стала жертвой бурного нетрезвого романа в гримерке.
Ее папа все-таки отвечал за весь свет на спектакле, часами просиживал в кабинете худрука накануне премьер, его уважали.
Может быть, еще и потому, что серьезная девочка поводов не давала. «На филологический поступает».
Для актеров это было очень сложно. Семиотика. Структурный анализ. Сложнее была только модная в ту пору кибернетика.
Поэтому, несмотря на все свои тайные закулисные влюбленности, восемнадцатую весну Авгуся встретила все еще девственницей.
* * *Утрата девственности свершилась у Гуси в общежитии МГУ, в недавно отстроенном Доме аспиранта и студента (ДАС), который столичные пошляки сразу же переименовали в «Дом активного секса». Как видим, не без оснований.
Ее сердце сразил бородатый аспирант из Эстонии Питэр. За время недолгой абитуры Августы они очень быстро сошлись, буквально после нескольких случайных встреч.
Один Питэр счел оглушительный провал Гусочки на экзаменах выдающейся антисоветской акцией, а ответ про Чапаева – блестящей и остроумной отповедью партократам. Фигой, которую наконец-то русская интеллигенция вытащила из кармана и во всеувиденье, громко и демонстративно, показала большевикам.
Он говорил и еще что-такое, но Гуся слушала уже только тембр его голоса и счастливо блестела глазами.
Через семь месяцев у них родилась Машенька, недоношенная, названная так отнюдь не из любви к русским сказкам и старине.
Умом и воображением Питэра в ту пору целиком и безраздельно владел запрещенный Набоков, по которому ему не давали защищать диссертацию.
То есть не то чтобы не давали, просто Питэру хватило его эстонской сообразительности самому не предлагать Набокова в герои своего научного исследования. Зато он решил отыграться на дочери. И вообще-то Машенька должна была стать Адой[3].
Но тут уже встал на дыбы дедушка Владлен и сказал, что внучки с таким именем у него не будет. Достаточно дочки, которую он по глупости разрешил назвать жене согласно римскому месяцеслову. Дедушка хоть и жил в этом странном альтернативном мирке по имени «Таганка», но взглядов был вполне традиционных, ибо прошел войну, а не отсиделся в Ташкенте.