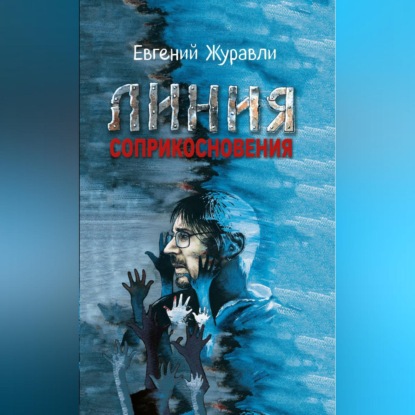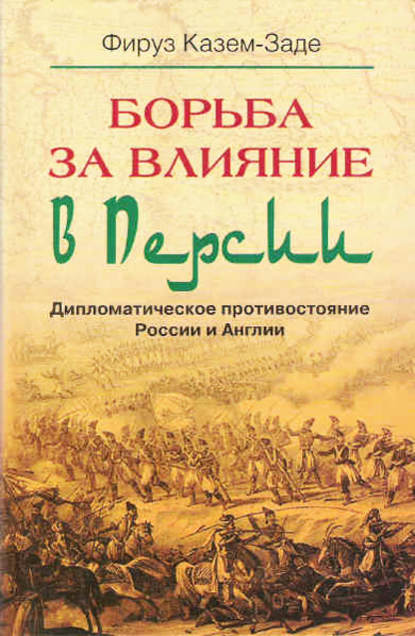После войны

- -
- 100%
- +
Может, поэтому и Высоцкий нередко из прокуренной и невеселой духоты гримерок убегал к нему, «за сцену». Где можно было наконец-то не хихикать о «совке», а поговорить о жизни. И было с кем.
Поэтому родные сошлись на Машеньке[4].
И дедушке угодили, и очередную яркую антисоветскую манифестацию провели. О характере манифестации знали только двое (Питэр и Августа, которой он все объяснил). Но от этого она была не менее важна и духоподъемна для всех свободных людей мира и приближала конец прогнившего коммунистического режима.
Питэр по обыкновению говорил еще что-то такое, но Гуся не слушала. Сама выросшая без братьев и сестер, она наконец получила долгожданную игрушку, недаром в русском народе говорится: первый ребенок – последняя кукла.
Впрочем, особо баловать девочку с первых дней не удалось. Результатом ожесточенных битв за имя новорожденной стали прохладные отношения между зятем и тестем, которого Владлен Борисович, сам москвич во втором поколении, постоянно тыкал рыбацкой мызой на берегу Балтики, откуда приехал бородатый филолог.
Поэтому в самом непродолжительном времени молодая семья переехала в дворницкую в Черемушках, где Питэру свезло отхватить самую престижную на ту пору работу для творческих и околотворческих натур в Москве – работу дворником. У представителей альтернативной жизни в цене еще были котельные, но там больше ответственности. К тому же Черемушки оказались совершенно новым микрорайоном, с центральным отоплением и киношным лоском. На экраны только что вышел фильм всех времен и народов «Ирония судьбы, или С легким паром!».
Таким образом, молодожены угнездились в самом эпицентре жизни и времени.
Если еще добавить, что за неимением ванной в дворницкой семья на помывку каждую неделю ходила в общественную баню – переплетение киношной жизни и всамделишной оказалось чрезвычайным.
Питэр в этих семейных, а по большей части и самостоятельных походах в баню настолько вошел в роль любимца женщин Лукашина, что это стало угрожать семейному благополучию.
Злую роль, по слову дедушки, с зятем сыграла «чухонская хромосома», которая не расщепляла алкоголь. Ну или расщепляла его гораздо хуже «русской», не говоря уже про все расщепляющую «еврейскую».
Когда Питэр после очередного гигиенического мероприятия вернулся в дом без бороды – Августа вздрогнула во второй раз.
Первый раз был, когда он привел ее с запеленутой дочерью в дворницкую.
Тогда Гусочка, выросшая на Верхней Радищевской, впервые подумала, что свобода от родителей «совков» и государства могла бы выглядеть и посимпатичней.
Изнеженная девочка столкнулась с многими другими доселе неведомыми ей атрибутами свободы – мытьем полов и посуды, необходимостью готовить себе и Машеньке, походами в магазин и, главное, стоянием в очередях, то есть тем, чем в прежней ее жизни занималась мама.
Притом что доставал все папа. И даже больше, чем все.
Благодаря тетатрально-билетным возможностям и гастролям.
Попасть на спектакль с Высоцким – это, знаете ли, трехлитровой баночкой черной икры не отделаетесь, дорогие гости из Астрахани. Не говоря уже про балычок или лососинку с Дальнего Востока и прочие благорастворения воздухов со всех концов изобильного Союза.
И вот Гусочка осталась безо всех не замечаемых прежде благодатей. Ну практически. Бабушка, конечно же, тащила кое-что для внученьки. С молчаливого неодобрения дедушки. Но по сравнению с прежним это было и в самом деле «кое-что».
Цена свободы оказалась непомерной.
Осознание этого совпало с окончанием аспирантуры ее мужем, который без бороды стал гораздо симпатичнее, хотя и растерял всю свою филологическую брутальность.
Его распределили (не без его горячих и убедительных просьб) в Тарту.
И это стало третьим звоночком, потому что ехать во всесоюзный центр структурализма, хотя и в максимально несоветскую и благоустроенную Эстонию, но за тысячу километров от мамы – Гуся была не готова.
– Я не жена декабриста! – стукнула она кулачком по столу.
– Так ведь не в Сибирь, Гусочка, – попытался возразить Питэр на общесемейном совещании.
– Ну из Эстонии в Сибирь дорожка прямая, – пошутил дедушка Владлен, после чего эстонский филолог обиженно засопел и затих на весь вечер.
Не последнюю роль в расставании сыграло и то, что с недавних пор Питэр с «заседаний кафедры» стал возвращаться, густо попахивая не только коньяком, но и дамскими духами.
В общем, решили, что девочка болезненная, недоношенная, у нее слабые легкие, и прокуренная атмосфера творческих дискуссий во всесоюзном центре структурного анализа ее добьет, поэтому Гусочка с Машенькой пока останутся здесь. Сроки и окончательность этого «пока» предстояло еще выяснить.
* * *В счастливых детских воспоминаниях Машеньки, хоть и немного смазано, но незыблемо сохранились отголоски нескольких поездок с мамой на мызу. Дедушка Тойво и бабушка Салме, суровая серая Балтика, черный дедушкин баркас, на котором он выходил в море ставить ловушки, баснословно вкусная салака, как ее здесь называли, «райма», которую бабушка жарила на черной чугунной сковородке прямо на печке.
Папа с дедушкой, пившие домашнюю водку.
– «Шмыгалка», так она будет по-русски, – пояснял папа.
– Почему? – смеялась мама.
– Потому что ее не пьют, а шмыгают! – серьезно объяснял Питэр, – шмыг, шмыг!
– А-а, теперь я понимаю, почему так много местных в прошлое воскресенье валялось на улицах райцентра. Нашмыгались!
– Трудяги, что ты хочешь. Всю неделю в море. Вот и нашмыгались.
Но таких веселых минут было немного.
Чаще Машина мама сидела на крылечке одна, курила, подолгу смотрела на песчаное взморье, кудлатые бесприютные волны. А папа с дедушкой уединялись в бане обсудить за стаканчиком «шмыгалки» перспективы осеннего хода салаки.
Хотя совершенно точно они ездили с мамой летом, Машенька не помнила, чтобы они купались у дедушки Тойво.
Море, купанье, солнечные брызги – это навсегда вошло в ее жизнь вместе с Крымом, уже с другими дедушкой и бабушкой, московскими.
А на мызе все было как из какой-то давней сказки. Или черно-белого кино.
Машенька же, как и все советские дети (включая антисоветских), любила цветное.
* * *Еще Машенька запомнила папину квартиру, которую тоталитарное государство выделило молодому и многообещающему доценту Тартусского университета родом из деревни – в самом историческом центре города, просторную, трехкомнатную. Недалеко от Ратушной площади.
Диплом и аспирантура МГУ высоко ценились на исторической родине Питэра, которого, несмотря на пока еще достаточно скромные достижения – несколько публикаций в столичных профильных журналах, – уже успели назвать «вторым Лотманом».
И кому это льстило больше – Питэру или самому мэтру[5], – было трудно определить.
Машенька запомнила Ратушу, неубиваемую булыжную мостовую на Ратушной площади, развалины Домского собора Петра и Павла на Домской горке, где находилась библиотека Тартусского университета, мосты через речку с невыговариваемым названием.
Само древнее наименование Тарту – Дерпт, красновато-кирпичный колорит улиц, дома с черепицей, соборы, магазинчики, мосты – все это поразило девочку не меньше черно-белой сказки о рыбацкой мызе.
Августа Владленовна тоже полюбила тесную красоту тартусских улиц, уют кафешек, розы и ухоженные газоны везде, где только можно, местечковую знакомитость и родственность всех встречных и поперечных – все это разительно отличалось от огромных каменных проспектов Москвы, разноплеменных и безликих толп приезжих или таких же толп уже угнездившихся в столице Советского государства. «Лимитчиков», как презрительно называли их в кругу москвичей во втором поколении знакомые Гусочки. «Санаторий повышенной культуры» – отзывался о Прибалтике в целом дедушка Владлен, неоднократно бывавший там на гастролях с театром.
Было это похвалой или ругательством – Машеньке не разъясняли.
В эти счастливые поездки к папе на родину Гуся и Питэр были вместе, пили вкусное черное пиво в кафешках, возвращались, держась за руки, поздно.
За Машенькой в такие вечера приглядывала тетка Питэра, тоже жившая в Тарту, правда, на окраине.
Увы, но совместная радость и близость родителей были редкостью, и хотя Машеньке об этом долго не рассказывали, но и Гуся, и Питэр уже начали жить в разные стороны, каждый своей жизнью.
…Дочь у Владлена Борисовича была единственная и любимая, поэтому после того, как чухонский зять исчез с горизонта, она возвратилась в семью еще более любимой и желанной.
К тому же несчастной.
«С мужем не повезло». Так решили в семье Ромаядиных (Гусочка сохранила за собой и дочерью дедушкину «прославленную в театральном мире» фамилию).
Впрочем, нельзя сказать, чтобы Гуся сходила замуж напрасно, вернулась-то она с трофеем. Говорить о том, что дедушка с первых же дней в Машеньке души не чаял, думаю, излишне.
Трофей, по большому счету, и достался однодетным и недолюбившим в свое время бабушке и дедушке.
А для Гусочки началась подлинная свобода.
Предоставив питание и воспитание дочери родителям, Августа Владленовна, ставшая наконец женщиной и как-то случайно даже матерью, впервые так остро и радостно оценила ту атмосферу, которая совершенно безо всяких усилий досталась ей с детства.
Предприняв не совсем удачную, но честную попытку пожить своим умом, Гуся вернулась к родным пенатам во всеоружии только что распустившейся женственности и в поисках потерянного понапрасну времени окунулась в увлекательную жизнь закулисья с головой.
Несмотря на всю театральную прославленность фамилии Ромаядиных, местечка в Театре на Таганке для Гусочки не нашлось, но Владлен Борисович без труда устроил ее в находившуюся поблизости Библиотеку иностранной литературы, знаменитую «Иностранку».
Как это ни странно, работа в «Иностранке» Августу увлекла, видимо, несбывшееся филологическое нашло себя в библиотечном.
Наряду с заочным обучением в «Кульке»[6] Гуся со всем пылом нерастраченной молодости ушла в мир модных зарубежных писателей, редких или полузапрещенных изданий, театральных премьер и артистических квартирников, на которые съезжалась «вся свободомыслящая Москва».
Машенька к обоюдной радости сторон оказалась на полном попечении бабушки и дедушки.
О чувствах третьей стороны, собственно отца ребенка, справлялись мало, хотя в структуралистском и постструктуралистском бытии Питэра образ «похищенной» дочери становился все более и более навязчивым. Особенно за стаканчиком шмыгалки.
Пока Питэра, как и его прославленного шефа, преследовала удача и советский (в сокровенной глубине своей, конечно, антисоветский) структурализм был моден и привечаем в известных кругах творческой интеллигенции в СССР и на Западе – приглашения на международные конференции и симпозиумы следовали одно за другим.
Папа Питэр летал в свободный мир через Москву и привозил оттуда Машеньке дорогие и редкостные шмотки, а также книги парижских и немецких издательств с творениями постепенно разрешаемых в стране писателей.
Режим слабел, разрешенного становилось все больше и больше.
Привозил он подарки и для возлюбленной жены своей Гусочки: тоже книги и шмотки; и тогда родители изображали для дочери любовь и взаимопонимание, даже спали вместе – по-дружески.
Машенька всего этого не понимала, но ей, как и любому другому ребенку, нравилось, что папа и мама вместе.
В такие минуты она была счастлива.
Впрочем, дети обычно счастливы и во все остальные минуты. Кроме тех, когда они действительно несчастливы.
Глава 2 Возвращение в реальность
Однако эпоха Таганки, советского структурализма и необременительной «борьбы с режимом» заканчивалась.
На экранах страны замаячил говорливый молодой генсек с апокалиптической отметиной на голове, который стал все чаще выезжать за границу – то ли для того, чтобы проветрить застоявшийся воздух в стране, то ли для того, чтобы проветрить многочисленные наряды своей супруги, скопившиеся в кремлевских гардеробах.
Про зловещую отметину сразу же пошли толки в народе. «Темном и неграмотном».
Спустя тридцать лет в залитой кровью по всему периметру, нарезанной на ломти бывшей великой стране эти предзнаменования уже не будут казаться такими смешными и недалекими.
Средняя и младшая Ромаядины перемены в стране восприняли с энтузиазмом. Старшие с опаской.
Выход из обрыдлых прокуренных притонов свободы в квартирниках и подвалах обеих столиц на свежий воздух улиц и площадей будоражил кровь.
Получалось совсем по Достоевскому: «все позволено».
Мало кого настораживало, что позволение было даровано сверху.
Не в смысле свыше, а в смысле от начальства.
Августу Владленовну, на тот момент повторно замужнюю, будто настигла вторая юность – она бегала на митинги, боялась намечавшихся еврейских погромов, радовалась их отмене.
Пошла на баррикады к Белому дому (не те, всамделишные, которые будут расстреливать из 125-мм орудий и давить танковыми гусеницами в октябре 1993-го, а милые и бутафорские августа 1991-го), слушала вместе со всеми по транзистору «Радио Свободу», ела кооперативные бутерброды, которыми кормили защитников демократии мордатые столичные кооператоры.
Там, на баррикадах 1991-го, взявшись за руки, чтоб не пропасть поодиночке, стояли они несколько ночей подряд, молодые и свободные.
По дороге на перегороженный танками душителей Новый Арбат в троллейбусе Гуся даже вывела пальчиком на запыленном оконном стекле «КП», за что была восторженно одобрена своим вторым мужем и не одобрена пожилыми пассажирами рабочей наружности.
Но эти и другие милые шалости закончились.
Заказчики свободного волеизъявления и мордатые кооператоры своего достигли, танки разъехались, клоуны остались.
Альпийским топором Троцкого по национальной разметке Ленина вороватые правнуки большевиков разрубили страну по живому. Чухонский папа Машеньки оказался по другую сторону границы. А Ромаядины, как и большинство восторженной околотворческой интеллигенции, чаявшей перемен и изобилия, оказались в нищете.
Черная икра банками в обмен на несколько децибелов живого Высоцкого и бесплатное жилье остались в прошлом.
Вместе с самим Владимиром Семеновичем и дедушкой Владленом.
Оба, не сговариваясь, решили в новую жизнь и в новую страну не переезжать.
И остались в старой.
Навсегда.
* * *После смерти дедушки жизнь семьи Ромаядиных резко изменилась. Стало не хватать буквально всего.
Это совпало с пускавшим пузыри на телеэкранах Гайдаром, рыжим Чубайсом и приватизацией.
«Бойся рыжих и косых» – говорили на Руси раньше.
Как и в случае с меченым генсеком – предзнаменованиям никто не внял. Повествовавшая об успехах приватизации телеведущая косила глазами на всю страну, но никого это уже не смущало. На телеэкраны и в радиоэфир ринулись толпы гугнивых и косноязычных, в литературу – матерная речь и блудописание.
Над всем этим полыхала рыжей окалиной голова заокеанского назначенца, незыблемость происшедшего со страной в прямом эфире скреплял ударом беспалого кулака по столу новый президент:
– Тэк… Я сказал!!!
…Тем временем Машенька вошла в пору. Жили они с бабушкой вдвоем. Августа Владленовна обретала очередное семейное счастье и жила со своим молодым избранником наособицу.
Папа Питэр стал в Москве совсем редок, «национальные фронты» в прибалтийских землях громили все советское, стало быть, русское, потому что еврейское советское успели вычистить зондеркоманды из местных еще в годы Великой Отечественной войны, а другого советского, кроме русского, у них попросту не было.
Русская литература, даже с антисоветчиками Набоковым, Солженицыным и Бродским, вдруг стала совершенно невостребована в переживавшей судорожный ренессанс местной национальной культуре, в прошлом большей частью хуторской и рыбачьей, а теперь вовсю старавшейся стать европейской и англоязычной.
А Машенька, повторимся, вошла в пору. И в свои восемнадцать она так же невероятно сияла глазами, как и Августа Владленовна в начале пути. Как, пожалуй, и все девушки на свете – в ожидании незаслуженных и неизбежных чудес. Люди без воображения называют это гормональным взрывом. И не пишут стихов.
Машенька писала…
* * *…Та ночь на Косе задалась, прямо сказать, с огоньком.
После подрыва и дружеского огня чевэкашники быстро прочухались, и, пока Темка с Балу выясняли, кто из них больший идиот, Лука и Сеня, сидевшие на передовом НП с видом на Днепровский лиман, принялись выстригать темноту ночи из «Утеса».
Сеня божился, что разглядел на берегу две теплые точки и силуэт лодки. Теплак был так себе, но живое и горячее от холодного отделял.
На пулемете теплака не было, поэтому Лука поливал берег втемную. Но от души.
А вот трассеров в коробах не было. Снабжали доброволов по остаточному принципу.
Сеня пытался корректировать, но потом с досадой бросил:
– Ушли!
Потихоньку к НП стали подтягиваться бойцы: узнать, «шо це було»?
Это Цыган, старшина из Краматорска, щеголял знанием мовы.
Получалось не всегда.
На прошлых позициях пошли с утреца в Геройское к соседям, морпехам-североморцам, ремонтникам, раздобыться бензином, а если повезет, и гранатами.
– Доброго ранку! – входя в гараж, сказал Цыган стоявшим к нему спиной братушкам.
Воцарилась нехорошая тишина. Которая оборвалась лязгом патронов, досылаемых в патронник.
– Да что вы, братцы, – мы свои…
Двое «штурмов», которые тоже зашли к ремонтерам, поворачивались медленно. Очень медленно. Со стволами наизготовку.
Цыган, конечно, получил по шее. Точнее, по кепке. Но шутить не перестал…
Где-то справа, с наших позиций, длинной почему-то очередью в сторону берега разродился АК–74М. Высадив полмагазина, стрелявший успокоился.
Но проснулись артиллеристы.
Стоявшая в лесочке возле Покровского «дэ-двадцатая» вдарила по противоположному берегу. Через пару минут еще.
Хохол обиделся и ответил из «саушки», которая регулярно выкатывалась и работала по нашему берегу со стороны Очакова.
Теперь полетело по нам.
Не прямо по нам. Но близко.
Значит, подняли беспилотник, засекли нашу бестолковую движуху.
Бойцы тут же попадали: кто в блиндажи, кто поумнее и поопытнее – в лисьи норы.
Тем временем, арта занялась своим любимым развлечением – начался пинг-понг, наши старались подловить вражескую «саушку», хохол «стодвадцатьвторыми» снарядами шерстил прибрежный лес в поисках одинокой гаубицы.
Все это летало над головами доброволов, но вреда не причиняло.
– Ну что, братец, с днем рожденья! – Балу выкопал из песка канистру со спиртом и плеснул Артему в кружку.
– Тогда уж с ночью, – криво улыбнулся Темыч, вспомнив очередь над головой.
В конце концов Темка заснул, и приснилась ему Маша…
* * *…Машенька не любила вспоминать девяностые – бедность, если не сказать нищета, обрушилась на юную девушку и ее бабушку вместе с демократией и свободой слова.
Августа Владленовна тоже поджала перышки, но виду не показывала. Да и сама показывалась на родительской квартире нечасто.
Новое семейное гнездо у модной библиотекарши «за тридцать» оказалось пустынным, очередной муж сказал ей твердо, что детей ему не надо, а жить нужно духовной жизнью.
Правда, супружеского ложа он не отвергал, скорее даже напротив, поэтому гормональные таблетки супруги неизменно сопровождали духовные стремления и искания новой семьи, добавляя к неизбежной старости женщины будущие проблемы с надпочечниками и суставами.
Новый муж Августы Владленовны был историк искусств и неофит, читал митрополита Антония Блюма и диакона Кураева. Начинал еще более широко, как и многие из его круга, – с несчастного Александра Меня. Но потом, как сам признавался, перерос заблуждения последнего.
Машенька не голодала, но платье на выпускной пришлось шить самой. И хотя от былых замашек Августы Владленовны осталось немного, перевод дочери в престижную школу она все-таки сумела устроить.
Девушка заканчивала 11-й класс среди детей «новых русских», стремительно народившихся из старых нерусских, большей частью торгпредовских и комсомольских.
Поэтому ее самодельное платье разглядели все – одноклассницы с издевкой, парни с пренебрежением.
Друзей и подруг у Машеньки в школе не было.
В этом мире рассказы о Высоцком и Таганке не котировались.
* * *В университете все резко изменилось, Машенька исполнила мамину мечту и поступила на филологический в МГУ.
Там знание Набокова и диссидентский шарм 70-х ценились выше родительских «мерседесов», а святая филологическая нищета была пропуском в самые отчаянные и запретные тусовки интеллектуальной Москвы.
Советские хиппи доживали свой век на филфаках.
Доживали уже с полной свободой «свободной любви», вина и наркотиков.
На одном из таких флэтовников[7] Машеньку и завалил патлатый рок-музыкант, лидер какой-то прочно забытой университетской рок-группы середины 90-х.
Она думала, что полюбила навсегда, и посвящала ему стихи.
Он возил ее автостопом через всю Россию по доступным тогда еще Украине и Прибалтике: то к Черному морю, то к Балтийскому.
Тогда-то Машенька и оказалась в Тарту, впервые с детства.
Но встреча с папой получилась холодной.
Питэр, как и Августа Владленовна, в очередной раз устраивал счастливую личную жизнь, и его молоденькая аспирантка посмотрела при встрече на Машеньку скорее не как на дочь, а как на конкурентку.
В искривленной набоковской вселенной такое было вполне себе вполне, поэтому Машенька с возлюбленным достаточно быстро покинули ставший еще более провинциальным старинный Дерпт.
Уже уезжая на трейлере с попутным дальнобоем, на железнодорожном переезде она с грустью отметила ржавеющую узкоколейку с осыпающимися платформами, по которой раз в неделю теперь бегали списанные в Европе дизельные дрезины с вагончиками.
Следы предшествующей высокоразвитой цивилизации стремительно зарастали диким виноградом и дурниной…
Несмотря на жесткое последовавшее разочарование, годы любви она и потом вспоминала с блестящими глазами, как самое лучшее в ее жизни.
Хиппи заразил ее трихомониазом, не со зла, конечно. Просто свободная любовь предполагает сожительство с разными людьми одновременно.
Так Машенька узнала, что она у него не одна.
Несмотря на провозглашенную свободу отношений и прочего, она оказалась не готова к такой любви, и хиппи исчез из ее судьбы.
Но не бесследно.
После болезни Машенька получила хроническое бесплодие, потому что маленькие трихомонады не только причинили ей серьезное беспокойство в личной гигиене и боль при сексе, но и проникли в маточные трубы, где от воспаления появились непроходимые спайки.
Правда, узнает об этом Машенька уже спустя десятилетия, когда захочет и не сможет стать мамой.
…А вот Августа Владленовна начала сдавать.
Причиной этому был Путин.
Наступили двухтысячные, и расставание с ее последним официальным мужем вынудило стареющую матрону вернуться в родительские пенаты.
Признаться себе в крушении всех надежд на личное счастье Августа Владленовна не могла, и тут ее в третий раз настигла нестареющая страсть к диссидентству.
У нее наконец появился персональный враг, и увядающая женщина вздохнула свободно. Теперь каждая новая морщина на ее лице (а для женщины это посерьезней разных там «шрамов на сердце») была обязана своим появлением Путину.
Все встало на свои места, во всех ее бедах и даже болезнях отныне были виноваты «проклятые чекисты».
Материально и морально она укрепилась тоже как никогда: узнав о «неприличной болезни» дочери, Августа Владленовна пригвоздила Машеньку таким презрением, что и без того сутуловатая и прозрачноватая молодая женщина съежилась до математической точки.
Отныне вся ее жизнь была безраздельно посвящена матери, только так неблагодарная дочь могла искупить свои прошлые преступления перед светлым образом Августы Владленовны и избегнуть будущих.
– Хватит бегать за мужиками, заломив хобот! – отрезала Августа Владленовна, после чего великодушно простила дочь.
Грешки «для здоровья» она, конечно, разрешила – но согласованные, с утвержденными кандидатурами.
Этому предшествовала поездка с бабушкой под Анапу, в небольшой курортный поселок Сукко. Машенька измену переживала тяжело, хотя и молчала. Уже на грани нервного истощения бабушка, единственный, как оказалось, свет в небольшой Машиной жизни, схватила великовозрастную девочку чуть ли не за руку и увезла к морю. Как в старые добрые времена, когда был жив дедушка.
Там, после купания в прозрачном с окатистой галькой море, юная женщина забиралась на крутую и почти отвесную гору справа от городского пляжа и подолгу смотрела вдаль со смотровой площадки.
Странно, но ни измена, ни постыдная болезнь желания броситься со скалы в ней не вызывали.