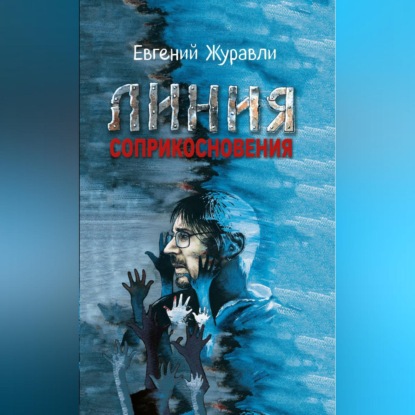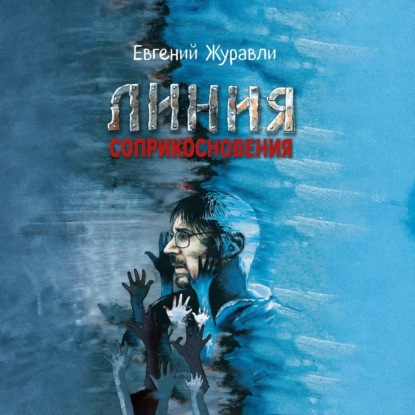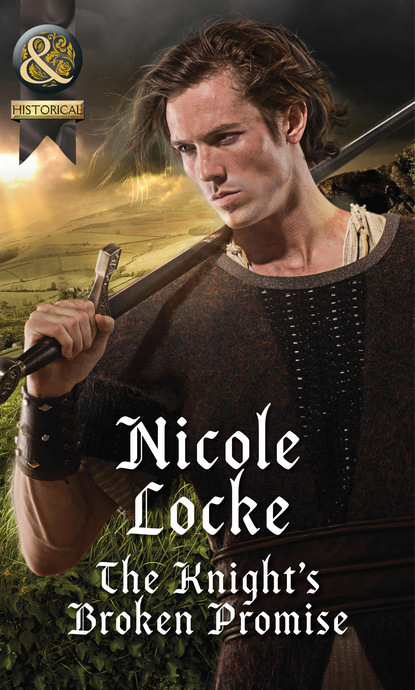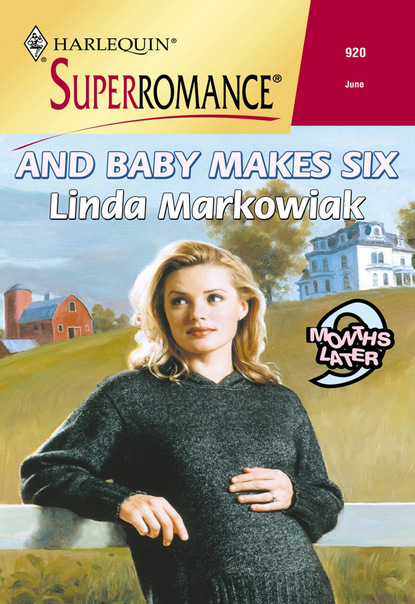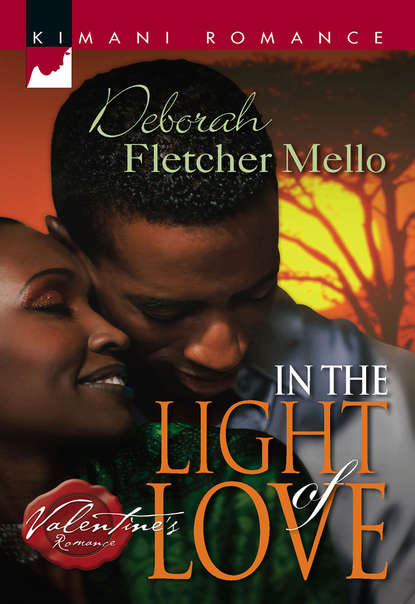После войны
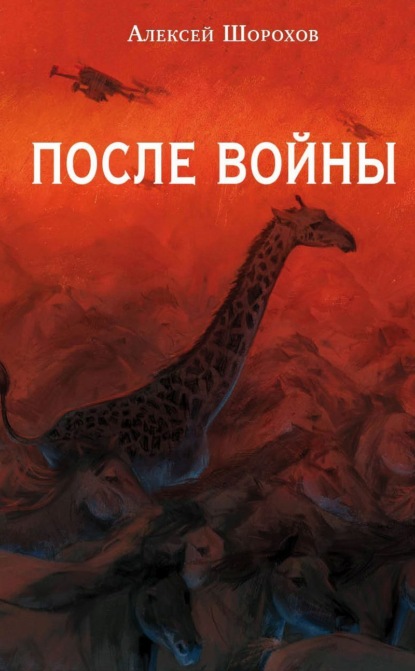
- -
- 100%
- +
Какую-то неистощимую и неубиваемую жизненную силу она унаследовала от папы, что-то чухонское, крепкое, как рыбачья мыза, гнездилось в ее субтильном – вся в мать – и в тоже время привлекательном точеном юном теле.
Поездка к морю оказалась последним подарком из детства. Вскоре бабушки не стало.
Машенька выздоровела физически, но забросила филологические мечты и мысли о диссертации, устроилась на хорошую зарплату редактором на телецентре и зажила со стареющей Августой Владленовной душа в душу.
Иногда ее что-то смутно тревожило, особенно в церкви, и, когда радостные мамаши несли к причастию малышей, у Машеньки почему-то наворачивались слезы. Она сама не знала почему. Но призрак одиночества и брошенности веял где-то поблизости, и тогда молодая женщина еще теснее прижималась к матери.
О большем Августа Владленовна не могла и мечтать. Машенька зарабатывала хорошо и почти все тратила на мать. Надо сказать, что к 2010-м годам XXI века, несмотря на все злодеяния «чекистского режима», недорогие россияне обросли жирком, и отдых в Турции или Египте стал повседневностью.
Турцией и Египтом Августа Владленовна, как «женщина из театральной среды» и с художественным вкусом, разумеется, брезговала, и Машенька, превратившаяся для матери и в секретаршу, и в маркетолога, и в финансового директора, заказывала ей туры в Италию или Испанию. Как правило, сама же ее туда и сопровождала.
Потому как чемоданы тоже кто-то таскать должен.
Да и разговорным английским в этой странной семье владела она одна. Диссидентствующая работница «Иностранки» языкам была не обучена, как-то не склалось.
Сначала был муж, блестяще владевший английским и французским, теперь дочь.
Питэр, как и большинство жителей приграничных территорий, тоже с языками ладил, но когда Августа Владленовна говорила «муж», по умолчанию подразумевался последний ее муж.
Бородатый филолог из далекого Тарту в воображении стареющей матроны с Таганки из величины относительной постепенно превращался в величину отрицательную, первопричину ее бед и страданий. Поэтому с недавнего времени все больше обходился молчанием.
Да и проявлялся в их жизни он все реже и реже, как правило, звонками к католическому Рождеству и Машиному дню рождения.
Помимо шоппинга в Милане и обязательного Святого Семейства в Барселоне Августа Владленовна все больше заболевала оппозиционными расстройствами.
Особенно обострилось это в период климакса, и, когда импозантная заведующая сектором литературы ХХ века в «Иностранке» поняла, что отныне она уже не вполне женщина, внутри у нее что-то оборвалось.
Доконала Августу Владленовну установка памятника Солженицыну на Таганке.
– Это чекисты ему за ту мерзкую антисемитскую книжонку[8] памятник поставили, – прошипела она и весь день ходила как ужаленная.
Неизвестно, вспоминала ли она в тот день свою юность, чтение «Архипелага ГУЛАГа» под одеялом или нет, но однозначно, что и те святые годы «борьбы с кровавой гэбней», и сама священная, не вставшая на колени Таганка были теперь отравлены и непоправимо осквернены.
Приезд на открытие памятника президента страны оказался последним ударом для стареющей женщины.
Вся подлость окружающего ее мира стала как-то особенно неприглядна.
Причина ее бед помимо несчастного Питэра теперь персонализировалась.
Но кроме Путина, что было совершенно ясно, ее до невозможности раздражал и весь «этот рабский народ», который упорно, раз за разом голосовал за него.
Нечего и говорить, что в ее среде представителей этого народа практически не было.
– Он что, из колхоза «Красный луч»? – с презрением спрашивала она у дочери про кого-то из общих знакомых, если хотела того окончательно истребить в глазах Машеньки.
Тот факт, что ее собственная бабушка (одна из бабушек) была из деревни, а дедушка работал на заводе «Серп и Молот», и ее собственное самое что ни на есть кондовое рабоче-крестьянское происхождение, как-то оказывались напрочь заполированы ближневосточной семейной ветвью, театральным прошлым и библиотечным настоящим Августы Владленовны.
Впрочем, точно такое же настроение царило и у Машеньки в телецентре:
– Как тебе возвращение на Родину, к родным осинкам? – насмешливо спрашивали ее по окончании отпуска.
Машенька привычно кривилась:
– Жить хорошо там, а вот умирать придется здесь…
– Только не на работе, Машенька, только не на работе, – успокаивал хорошенькую женщину начальник, – кстати, сегодня у нас опять патриотизм и любовь к Родине, кто-то из Госдумы придет в студию, кто – еще уточняем…
* * *Артем проснулся от взрыкивания бензопилы над головой. Странное дело, к далеким выходам и прилетам привыкаешь, даже поспать удается.
А вот звук из мирной прошлой жизни разбудил. Двухтактный двигатель работал уже на холостых, когда Темыч, отряхивая песок, выбрался из блиндажа.
– А я думал «Фурия»[9] над нами кружит.
– Тогда уж «Герань»[10], – ответил Зима, неумело державший бензопилу, – «Фурия» на электротяге…
– Что случилось, брат? – Тема осмотрел бензопилу. – Дрова вроде как не нужны, жара давит…
– Тьма, ты все проспал – под утро накрыло дальний НП. То ли откорректировали хохла, то ли просто по квадратам накидывал. Слава Богу, Суворыч выход просчитал, выскочил за пару секунд до прилета оттуда… А вот «Дашке»[11] хана. Погнуло так, что теперь ею только в хоккей играть!
– Скорее уж в гольф! Зимний ты человек, Зима, все бы тебе в хоккей…
Все-таки Тема вспомнил, что под утро блиндаж хорошенько тряхнуло. Значит «Гвоздика» с той стороны нащупала доброволов, хреново дело.
Хотя, может, и повезло хохлу…
– Хорошо разобрало блиндаж?
– По новой перекрывать будем. Два наката минимум.
– Дай инструмент, не порти казенное имущество, пошли сосенки выбирать…
Прибрежный лес, где нарезали позиции добровольцам батальона «Борей», только у генералов на картах значился большим зеленым пятном.
На самом деле еще прошлой осенью хохол зажигалками спалил этот и многие другие заповедные леса на Кинбурнской косе, выкуривая русских из «зеленки».
Русских выкурить не удалось, но то, что уцелело, «зеленкой» можно было назвать весьма условно.
Позиции «Борея» находились на песчаном взгорке, по которому реденько торчали опаленные внизу сосенки, кое-где с чахлой зеленью. Деревца были небольшие, пять-шесть метров высотой.
Найти хорошую сосну на блиндаж в два наката было непросто, к тому же свежая залысина в соснячке могла бы выдать позиции, которые, походу, и так уже были засвечены.
Поэтому пошли подальше от своих.
Когда Тема почти профессионально завалил третью сосну, Зима не сдержался:
– Ты где так навострился? Не на Колыме?
– Нет, братец, у себя в деревне – под Тулой, сухие дубы валил, было время…
Темыч вспомнил ту зиму. После развода он не мог больше оставаться в Москве в своей квартире. Все напоминало о ней, о бывшей. А он все еще любил ее, носил в сердце.
Поэтому не мог видеть общих знакомых. Вообще не понимал, как жить дальше? Что-то сломалось внутри, и хороший бренди не помогал. Напротив…
У него был деревенский дом, в деревне под Тулой, недалеко от Белева.
Туда он и уехал пожить, порыбачить. Свою однушку в Москве сдал знакомым, на работе сказался больным, и надолго, а так как преподавал в нескольких вузах сразу, рассорился с деканами (которых, конечно, подвел), но все равно уехал.
На ежемесячные выплаты за квартиру Тема вполне себе зажил в среднерусской глуши. Один. С рыжей кошкой, которую привез из Москвы.
Дом был вполне сносный, крепкий крестьянский пятистенок, купленный по случаю в дачных целях.
Одно плохо – отапливался дровами. И даже не то плохо, что дровами. Печной добрый огонь отогревал длинными осенними и зимними вечерами заплутавшую Темкину душу, успокаивал. Плохо, что в безлесом полустепном крае найти дрова было непросто.
Тема по осени новенькой итальянской бензопилой напилил сухих ракиток вдоль Оки и радовался, что забил сарай дровами.
Но, когда пришло время топить, понял, чему посмеивался сосед Петрович, глядя на его заготовки.
Дыму ракита давала много, а тепла мало.
Петрович же и указал ему на дубки на взгорке за деревней: весенним палом многие из них погубило, и к зиме высокие крепкие деревья, обугленные у комля, были уже готовыми дровами.
Там-то со своим «Партнером» Артем и осваивал навыки запилов и валки крупных деревьев, осваивал удачно, потому что умудрился не покалечиться.
Зато и дрова из сухих дубков оказались! В самые лютые морозы заряжал Тема дубками свою печь, и те горели – аж загнетки плавились!
– О чем задумался, боец? – вернул его на обожженную и исковерканную снарядами землю окрик.
Перед доброволами вырос комбат. Хромой воевал давно, с 14-го. Поэтому идиотов, заходивших на боевые колоннами, сторонился и сам свой командирский «Патрик» оставлял в кустах за километр-полтора от позиций.
Поэтому и вырос внезапно.
– Да вот, сосну на блиндаж валим. Разворотило…
– Знаю, – отрезал Хромой. – Делайте быстрее, пока небо чистое.
– Так точно, – отозвались Тема с Зимой и продолжили распиливать уже поваленные деревья.
Хромой был родом из Очакова, он часто приезжал именно сюда, на берег лимана, смотрел в бинокль в сторону родного города.
О чем он думал в эти минуты? Или когда упрямые «Герани» или тяжелые «Искандеры» ночью шли на Очаков, где остались его прежняя жизнь, семья?
Действительную Хромой отслужил морпехом в разведбате на Дальнем Востоке. На дембель уходил прапором, ротный не хотел отпускать, даже документы спрятал. Но не удержал, так рвался хлопец домой. Выкрал документы и ушел.
Да и какой бы он был разведчик, если бы не выкрал своих документов!
А дома ждали дела. По стране уже вовсю кружила перестройка и неразлучная с ней перестрелка.
Навыки морпеха-разведчика пришлись кстати в новой жизни. Так же как и характер – прямой и отчаянный.
Ко времени развала Союза Хромой (тогда еще не хромой) разъезжал по Очакову на квадратном джипе «Чероки» и держал под собой коммерческие ларьки в городе и по побережью.
В те же времена во время непарламентских дебатов по вопросам о собственности он и получил две пули в колено. Ходить продолжил, но стал осторожней. На закате лихих 90-х Хромой сумел соскочить с бандитского гуляйполя, во власть не пошел, оставил себе пару заправок и стал приличным украинским бизнесменом.
Джип «Чероки» поменял на глазастый «двести третий» «мерседес», завел семью, и все бы так оно и шло.
Но случился 2014 год. Очаков, как и Одесса, как и Николаев, как и Мариуполь, как и все Черноморское и Азовское побережье Юго-Востока бывшей УССР, не видел себя в одном государстве со зверьем, приехавшим с Западенщины и татуированном свастиками и нацистскими рунами.
За оружие взялся только Донбасс.
Туда и подался Хромой еще в апреле, а уже в начале мая на Украине был объявлен первый траур по погибшим в АТО под Крамоторском.
И Хромой не без оснований считал себя причастным к этому событию…
Глава 3 Встреча
Они встретились в Краснодаре, на «Селезневских чтениях».
Тема еще во время учебы на истфаке МГУ пробовал себя в журналистике, но не особенно получилось. Пробовал заняться и рерайтом, принес свои литературные опусы в небольшое немецкое издательство на Полянку.
Опусы понравились.
Редакторша сказала, что у него нежный, акварельный стиль.
Артему предложили передирать иностранных авторов на русские реалии и с русскими именами.
– Гугл в помощь! – улыбнулась редакторша. И дала ему англоязычный подлинник. – Перепишите это вашим нежным, акварельным стилем.
Тема насиловал себя несколько недель подряд, получилось полтора авторских листа чудовищного текста, больше похожего на крик о помощи.
А нужно было десять листов…
Зацепиться на кафедре отечественной истории тоже не вышло.
Дело в том, что уже на третьем курсе Тема открыл для себя Кожинова и понял, что не столько история, сколько историософия его конек.
Общеобразовательные Данилевский и Константин Леонтьев, вскользь листаемые либеральной историографией, его перевернули.
Дальше уже пошло само собой: братья Киреевские и Аксаковы, публицистика Тютчева и Страхова, «Дневник писателя» Достоевского и Розанов…
В ХХ веке историософия Флоренского и Гумилева. Ну и, конечно, современники: Селезнев, Шафаревич, Палиевский…
С таким образом мыслей в конце 90-х – начале 2000-х на истфаке МГУ делать было нечего.
Наткнувшись однажды на объявление о «Кожиновских чтениях», Тема буквально напросился на конференцию в Армавир, где они проходили.
Там он встретил вдову и единомышленников главного идеолога «русской партии» (так называли Кожинова и друзья, и враги), русских интеллектуалов. В основном филологов, но были и историки.
После этого вопрос защиты диссертации решился сам собой.
Артем и защитился по Кожинову, но уже в Краснодаре.
…А Машенька приехала на чтения случайно. Уже давным давно позаброшенные мечты об аспирантуре и диссертации неожиданно оживила – точнее, разрешила оживить дочери – Августа Владленовна.
Видимо, не совсем полноценное собственное очно-заочное образование где-то подтачивало ее самооценку.
Бородатая тень Питэра укоризненно взирала на них обеих.
Отыграться решено было на Машеньке, и ее после десятилетнего перерыва направили в науку.
Неизвестно, чтобы она выбрала в двадцать лет, сразу по окончании филфака, но на четвертом десятке Машенька выбрала Достоевского.
Достоевским она утешалась.
«Каждый перед всеми за все виноват» – говорил ее любимый старец Зосима.
А значит, и страдают все по делу и не зря.
Это ей было близко и понятно.
* * *Тема был далеко не мальчик. Развод и много чего еще за спиной. Но таких сияющих глаз он не видел. Даже теребил себя за волосы, не сон ли это.
Уже сидя за традиционным филологическим шашлыком в Архипо-Осиповке, куда гости конференции поехали после пленарных заседаний, глядя на берегу моря на серые, какие-то бесконечные в своей вскипающей белизне вечные волны – он нет-нет и оборачивался к Машеньке, даже спиной чувствуя, как блестят для него ее глаза.
То есть сначала Машенька ему просто понравилась.
Потом выяснилось, что они практически в одни годы учились в Московском университете. Общие преподаватели, студенческие тусовки, фестивали…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Полиандрия – многомужество.
2
Стихотворение А. Вознесенского «Уберите Ленина с денег» (1967).
3
Героиня романа В. В. Набокова об инцесте «Ада».
4
Героиня другого одноименного романа Набокова.
5
Ю. М. Лотман – один из основателей Московско-Тартусской школы структурного анализа, завкафедрой русской литературы Тартусского университете в 70-е гг. ХХ века.
6
Московский государственный институт культуры в Химках.
7
Квартирников.
8
Книга А. И. Солженицына о русско-еврейских отношениях «Двести лет вместе».
9
Украинский БПЛА с электрическим двигателем.
10
Российско-иранский ударный БПЛА с бензиновым двигателем.
11
ДШК – (Дегтярев-Шпагин-Крупнокалиберный) – советский станковый крупнокалиберный пулемет под патрон 12,7 мм.