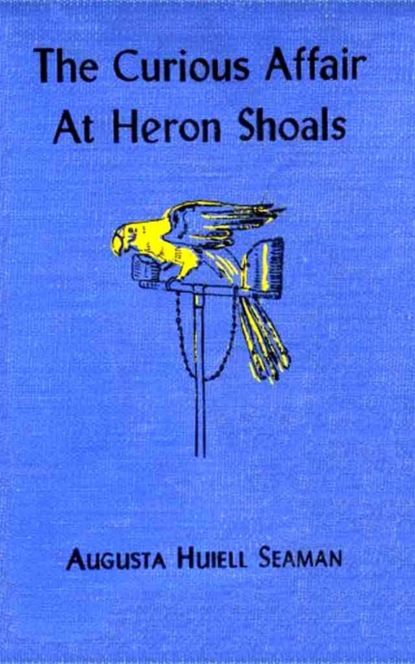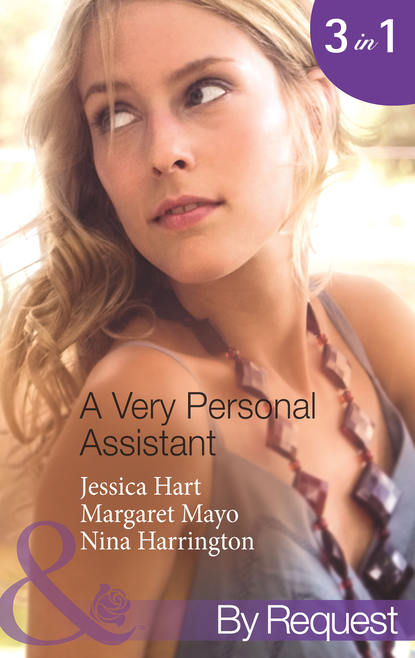Вредная терапия. Почему дети не взрослеют

- -
- 100%
- +

Abigail Shrier
Bad Therapy. Why the Kids aren’t Growing Up
© Abigail Shrier, 2024
© М. Колопотин, перевод на русский язык, 2025
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025
Издательство CORPUS ®
* * *Посвящается матери и отцу. И Заку, всегда Заку
Иногда одной любви недостаточно, и идти становится тяжелей, непонятно почему.
Лана Дель РейОт автора
Говоря о “кризисе психического здоровья у молодежи”, люди часто смешивают между собой две отдельные группы. Одну из них составляют дети и подростки, которые страдают от серьезных психических болезней. Таких, которые в худшем случае, если их не лечить, лишают больного возможности плодотворно трудиться, находиться в стабильных отношениях и вообще закрывают для него перспективу нормальной жизни. Для этой группы кризис психического здоровья – вопрос безраличия общества и недостатка усилий медиков. Эти немногие дети нуждаются в лекарствах и заботе психиатров. Моя книга не о них.
Моя книга посвящена второй, гораздо более обширной группе: детям, которые тревожны и одиноки, неприкаянны и грустны. Студентам колледжа, которые не могут послать резюме, чтобы устроиться на работу, без трех – или десяти – звонков маме. Мы обычно не оцениваем их проблемы как “психическое заболевание” – но и не можем сказать, что они живут полноценной жизнью. Они подыскивают себе диагнозы, не в силах объяснить свои чувства. Каждый раз им кажется, что это “оно”, но “оно” постоянно меняется.
Мы обрушиваем на этих детей лавину лекарств, психотерапий, ресурсов для “улучшения психического самочувствия” – часто просто ради профилактики. Мы идем на поводу у неверных диагнозов и спешим все поправить неверными средствами.
Введение. Нам просто хотелось, чтобы дети были счастливы
Этим летом мой сын вернулся из лагеря с больным животом. Поскольку боль все никак не проходила, я решила отвезти его в клинику педиатрической скорой помощи. Осматривавший нас врач сказал, что аппендицит он исключает. “Наверное, просто обезвоживание” – таков был вердикт. Уходя, и прежде чем отпустить нас домой, врач попросил дождаться другого человека из медперсонала, которому нужно было задать нам несколько вопросов.
В кабинет деловито вошел крупный мужчина в черной больничной униформе, в руках он держал планшет для бумаг. “Если вы не против, нам нужно остаться наедине – я проведу небольшой психиатрический скрининг”, – сказал он. Только пару секунд спустя до меня дошло, что этот мужчина хотел остаться наедине с моим сыном – и я ему мешала.
Я попросила посмотреть его анкету; она оказалась официальным бланком, выпущенным Национальным институтом психического здоровья – госучреждением федерального уровня. Ниже идет полный, без сокращений, список вопросов, которые этот медработник собирался задать моему двенадцатилетнему ребенку, оставшись с ним с глазу на глаз:
1. За последние несколько недель у тебя возникало желание умереть?
2. За последние несколько недель не возникало ли у тебя чувство, что для тебя или твоей семьи было бы лучше, если бы ты умер?
3. За последнюю неделю не возникали ли у тебя мысли о самоубийстве?
4. Пробовал ли ты когда-нибудь покончить жизнь самоубийством? Если да, то как? Когда это было?
5. Думаешь ли ты о том, чтобы покончить с собой, в настоящий момент? Если да, пожалуйста, опиши эти мысли[1].
Когда медработник попросил меня покинуть помещение, с его стороны тут не было никакого самоуправства. Он действовал буквально по инструкции – “Инструкции для младшего медицинского персонала”, которая предписывает довести до родителей следующий текст: “Этот опрос мы проводим в условиях конфиденциальности, поэтому я попрошу вас выйти на несколько минут. Если нам покажется, что благополучию вашего ребенка что-то угрожает, мы вам об этом сообщим”[2].
Пока я везла сына домой из клиники, меня не отпускала мысль о возможности другого исхода. А что, если бы в этот раз мне отказала моя несговорчивость? Дети часто стараются угодить взрослым и отвечают то, что, им кажется, от них ожидают. Что, если бы мой сын, оставшись один на один с этим огромным мужиком, хоть раз ответил утвердительно – реагируя на посыл, который он мог почувствовать в этих вопросах? И что тогда – его не отпустили бы со мной из клиники?
А если бы это и правда был ребенок, которого посещали мрачные мысли? Неужели это лучший способ ему помочь: разлучить с родителями и поставить перед необходимостью отвечать на вопросы о самоубийстве, чем дальше, тем дотошнее?
Я привезла сына не на прием к психотерапевту. Я не записывала его на нейропсихологическое обследование. Я привезла его к педиатру из-за боли в животе. Не было никаких показаний, никаких даже поводов, чтобы подозревать, что он психически нездоров. Но медбрата это не смутило. Он знал, что никаких поводов ему не требуется.
Мы, родители, стали так нервно, так сверхнастороженно – почти одержимо – относиться к психическому состоянию своих детей, что теперь то и дело позволяем всякого рода специалистам в этой области выставлять нас за дверь. (“Мы вам об этом сообщим”.) Стремясь воспитать хорошо адаптированных детей, мы десятилетиями слушались их советов. Возможно, это была гипертрофированная реакция на наших собственных родителей, которые исходили из противоположного – что уж если с кем и советоваться о том, как вырастить нормального ребенка, то в последнюю очередь с психологами.
Когда мы с братом были маленькими, нас спокойно могли отшлепать. Редко кто интересовался нашими чувствами, когда в семье принимались решения, определявшие нашу жизнь, – в какой школе мы будем учиться, будем ли мы ходить в синагогу по большим праздникам, какая одежда подобает тому или иному месту и случаю. Если нам не особенно нравилось то, что готовили на ужин, никто не предлагал нам альтернативного меню. Если мы и были обделены драгоценным правом самовыражаться – якобы необходимой ребенку возможностью опытным путем искать свою нераскрывшуюся идентичность, – мы с братом об этом просто не догадывались. Еще долгие и долгие годы никому из наших сверстников не пришло бы в голову начать относиться к этим совершенно заурядным моментам в жизни ребенка в восьмидесятые как к источнику психотравмы.
Но ко времени, когда я и миллионы моих сверстников и сверстниц стали взрослыми, для нас наступила пора терапии[3]. Мы начали копаться в своем детстве и все более умело выявлять у своих родителей черты эмоциональной недоразвитости[4]. Эмоционально недоразвитые родители ожидали слишком многого, слушали слишком мало, были не способны разглядеть потаенную боль своего ребенка. Эмоционально недоразвитые родители плодили эмоционально травмированных детей.
Мы никогда не сомневались, что у нас тоже будут дети. Мы обещали себе, что, став родителями, будем вести себя грамотнее с психологической точки зрения. Мы готовились лучше слушать, больше спрашивать, следить за настроением своих детей, брать в расчет их мнение при принятии семейных решений и, насколько возможно, предвосхищать моменты, когда им бывает плохо. Да, мы будем дорожить нашими отношениями. Мы сломаем иерархический барьер между родителями и детьми, воздвигнутый прошлыми поколениями, – вместо этого мы будем играть за одну команду, мы будем делиться опытом, мы будем дружить.
Но самое главное – мы хотели вырастить “счастливых детей”. Мы положились в этом на экспертов по психологии воспитания. Мы запоем читали их бестселлеры, где по полочкам раскладывалось, как нам следует обучать собственных детей, как корректировать их поведение и даже как с ними разговаривать.
Послушные мнению экспертов, мы усвоили терапевтический подход к воспитанию. В общении с детьми мы научились сопровождать каждое правило или просьбу устным обоснованием. Мы никогда и ни в коем случае их не шлепали. Мы в совершенстве овладели приемом “тайм-аута” и подробно разъясняли причины каждого наказания (переименованного в “последствия твоего поведения” – чтобы ребенок не чувствовал, что его “стыдят”, и заодно чтобы мы сами не чувствовали себя такими тиранами). Правильное воспитание стало функцией с единственным показателем: насколько хорошо нашему ребенку в любой момент времени. Идеальное детство означало отсутствие боли, дискомфорта, ссор, неудач – и, конечно же, любого намека на “травму”.
Но чем пристальней мы следили за эмоциями наших детей, тем труднее нам было переносить неизбежные вспышки их недовольства. Чем внимательнее мы к ним присматривались, тем более явными становились их отклонения от бесконечного ряда заданных ориентиров – в учебе, в речи, в социальной и эмоциональной сфере. Каждое отклонение теперь ощущалось как катастрофа.
Мы срочно отправили наших чад к тем же самым знатокам детской психики, советами которых мы руководствовались с самого начала, – только теперь для тестирования, диагностики, консультирования и лечения. Нам было необходимо, чтобы и наш ребенок, и все вокруг знали: он не застенчивый, у него “социальное тревожное расстройство” или “социофобия”. Он не хулиган, у него “вызывающее оппозиционное расстройство”. Он не мешает другим заниматься, у него “СДВГ”. В этом не виноваты ни мы, ни ребенок. Мы изо всех сил боролись с негативным ореолом, окружавшим эти диагнозы, и в конце концов победили. Наших детей стали награждать ими все чаще и чаще.
За время, пока я писала “Необратимый ущерб”, свою предыдущую книгу, и за годы после ее публикации мне удалось побеседовать с сотнями американских родителей. Чем дальше, тем яснее я осознавала, насколько вездесущей – благодаря психотерапевтам и тем, кто замещает их в школе, – стала терапия в жизни наших детей. Насколько безоговорочно родители полагаются на терапевтов и терапевтические методы, решая детские проблемы. И насколько часто диагноз специалиста меняет самовосприятие ребенка.
Про школьное образование следует сказать особо: здесь терапевтический подход был встречен просто-таки с распростертыми объятиями. Школы объявили себя нашими “партнерами” по воспитанию и увеличили штаты сотрудников, занимающихся психическим благополучием детей: психологов, консультантов, социальных работников стало еще больше. При новом режиме на место наказаниям и поощрениям пришли диагнозы и льготы для диагностированных. У детей стали формировать систематический навык отслеживания и вербализации неприятных эмоций. Педагогов приучали видеть в “травме” главный источник плохого поведения и неуспеваемости.
Эти усилия не ставили своей целью получить на выходе сверхуспешных молодых людей. Но миллионы родителей уверовали в то, что именно таким путем выращиваются самые счастливые и адаптированные дети. И что же – при масштабнейшей за всю историю поддержке со стороны психологов и их коллег мы вырастили самое одинокое, тревожное, угнетенное, безрадостное, беспомощное и запуганное поколение. Почему же так получилось?
Почему первое поколение, избавившее детей от физических наказаний, произвело на свет первое поколение, декларирующее, что оно не желает иметь собственных детей?[5] Почему те, кого воспитывали так мягко и либерально, сделались убежденными в том, что их здоровье подточено тяжелой детской психотравмой? Почему дети, получившие несравнимо бо́льшую дозу психотерапии, чем любое предыдущее поколение, погрузились теперь в бездну отчаяния?[6]
Источник их проблемы не сводится к инстаграму[7] или снапчату. Как сообщают нам их начальники и педагоги (и они сами, кстати, тоже), представители подрастающего поколения крайне плохо подготовлены к выполнению базовых задач, которые мы ассоциируем со взрослой жизнью: они не могут попросить поднять себе зарплату; им тяжело выйти на работу в моменты политических обострений в стране, им вообще тяжело регулярно ходить на работу[8]; они затрудняются исполнять свои обязанности, не требуя длительных перерывов на поправку “психического здоровья”.
Теперь не так редки случаи, когда мальчики шестнадцати-семнадцати лет откладывают получение водительских прав, объясняя это тем, что за рулем им “страшновато”[9]. Или когда третьекурсники, празднующие двадцать первый день рождения, приглашают на вечеринку свою маму. Риски и свободы, которые практически равнозначны со статусом взрослого человека, вызывают у них только настороженность.
Это одинокие существа. Им ничего не стоит зациклиться в душевном страдании, причины которого даже у их родителей вызывают некоторое недоумение. Родители бегут за ответом к специалистам, и когда их ребенок с неизбежностью получает диагноз, они хватаются за него с гордостью и облегчением: сложная жизнь сводится к одному пункту диагностического справочника.
Никакая отрасль не откажется от перспективы взрывного роста, и сообщество специалистов по расстройствам психики – не исключение. Ставя нормальных детей с нормальными проблемами на бесконечный конвейер, индустрия психического здоровья штампует пациентов быстрее, чем успевает их вылечить.
Все их коррекции и рекомендации якобы во благо наших детей в основном имели негативный эффект. Пропуская гамму индивидуальных различий сквозь черно-белый фильтр функции/дисфункции, специалисты по психическому здоровью приучили наших детей думать, что у них есть “нарушения”. Действия таких экспертов всегда опираются на две предпосылки: каждому требуется терапия, и с каждым хотя бы отчасти “что-то не так”.
Они говорят об “эмоциональной устойчивости”, но подразумевают “принятие своей травмы”. Они мечтают “дестигматизировать психические расстройства”, и при этом разбрасываются диагнозами, как магическими средствами на все случаи жизни. Они говорят о “здоровье”, хотя уже пустили под откос целое поколение – самое нездоровое поколение в новейшей истории.
Эксперты от психотерапии, с вдохновением пророков нового культа, побудили миллионы родителей уверовать в ущербность своих детей, пропитали их нервозной мнительностью и сомнением в своих силах. Они поставили учителей на службу делу терапевтического образования, смысл которого заключается в отношении к любому ребенку как к эмоциональному инвалиду. С их подачи педиатры теперь могут спрашивать восьмилетнего мальчика – которого не беспокоило ничего, кроме больного живота, – не бывает ли у него мыслей, что родителям было бы лучше, если бы его не было[10]. Столкнувшись с непобедимой самоуверенностью этих новых пророков, школы демонстрировали энтузиазм, педиатры – готовность, родители – покладистость.
Может быть, нам уже пора понемногу начинать давать отпор.
Часть I. Исцеляющие да навредят
Лучшие из врачей попадут в ад.
Мишна Кидушин 4:14Глава 1. Ятрогения
В 2006 году я собрала все свои пожитки и переехала из Вашингтона в Лос-Анджелес, чтобы быть рядом со своим молодым человеком. В Калифорнии к тому моменту я была лишь однажды, несколькими месяцами ранее, когда летала на встречу с его родителями. За исключением моего молодого человека и его семьи, все, кто смог бы опознать мое тело в случае безвременной кончины, проживали на атлантическом побережье.
Мне было двадцать восемь лет, я недавно окончила юрфак, и теперь передо мной стояла неприятная задача – начать делать адвокатскую карьеру. Я не находила себе места. С одной стороны, у моего молодого человека был бизнес в Лос-Анджелесе. Если я хотела, чтобы у нас с ним все получилось, нужно было менять дислокацию.
Но с другой стороны, я знала, что в этой новой жизни – его жизни – я могу легко сойти с ума. Моя лучшая подруга, Ванесса, осталась в Вашингтоне. И поскольку мы обе устроились в адвокатские конторы, на телефонное общение в новых условиях – ненормированное рабочее время и невозможная разница часовых поясов – рассчитывать не приходилось. Мне нужен был человек, с которым я могла бы делиться своими тревогами и переживаниями, не выбиваясь из графика. Мне была нужна дублерша Ванессы, доступная для бесед каждый четверг в восемнадцать ноль-ноль. И впервые в жизни я могла себе ее позволить. Я обратилась к платному психотерапевту.
Каждую неделю, на протяжении всех пятидесяти минут “терапевтического часа”, я пользовалась ее безраздельным вниманием. Если ей надоедало слушать одни и те же жалобы, она ничем не давала это понять. Она была профессионалом. В ее присутствии я никогда не чувствовала себя зацикленной на самой себе, хотя иногда именно так и было. Она давала мне выговориться – и даже выплакаться. Я часто выходила из ее кабинета с ощущением, что из меня аккуратно и технично извлекли загноившуюся занозу какого-нибудь очередного неразрешенного конфликта.
Она помогла мне убедиться, что я не такая уж и плохая. В большинстве проблем был виноват кто-то другой. Выяснилось, что многие люди из моего окружения были хуже, чем я думала! Вдвоем мы от души раздавали им диагнозы. Например, кто мог знать, что у такого количества моих родных – нарциссическое расстройство личности? Все это сильно согревало мне душу. За короткий срок мой психотерапевт превратилась в высокооплачиваемую подругу, которая соглашалась со мной почти во всем и любила перемыть косточки людям, которых мы обе (в каком-то смысле) хорошо знали.
У меня выдался отличный год. Мой молодой человек сделал предложение – я согласилась. Но вдруг, за месяц до назначенного дня свадьбы, мой терапевт ошарашила меня новостью: “Я не уверена, что вы оба готовы к браку. Наверное, нам нужно еще немного поработать”.
Я будто с разбега врезалась в стеклянную дверь – такие это были для меня шок и замешательство. В моих глазах она была женщиной невероятных достоинств: как минимум пятнадцатилетнее преимущество в возрасте, докторская степень по психологии и, судя по всему, многолетний крепкий брак. Пару раз она вскользь упоминала, что никогда не пропускает занятия по пилатесу. А однажды перед сеансом я застала ее сидящей за ее безупречно чистым столом и аккуратно поглощающей протеиновый батончик, который она перед тем столь же аккуратно развернула: я не могла не любоваться ее образцовым самообладанием, тем, какое достоинство она сумела привнести в этот довольно дурацкий способ современного питания. Наверное, ее заявление должно было спровоцировать у меня кризис – но почему-то этого не произошло. Несмотря на всю свою профессиональную подготовку, она все же была человеком, то есть ей тоже было свойственно ошибаться. Я, которая уже смогла самостоятельно перебраться из одного конца страны в другой и наладить новую жизнь, теперь не сомневалась: с вердиктом ее я не согласна, и разрешения у нее я тоже спрашивать не намерена. Я оставила ей голосовое сообщение, в котором выражала благодарность за всю ее помощь. Но, добавила я, пока что я собираюсь сделать перерыв.
По прошествии нескольких лет счастливого замужества я решила походить к ней снова. Потом, примерно в течение года, пробовала сеансы с психоаналитиком. Мой опыт общения с психотерапевтами был разнообразен: в диапазоне от поучительного до обескураживающего. Изредка он даже бывал увлекательным. Возможность прийти на сеанс и еще немного разобраться в том, как работает моя собственная голова, не раз оказывалась мне полезной, и довольно часто я получала от этого удовольствие.
Когда я соглашалась со своим терапевтом, я этого не скрывала. Когда была не согласна – мы обсуждали и это. А когда чувствовала, что пора положить конец нашим встречам, я так и делала. Иначе говоря: проходя психотерапию, я вела себя как взрослый человек. Я достаточно поплавала в бурном житейском море, чтобы обрести некоторое самопонимание, некоторое самоуважение и некоторое представление об адекватности собственного мировосприятия. При случае я вполне была способна возвысить свой голос: “По-моему, у вас создалось неверное впечатление”. Или: “Вам не кажется, что мы взваливаем на мою маму слишком большую ответственность?” Или даже: “Я решила, что хочу прекратить терапию”.
У детей и подростков, как правило, нет достаточных навыков, чтобы говорить такие вещи. В общении ребенка с психотерапевтом слишком велик дисбаланс сил. Ведь дети и подростки пока только обживаются в собственном “я”. Они не могут указывать терапевту на ошибки в его интерпретации событий или в его рекомендациях. Они не могут аргументированно возражать против мнений, которые он высказывает по поводу их семьи или их самих, потому что у них нет архимедовой точки опоры: планета их жизненного опыта еще слишком мала.
Несмотря на все это, родители моего поколения отправляют свое потомство к психотерапевтам в немыслимых количествах, часто просто для профилактики. Мне встречались матери, которые обращались к психотерапевтам, чтобы те помогли их детям адаптироваться в старших группах детского сада или пережить смерть любимого кота. Одна мама рассказала мне, что “подписалась” на терапию заранее, как только две ее дочери пошли в среднюю школу. “Чтобы им было с кем поговорить обо всем том, что я не хотела обсуждать со своей мамой”.
Несколько мам подростков, не прямыми словами, но вполне ясно признались мне, что обратились к психотерапевту для надзора за мыслями и чувствами своего вечно насупленного ребенка. “Психотерапевт не пересказывает мне слово в слово их разговоры с дочкой, – заверяли меня эти женщины, – но в целом дает понять, как идут дела – нормально или нет”. А время от времени, как я поняла, терапевты передавали мамам и более конкретную информацию, выуженную из маленького пленника.
Если вам кажется, что “психотерапия” здесь понимается как-то уж слишком широко, то во многом это заслуга профессии. Например, Американская академия детской и подростковой психиатрии вместо четкого определения предлагает нам тавтологию. Что такое “психотерапия”? “Форма психиатрического лечения, предполагающая терапевтические беседы и иное взаимодействие между терапевтом и ребенком или его семьей”[11]. В словаре Американской психологической ассоциации то же самое масло масляное: “любая психологическая услуга, предоставляемая обученным специалистом”[12].
Что такое “часы”? Устройство для измерения времени. Что такое “время”? То, что измеряют часы. При таком подходе “терапией” можно назвать вообще любую беседу между терапевтом и пациентом. С другой стороны, суть-то вполне понятна: это разговоры о чувствах и личных проблемах под видом медицины.
Родители часто исходят из того, что психотерапия под началом специалиста, искренне желающего помочь ребенку, может пойти только на пользу его, ребенка, эмоциональному развитию. Это большая ошибка. Как любое вмешательство, потенциально способное помочь, терапия способна и навредить.
Ятрогения: когда целитель делает только хужеКаждый раз, когда пациент приходит к врачу, он подвергает себя риску[13]. Иногда источником риска является некомпетентность врача. Пациент ложится в больницу, чтобы удалить почку, а хирург удаляет другую. (Такие “хирургические вмешательства ошибочной локализации” случаются чаще, чем вы думаете[14].) Еще бывает небрежность: когда хирург упустил из виду какой-нибудь зажим или тампон и зашил их в брюшной полости пациента.
Или он может “задеть” какой-нибудь орган. Или операция проходит без сучка и задоринки, но у пациента развивается на месте хирургической раны оппортунистическая инфекция. Или у него начинается аллергическая реакция на наркоз. Или появляются пролежни из-за слишком долгой реабилитации в лежачем положении. Или все этапы лечения протекают по плану, но оказывается, что само лечение было основано на неверном диагнозе.
“Ятрогения” – слово для обозначения всех этих случаев. По-гречески “ятрогенный” буквально означает “происходящий от целителя” и описывает класс явлений, при которых врачующий причиняет вред больному в ходе лечения. Чаще всего она не связана с какими-то злоупотреблениями, хотя может быть и так. Главным образом ятрогения происходит не из-за злонамеренности или некомпетентности врача, а просто потому, что лечение подвергает пациента внешнему риску.
Ятрогения вездесуща – потому что все врачебные вмешательства несут в себе риск. Когда больной соглашается на то, чтобы его лечили, риск, как правило, того стоит. Когда на это идет здоровый пациент, риски часто перевешивают возможное будущее улучшение.
Здесь я называю “вмешательством” любой совет или рекомендацию по коррекции, которые обычно дают людям в связи с некоторым их недостатком или ограниченными способностями. Таким образом, родительский наказ “есть овощи”, “больше спать” или “проводить время с друзьями”, может быть, является советом, но не является вмешательством. Нам всем было бы невредно следовать этим рекомендациям.
В том, что касается вмешательств, есть хороший набор простых правил. Не делайте рентгеновских снимков, если вам этого не требуется. Не посещайте приемную скорой помощи с ее вирусами и микробами просто ради того, чтобы поздороваться со знакомым врачом. А еще – просто на всякий случай – не отправляйте дочку к психотерапевту, если она в этом абсолютно не нуждается. Первые два правила знают все, а вот последнее может быть для вас сюрпризом.