Овечки в тепле
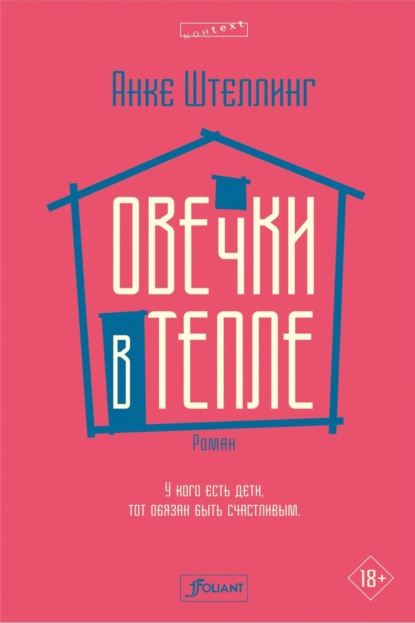
- -
- 100%
- +

Anke Stelling
SCHÄFCHEN IM TROCKENEN
© Verbrecher Verlag, 2018
© Т. Набатникова, перевод на русский язык, 2020
© Издание на русском языке, оформление. ТОО «Издательство «Фолиант», 2020
Видишь ли, Беа, труднее всего понять, что самое главное и что самое худшее, а если тебе это худо-бедно удастся, самое ценное то, что в этом нет никакой однозначности. Должна сказать об этом с самого начала, поскольку я сама это постоянно забываю. А всё потому, что так велика моя потребность в однозначности и больно понимать, что её не бывает. Но в то же время это понимание утешительно.
Как может быть утешительным то, что причиняет боль? Вот именно. Об этом я и говорю.
Если, к примеру, я скажу тебе: «Я тебя люблю». О да, я тебя люблю. Это невероятно. Ты необыкновенная! Ты такая красивая, умная и живая, ты лучшая во всём: хоть обниматься с тобой, хоть ругаться – одно удовольствие. Ты лучшее, что со мной когда-либо случалось, но вместе с тем для меня было бы предпочтительнее, если бы тебя не было, потому что я не выдерживаю тебя и того, что ты есть. Того, как я боюсь за тебя, как боюсь за себя – и всё только потому, что ты родилась. И я должна тебе со всей серьёзностью посоветовать бежать отсюда как можно скорее. Беги со всех ног, увеличивай дистанцию между мной и собой, вырастай поскорее. Я для тебя отрава, понятно? Семья – это рассадник неврозов, а хозяйка этой грядки, владычица в этом гнездилище я. Когтистая орлица с тёпло-мягким высиживающим задом, хриплым криком и громадным размахом крыльев, я схвачу любого, кто близко к тебе подойдёт, вырву глаз, я кружу над тобой, учу тебя летать и во всём тебя опережаю. Я покажу тебе красóты и опасности этого мира, а когда ты улетишь одна, я останусь ждать тебя в гнезде: исполненная доброты, гордости и зависти.
Да ты и сама давно знаешь, о чём я говорю.
Недавно ты прямо-таки содрогнулась, придя домой:
– О боже, чем здесь так воняет?!
И ты права, дорогая. Воняет. Нами. Семьёй. Так утробно, укромно, противно, беги! Прильни к моему сердцу. Но помни, тебе надо прочь отсюда.
Известно же
У меня позднее зажигание. Или это у всех так, что им лишь к середине жизни внезапно бросается в глаза то, чего они не замечали все прошлые годы, хотя ведь всё было на виду?
Я всегда считала себя умной: дескать, знаю жизнь, умею понимать людей. В конце концов, ещё до школы я умела читать, хорошо выражать свои мысли и без проблем считала в уме. Я знала, что с Франком Хэберле и управдомом надо держать ухо востро, а вот на Зимми Сандерс и на учительницу по труду можно положиться. Но вот о более сложных взаимосвязях, структурах или соотношениях власти понятия не имела. Тут мне не хватало самых простых сведений – например, о том, что моя жизнь могла бы сложиться и по-другому. А это ведь, пожалуй, и называется надёжностью. Защищённостью. Счастливым детством.
Я очень хорошо помню тот момент, когда подумала: «Чёрт! Если бы мои родители жили где-то в другом месте, у нас были бы совсем другие полы на кухне».
Эта догадка пришла ко мне уже после двадцати лет и после нескольких переездов: из своего города в Берлин, а потом то туда, то сюда.
На сей раз мне достался кухонный пол моей мечты: бесшовное наливное покрытие, ксилолит тридцатых годов, тёмно-зелёный и очень хорошо сохранившийся.
У моих родителей был западный линолеум из шестидесятых годов: серые с серыми же разводами плитки тридцать на тридцать, из-за чего направление разводов нигде не совпадало. Ничего не имею против этого пола; я очень хорошо на нём выросла. Легко было ухаживать за ним. Только когда он уже становился липким, мать говорила: «Надо бы помыть», и тогда я сыпала на него чистящий порошок и тёрла шваброй, и вода, которую я потом сливала в унитаз, была на удивление чёрной.
Пол как пол. Если у людей был другой, причина была в том, что они были другими людьми.
У сливного бачка в туалете сбоку была чёрная ручка. За которую я тянула, чтобы смыть грязь после уборки.
Сливной бачок не менялся, разве что когда вошли в моду стоп-кнопки для экономии воды, или когда старая механика изнашивалась, или отламывалась ручка из-за усталости материала. Мои родители никогда не ставили об этом в известность владельца квартиры. За многие годы жизни с родителями я этого владельца в глаза не видела. Может, потому так поздно поняла, в чём разница между съёмным и собственным жильём – потому что мои родители обращались со съёмной квартирой как со своей собственной и, когда надо, сами вызывали сантехника и платили ему из своего кармана. Почему? Чтобы не спорить, думаю я. Чтобы чувствовать себя свободными.
– Почему ты так злишься? – спросила меня подруга моей матери Рената, когда мы с ней сидели в кафе.
Я пожала плечами, мне-то казалось, я в полном самообладании пью себе чай и болтаю с ней обо всём на свете. Но она хотела говорить со мной о книге, которую я написала и в которой упрекала таких матерей, как моя, в том, что они навязывают дочерям своё представление о свободе, не имея никаких идей и никаких подсказок для её осуществления. Рената приняла этот укор на свой счёт; и правильно, хотя я и не думала о ней, когда писала.
– Ни одному поколению не удалось избежать, – ответила я, – обвинений в чём-нибудь от следующего поколения.
– Ну тогда желаю тебе удачи с твоими собственными детьми, – сказала она, и я кивнула:
– Спасибо. Постараюсь получить удовольствие.
Я люблю, чтобы последнее слово оставалось за мной. Но Рената тоже любит.
– На здоровье. – И это особое выражение лица: плохо скрытое всезнайство, притворная доброжелательность.
Я тоже владею этим выражением лица, оно передаётся от матерей к дочерям, как и неизжитые мечты, да: это выражение рассказывает об их мечтах, тогда как рот язвительно поджат. Губы кривятся, подбородок приподнят. Рената большая мастерица так смотреть. Но и я тоже.
Уже теперь и Беа начинает осваивать это, и у меня не хватает выдержки усугублять этот поединок, по мне лучше разъяриться, выговориться, обо всём написать и плюнуть Ренате в чай, чтоб она знала, что такое по-настоящему злиться.
– А ты помнишь, какой у нас дома был пол? – спросила я.
– Нет. А что?
– Он был ужасный. И совсем не нормальный! Но мне пришлось доходить до этого самой, вы же никогда с нами не разговаривали.
– Да разговаривали мы с вами, с утра до вечера, не притворяйся.
– Но не про полы и не про то, как к ним приходят.
Рената подняла брови и смотрела на меня насмешливо. Это она тоже умеет: внушить чувство, что ты не в своём уме.
Это она делала и раньше, когда приходила к моей матери в гости, а я была дома и что-нибудь рассказывала: про школу, про друзей, про несправедливость мира. И тогда Рената поднимала брови и ставила под сомнение мои высказывания, стараясь вселить в меня неуверенность, указывала мне на те аспекты, которые я упустила. И я тушевалась, вместо того чтобы использовать её возражения для тренировки в дискуссии.
Но теперь всё иначе, теперь я держусь стойко. И я говорю ей, что убеждена теперь: моя мать тоже находила эти полы ужасными, но принимала их как данность, как то, что она могла себе позволить, да ещё и говорила, что она к ним не имеет никакого отношения. И в этом обманывала себя, потому что этот пол с тех пор так и прирос к ней. Ну хорошо, возможно, я преувеличиваю. Но для меня мать остаётся женщиной, которая стоит на этом полу.
Брови Ренаты так и замерли поднятыми.
– Ну как ты не понимаешь? – Я начала злиться. – Мне надо было знать, чего она по-настоящему хочет, как прийти к тому, что считалось бы нормой и что могло послужить альтернативой – и почему она не воспользовалась ею!
– И какое отношение это имело к тебе?
– Полное! Я же, в конце концов, стояла на этом полу.
Рената отрицательно помотала головой и заказала ещё чаю. И пошла в туалет, явно не желая об этом говорить. Но ей придётся, ведь моя мать уже не сможет. Она умерла раньше, чем я поняла, о чём непременно должна расспросить её и в каком месте присверливаться и допытываться, почему молчание было намеренным, а вовсе не было упущением, как я узнаю́ теперь от Ренаты. Ни одна из них – ни Рената, ни моя мать – не хотела обременять своих детей старыми историями и анекдотами, тем более такими, где речь шла о нехватке альтернатив, о плохих предпосылках и о меньшем из двух зол.
– Вы должны были оставаться свободными и идти своим путём.
– Да, – съязвила я. – Совершенно необременёнными.
Рената не поддержала мою иронию, она предпочитала ехидничать сама:
– Разумеется, твоя мать не отказалась бы от полового настила, какие делают на террасах шале на Женевском озере.
Да-да. Разумеется.
* * *Список для Беа: ксилолитовое покрытие я нахожу самым лучшим из всех полов, но на сегодня это безумно дорого, потому что стало редкостью. Позволить себе ксилолитовый пол – это запредельная роскошь, так что забудь об этом.
Дощатый кухонный пол, может, поначалу и выглядит красиво, но на досках остаются пятна жира, а в щелях скапливается грязь. Ты же по собственному опыту знаешь, что за таким полом трудно ухаживать.
Правда, и плиточный пол, который так легко моется, не назовёшь лёгким в уходе, потому что мыть его приходится каждый день, в плитки ничего не впитывается и всё лезет в глаза, разве что будет этот маскировочный узор из пятнышек или разводов, но с такой кухни, Беа, я сама сбегу без оглядки. Это ещё хуже линолеума, к тому же плитка студит ноги, если под ней не проложен подогрев. Скажем так: однотонные терракотовые плитки с подогревом – вот то что надо, если при этом есть домработница, которая постоянно за ними приглядывает.
У меня ещё никогда не было домработницы. Я сама работала домработницей, но это уже не относится к сравнительному списку полов – или относится?
Относится. Да. Разумеется.
Я решила рассказывать всё. Нет ничего само собой разумеющегося, всё рукотворно, всё взаимосвязано, приносит пользу или вред тому или другому, а то, что считается естественным, подозрительно вдвойне.
Беа уже четырнадцать, возраст инициации. Просвещена и введена в мир кухонных полов, разделения труда, распределения работы, работы уборщицы, оплаты труда, оплаты жилья, основных и дополнительных расходов, расчёта соотношения стоимость-польза, начислений и вычетов, как монетарных, так и эмоциональных.
В отличие от моей матери, я не буду исходить из того, что со временем она сама узнает всё, что ей положено знать; в отличие от Ренаты и её подруг, я не буду ничего утаивать из опасения, как бы мои рассказы не повлияли на детей отрицательно, как бы не расхолодили их или не помешали им в развитии. Наоборот, я представляю дело так, что вооружаю их знанием и историями. Что провожаю их из дома не наивными и легкомысленными, а с грузом знаний и способностью к интерпретациям – вооружение и оснащённость весят кое-что.
Кстати, об оружии.
Я получила это письмо. Оно адресовано мне и содержит мастерски уклончивый документ – отказ мне в квартире, нет, не так: копию заявления о расторжении договора аренды квартиры, к моему сведению. Поскольку наша квартира – это на самом деле квартира Франка, он её официальный арендатор, и теперь он больше не будет снимать эту квартиру.
Мы живём здесь четыре года. После того как Франк и Вера переехали в К-23, мы вселились в их бывшую квартиру; это было везеньем, потому что наша была нам уже мала – даже с тремя детьми, а теперь их у нас уже четверо; нам повезло дружить с человеком, имеющим старый, восемнадцатилетний договор аренды, который стал ему больше не нужен.[1]
Но в лесу как аукнется, так и откликнется, известное дело.
Это письмо – расплата мне за то, что я сделала, поэтому оно адресовано именно мне, а не Свену или не нам обоим. Это я виновата в нашей беде, я поставила Франка в положение, в котором ему пришлось прибегнуть к этой мере. Всё, что произошло, я сама навлекла на свою голову, и сделала я это здесь, в моей каморке, на этих двух квадратных метрах рядом с кухней берлинского дома старинной постройки; каморка предусматривалась здесь в качестве кладовки, по сути это часть туалета, с которым у неё общее окно. Дети кто в школе, кто в садике, а Свен в своей мастерской – где он тоже лишь временный субарендатор, пока инвестор заново формулирует отклонённые бумаги и пробивает разрешение на строительство. Формулировка – решающее дело. Я смотрю на полученное письмо.
«Многоуважаемые дамы и господа», – написано там, без личного обращения, заявление адресовано домоуправлению, а для меня поставлен только этот штамп: «К сведению», он и вовсе не требует никакого обращения. Только зелёная штемпельная краска. Очень официально. Очень странно, Франк, как-никак, не контора, а старый друг. И где он только взял этот штемпель? Разве нельзя было просто позвонить?
Нет. Франк не хочет со мной разговаривать.
«Да и не получилось бы», – сказала бы Вера.
Вера ещё пару месяцев назад написала мне имейл, и там было такое: «Наши дороги теперь расходятся», но я тогда не перевела это как «Подумай-ка теперь, куда вы переедете, поскольку следующий ход сделает уже Франк».
Я поняла её имейл так, что она отказывает мне в дружбе и больше не хочет со мной встречаться. Ещё там было написано: «Я люблю тебя», и только теперь, с извещением о прекращении аренды на руках, я понимаю, что есть два способа говорить о любви: просто и трогательно, потому что это правда – или грозно, как введение к мере пресечения. Так говорят родители. И боги.
С извещением на руках мне стало ясно, что Верин способ – второй, хотя я не её ребёнок, но зато старинная подруга, как бы родня по выбору, поэтому семейные правила касаются и меня.
В семье Веры любовь всегда очень подчёркивалась, какие бы гадости при этом ни происходили или ни вытекали из этого; Верино признание в любви обязано было меня насторожить, ведь это я, в конце концов, «грубо нарушила правила», поэтому ничему не должна «удивляться».
Правило, которое я нарушила, гласит: «Не надо полоскать на людях грязное бельё». Хорошая поговорка, укрепляет семью. «Бельё» означает личное, «грязное» означает то, что не подлежит предъявлению, а «полоскать» означает выболтать, выдать, рассказать. И если я скажу, что рассказывать – это моя профессия, то Ульф мне ответит: «Не надо за этим прятаться». Ибо и профессию я выбирала себе сама.
Есть книжка с картинками Лео Лионни, в которой он защищает профессию художника. Эта книга была популярна ещё сорок лет назад, а теперь уже стала классикой – что отнюдь не значит, что посыл этой книги до кого-то дошёл.
В этой книжке описана группа мышей, которые собирали на зиму припасы и сильно устали – в то время как одна из них лежала на солнышке и, по её словам, собирала краски, впечатления и запахи. Есть ли у неё вообще право питаться теми припасами, когда придёт зима? Но вот поди ж ты, в самый беспросветный и самый голодный момент в конце зимы пробивает час якобы ленивой мышки-лежебоки, и она спасает остальных, описывая краски, запахи и вкус мира. «Да ты у нас поэт», – говорят мыши, и мышь-художница краснеет и кивает, соглашаясь.
Может, и Лео Лионни за эту историю следовало выгнать из квартиры? Наверняка некоторые из его друзей уверенно опознали себя в мышках-собирательницах, а его бывшая жена сказала, как это было надменно с его стороны – раздуть до спасителя миров свою очевидную несостоятельность как кормильца семьи. Но как знать. Может, они все смеялись и дарили эту книжку друзьям и родным на день рождения, гордились своей дружбой с Лео и были благодарны ему за то, что он потрудился выразить их двойственность и вечную борьбу за жизненные проекты.
А вот Вера, Фридерике, Ульф, Ингмар и остальные уж никак не были благодарны, что я нашла слова для нашего убожества, наоборот. Они само «убожество» сочли непозволительным обозначением. Потому что на самом деле всё было хорошо.
Хорошо: справиться с жизнью. Довести дело до той точки, когда ты спокоен: твои овечки в тепле – по крайней мере, у каждой есть по отдельной комнате, место в детском саду или в школе по твоему выбору, которая по разным причинам предпочтительнее школы по месту жительства.
Все здоровы. И веселы – во всяком случае, не в таком плохом настроении, чтобы что-то пришлось менять; пока достаточно того, что дурное расположение духа можно вымещать на других, на всех тех, кто ведёт себя не так, как тебе это представлялось.
Подло: называть убожеством такой хороший способ жизни.
В недобрый час я рассказала вместо солнца и красок про темноту момента – и лишь немногие мышки сочли это утешительным, а другие нет, и некоторые из тех, кто играл роль в моей темноте, почувствовали себя преданными и использованными.
– Да кто ты такая, что ставишь свою точку зрения выше других? – спрашивали они. – Кто тебе это позволил?
Я сама себе позволила. Мышка-поэт.
* * *Темно в темноте и одиноко в моей каморке.
Три месяца составляет по закону срок до освобождения квартиры. В конце года нам придётся съехать отсюда.
Ты вообще знаешь, Беа, что Франк основной арендатор квартиры, в которой мы живём? Боюсь, я держала тебя в таком же неведении об этих обстоятельствах, как и мои родители меня. Боюсь, наш кухонный пол ты тоже принимаешь как данность.
А я поставила его на кон. И теперь он уходит у нас из-под ног. Сама виновата; в лесу как аукнется, так и откликнется. «Эй, меня кто-нибудь слышит?» Нет. Никто ничего не отвечает.
Никто не говорит; по крайней мере, о важных вопросах, личных нуждах, первоначальном паевом взносе за квартиру.
Двадцать пять процентов от общей суммы – сколько это будет в евро?
Я могу писать всё, что хочу, слушая лишь жужжание вентилятора моего ноутбука. Кстати, это жужжание стало каким-то подозрительно громким, и это меня беспокоит: а вдруг он сейчас выйдет из строя? Надо бы создать резервную копию.
А ты знала, что писание, написанное означает защищённость? Даёт страховку, даже перестраховку, точку опоры и центр тяжести не только здесь, но и в будущем; вот же написано, да, я помню!
Я не могу предложить тебе дом, Беа, даже квартиру, но я могу тебе кое-что рассказать, могу сказать тебе всё, что знаю.
Мне не важно, хочешь ли ты это слушать. Я Рези, рассказчица, я по профессии писательница. Плохи твои дела, и почему ты выбрала себе такую мать?
Это ведь широко распространённое представление: что дети сами выбирают себе родителей. Что до рождения они представляют собой маленькие, бесприютные души и подыскивают себе подходящую пару родителей. Так же, как идея, что родители получают такого ребёнка, какого заслуживают – или какой им нужен на пути к полной зрелости.
Тебе нравятся такие истории? Мне нет.
Но ты видишь, я их знаю, поскольку их рассказывают и они действуют. Это ещё раз подтверждает то, что я поняла слишком поздно: насколько сильны истории и что их рассказывание означает могущество.
Несколько лет назад в твоей школе было родительское собрание, бурный такой вечер, и мужчины с седыми висками хрипло перебивали друг друга – поздние отцы, которые, как мне потом сказали, писали для газеты «Франкфуртер альгемайне» или для немецкого радио.
Ах, подумала я, конечно! Можно стать и журналистом, чтобы достигнуть власти, писательство не обязательно служит средством выражения для согбенных фигур и заикающихся ораторов, писать можно и для того, чтобы забивать колья, столбы мнений, колонны смыслов.
«Я тебя обставлю» – такая позиция, по крайней мере, сквозила в каждом родительском выступлении в тот вечер, и полукруг стульев был ареной, на которую ораторы выходили, чтобы продемонстрировать свою силу и вселить страх – на благо и в защиту своих детей, разумеется.
Я тогда была безнадёжно непубликабельной. Никто бы потом не сказал: «А это Рези, писательница», а сказал бы только: «Это Рези, мама Беа». Казалось бы, этого достаточно в качестве базиса для выступления на родительском собрании. Но нет. В произвольно сформированном обществе важно, кто ты есть. А кто ты есть, измеряется не иначе как мерой власти, которой ты располагаешь, и это особенно подло, когда в повестке дня значатся такие темы, как «Внимательное сотрудничество», «Никаких издевательств» или «Все разные».
Знаешь, Беа, я и сама теперь стала поздней матерью. Замечаю это по тому, как у меня спирает дыхание – прежде всего при встрече с другими родителями. Я потеряла оптимизм и любопытство, которые у меня ещё были, когда я ходила на родительские собрания в твой детский сад: тогда мне было едва за тридцать, и мне хотелось быть матерью. Теперь мне уже хорошо за сорок, и я хочу покоя от этих харь, честно, я их презираю. Страх, который выделяют их поры, и то, как они суетятся и пытаются объединиться хоть с кем-то, кто мог бы дать им защиту, потому что он обладает силой. Как они сбиваются в кучки, более слабых исключают и затаившись выжидают, кого можно будет поднять на смех.
Да я и сама такая.
С этим ничего не поделаешь, это страх. Едва ли есть что-то более зловещее, чем такие произвольно сформированные общества, вряд ли найдётся что-то более устрашающее, чем кучка людей, которая думает, что должна прийти к общему решению.
Но и оставаться в стороне тоже не годится, в конце концов, я должна защищать вас, подчёркивая своим присутствием, что у вас есть родители, причём такие, которые обладают силой. По крайней мере, достаточной, чтобы выдержать такое родительское собрание! – Да, верно, дорогая. Это заколдованный круг.
Когда речь идёт о жажде власти, оказывается очень кстати иметь детей. Их можно выдвинуть вперёд, и даже не обязательно своих. «Благо детей» всегда сработает, ибо кто же хочет, чтобы детям было плохо? Это потрясает меня лживостью.
Но что мне делать? Больше никуда не ходить, ни на какие собрания, ни на какие родительские «столы завсегдатаев» – их так называют, не задумываясь о том, что само название предполагает и уровень разговора такой же, как за «столом завсегдатаев» в пивной.
«Не задирай нос, Рези, – скажут мне. – Это всего лишь название!» «Не так уж это и плохо».
А я-то знаю, какова сила слов, высказываний и историй, но отказаться от них – это не выход. Я из левых, то есть я за справедливость, внимательное отношение и за то, что каждый человек одинаково ценен, а мир ещё далеко не таков, каким должен быть. Если все люди равноценны, но нет никакой определённости, кто имеет право это решать, – наоборот, по отношению к претендентам на власть преобладает недоверие, которое в итоге приводит к тому, что лучше ничего не делать, чем вызвать подозрение, что ты претендуешь на власть. Левые ужасно боятся вины – как раз в силу того, что они за справедливость и внимательное отношение. Однако противоположность власти – бездействие, а противоположность тому, чтобы взять слово – предоставить его другим.
– Ты злоупотребляешь этим, – говорит Фридерике, – ты этим пользуешься, чтобы изводить других.
Неужто она права?
Да, верно, я ощущаю слово как собственное оружие, когда сижу на родительском собрании. Успокаиваю себя мыслью, что когда-то смогу изобразить бессмыслицу, которая здесь происходит. Смогу поколебать мир своим описанием.
Но это смешно, это функционирует совсем иначе.
Следующее родительское собрание будет проходить точно так же, или, как сказал Эрих Кестнер: «Пальцами на пишущей машинке беду не остановишь».
Я лишь удерживаю в целости себя саму. Это для себя самой я пишу, больше ни для кого, уж во всяком случае не для Фридерике, которая и без того считает, что я увязла в шаблонах. Почему, дескать, у пап-журналистов непременно должны быть седые виски?
Да, верно, а если я ещё кое-что добавлю и замечу, что те из собравшихся, кто за целый вечер не сказал ни слова, были молодые женщины в красных туфлях и флисовых куртках, и что швы – как на туфлях, так и на куртках – по забавному совпадению были наружу, тогда ты, Беа, возможно, подумаешь, что это не имеет отношения к делу, однако это решающая деталь, ссылка на действительность, и она так и просится в текст, даже если ему от этого больно. Он кусается, щиплется и лопается от шаблонов.
Я и сама была бы рада, если бы всё было совершенно по-другому.
Я могла бы писать утопии. Фэнтези.
«Жил-был человек на свете, на нём ничего не надето.
Отправился он в лес, но тут холод сошёл с небес.
Встретил он там бабу одну, она говорит: “Ну и ну, без ничего-то в лесу”. И он прикончил её, как лису».
Нет, этого я не могу, Беа. Как бы ни пыталась, всегда получается одно и то же. Меня забавляет, когда получается в рифму, и утешает, когда вспоминается какое-нибудь словечко из моего детства.
Бурчила, например. Знаешь, что такое «бурчила»? Обиженная, нет, всего лишь слегка раздосадованная особа, лет так четырнадцати, а может, и сорока, которой всё не по нраву, что бы ей ни предлагали. Усталая и недовольная, вот это и есть бурчила.



