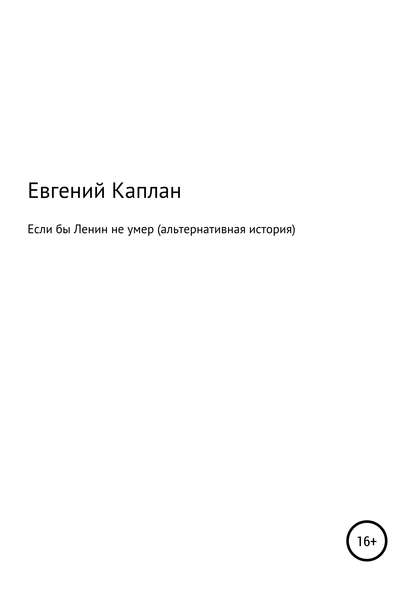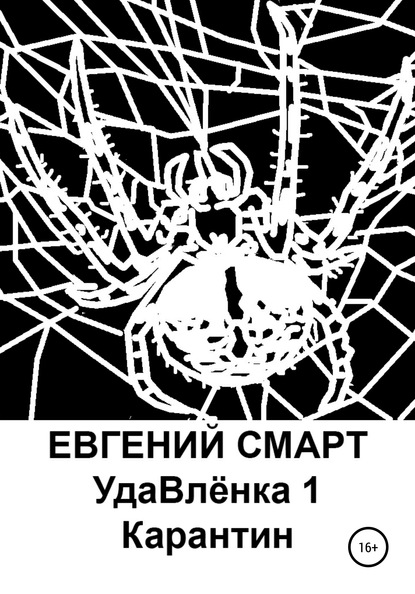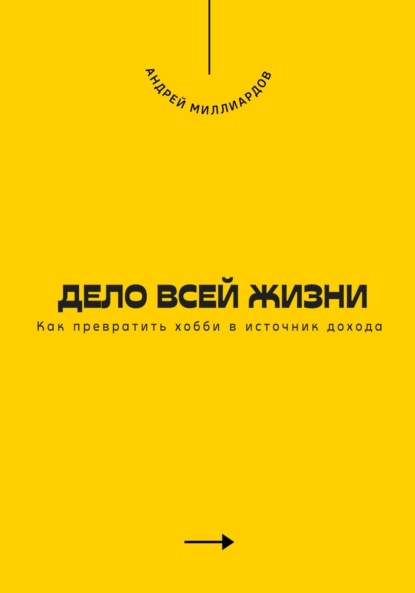Семья
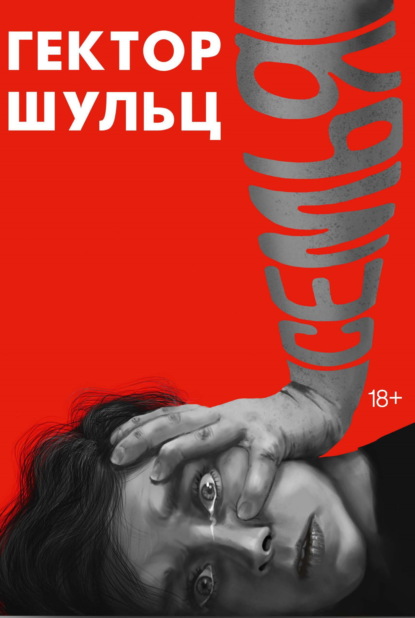
- -
- 100%
- +

Центр НеТерпи

Вступительная статья Ульяны Ходовецкой
В книге упоминаются различные наркотические вещества, издательство предупреждает о недопустимости их применения и распространения. Книга является художественным произведением, не пропагандирует и не призывает к употреблению наркотиков, алкоголя и сигарет.
Изобразительные описания не являются призывом к совершению запрещенных действий.

© Гектор Шульц, 2025
© Ходовецкая У. В., вступительная статья, 2025
© Гергель Я. С., художественное оформление, 2025
© Издание. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2025
© Оформление. Т8 Издательские технологии, 2025
Предисловие
Дети, подвергшиеся жестокому обращению со стороны родителей или других взрослых, часто начинают верить, что происходящее – их собственная вина, что они недостойны любви и уважения, что они «плохие».
Читая эту книгу, хочется сказать, что ребенок не виноват. Не виноват, что у него глаза отца или подбородок бабушки… Но, к сожалению, чаще всего дети, пережившие насилие в детстве, начинают винить себя. Об этом есть прекрасный эпизод в фильме «Умница Уилл Хантинг», когда психолог, единственный, кому герой смог довериться, кричал ему: «Ты не виноват в этом! Не виноват!»
Для каждого ребенка взрослый – единственный ориентир в этом мире, благодаря которому можно выжить. В детстве взрослый – это непреложный авторитет, а также гарант безопасности самого ребенка. Именно к родителю ребенок бежит для защиты в случае опасности. Но что делать, когда этот взрослый сам источник боли и унижения? Такая ситуация наносит большой урон детской психике. В этот момент внутри рождается мощный ужас, который часто приводит к травматическому расщеплению психики и диссоциации. Человек может забывать эти моменты, может не чувствовать свое тело, а также понемногу рождается видение себя как такого «плохого» – грязного, ничтожного, отвратительного, раз даже его родитель, вместо того чтобы оберегать, атакует. Одним из самых распространенных последствий физического насилия в детстве становится формирование заниженной самооценки и, как уже сказано выше, чувство вины. Эти убеждения могут сохраняться на протяжении всей жизни, провоцируя развитие депрессии, тревожных расстройств, панических атак и других серьезных психологических нарушений.
Детские раны не заживают: те, кого в детстве били родные, на всю жизнь остаются «с настороженным сердцем». Они будто всегда живут на границе с войной, готовые к атаке, даже когда вокруг спокойно. Но каждый защищается по-своему: кто-то выплескивает наружу, кулаками, кто-то, наоборот, прячется глубоко внутри себя. Всё зависит от того, каким был ребенок и насколько тяжелым оказалось пережитое. Одни, став взрослыми, бросаются контролировать всё вокруг, не терпят слабости, мгновенно вспыхивают при малейшей угрозе. Они возводят крепости вокруг своей уязвимости, чтобы никто никогда не увидел их страх. Другие – затихают. Они привыкли терпеть, молчать, проглатывать обиду. Они выбирают партнеров, которые причиняют им ту же боль, что когда-то нанесли близкие люди. Но и те и другие часто оказываются пленниками зависимостей: алкоголя, никотина, бурных эмоций. Но есть нечто общее, что связывает их всех: глубокая, болезненная нелюбовь к себе.
Все чувства, что некогда захлестывали ребенка под ударами родителя, – страх, гнев, стыд – не исчезли. Они спрятаны внутри, заперты за толстыми стенами. Ребенок когда-то не мог сопротивляться взрослому, и психика спрятала эту боль, чтобы он смог выжить. Но раны остались. И стоит на улице случайно увидеть, как взрослая женщина кричит на своего малыша или замахивается на него, и всё взрывается внутри: глухой страх, ярость, желание закричать, спрятаться, броситься защищать маленького незнакомца… Всё это – оттуда, из той боли, которая всё еще не прошла.
Очень часто, родители, которые проявляют жестокость к своему ребенку, сами пережили такой опыт в детстве. Говоря о мотивах, которые побуждают родителей применять физическое насилие к детям, важно подчеркнуть: это не оправдание жестокости, а попытка разобраться в ее корнях. Одной из причин становится наследие прошлого: в некоторых семьях поколениями передавалась идея, что «ремень» – это норма, необходимая часть воспитания. Считалось, что так можно «выбить дурь» и вырастить достойного человека. Иногда родители не могут справиться с собственным бессилием: они не знают, что делать с ребенком, не умеют совладать со своими эмоциями – и прибегают к тем методам, которые им доступны. Бывает и так, что взрослые переносят свою внутреннюю боль и злость на детей: взрослые, раздавленные своими проблемами, неудачами, обидами, выплескивают накопившуюся агрессию на того, кто не может дать отпор, – на ребенка. Часто это случается под влиянием алкоголя или наркотиков, когда внутренние «тормоза» ослаблены. А порой причиной становится страх и отчаянный стыд перед другими – перед учителями, соседями, коллегами. Когда ребенок оступается, например совершает кражу, родителя охватывает ужас: «Я вырастила преступника!» – и в этом страхе рождается насилие.
Это лишь часть тех причин, которые могут приводить к физическому насилию над детьми – на самом деле факторов гораздо больше. И один из них – культурные «нормы», при которых о насилии нельзя говорить или писать.
Предрекая вопрос, который может возникнуть у читателя: зачем об этом писать? А зачем писать о войне, о концлагере? Писать нужно для того, чтобы помнили. А помнить – для того, чтобы не повторить. Чтобы люди учились переживать этот опыт, а не просто прятать в шкаф, как скелет.
Книги о физическом насилии дают голос тем, кто был вынужден молчать. Они помогают осознать, что пережитая боль – реальна, что ее можно озвучить, прожить и начать исцеление. Такие книги разрушают табуированность вокруг темы, которую часто стараются замести под ковер: «Это было воспитание», «Это всё в прошлом». Они показывают, что даже очень старые раны ноют и влияют на жизнь. Эти истории помогают тем, кто прошел через насилие, перестать чувствовать себя одинокими и «неправильными». Они дают понимание: «Со мной это произошло, но я не один. И я могу справиться». Книги о насилии учат видеть боль за поступками – и не воспроизводить этот круг насилия в будущем, не передавать его своим детям. Они дают обществу шанс меняться: становиться более чутким, осознанным, умеющим замечать страдание там, где раньше его игнорировали. Писать о физическом насилии – значит говорить о боли ради надежды. Ради тех, кто пока боится рассказать свою правду. Ради будущего без побоев и страха.
Было бы лучше, если бы мои слова вы читали как послесловие, а не как предисловие к книге, потому что, прочитав это и узнав себя или кого-то из своих друзей, первое, что вы спросите: «Что с этим делать?». Давайте сначала чуть-чуть разберемся, как все устроено.
Как наше с вами тело умеет лечить раны, заживлять царапины, синяки и шишки, точно так же наша психика справляется с обидами, с несправедливостью, с утратами, с фрустрацией, с болью. Но так же, как нашему телу бывает не под силу самостоятельно излечить множественный перелом и требуется помощь квалифицированного врача, нашей психике бывает нужна помощь специалиста – психолога.
И в этом плане разговор о ребенке будет отличаться от разговора о взрослом. Детская психика еще не имеет достаточно психологических защит, чтобы «переварить», пережить произошедшее. Более того, ребенку еще только предстоит научиться уважать себя и других, выстраивать свои психологические границы, отличать хорошее от плохого, говорить «нет» и т. д. И все это он делает благодаря заботе и поддержке взрослых. Но если такой нет? Если вместо обучения и помощи в трудных ситуациях ребенок встречается с отвержением, унижением, насилием? В этом случае травмы остаются навсегда, на всю жизнь и потом мешают и развитию, и адаптации. Как переломанная нога, которая срослась как попало, вряд ли будет такой же подвижной и гибкой без дополнительного лечения (а иногда и операции), так же и психика, прошедшая через тяжелые потрясения в детстве, несет их с собой всю жизнь.
Весь опыт, который содержал реальную или ощущаемую внутри как реальную угрозу для жизни, является шоковой травмой. С шоковыми травмами ребенку не справиться одному. Ему нужен взрослый, который будет рядом, поддержит, найдет нужные слова или даже защитит, заступится. Если этого взрослого в такие моменты не было, травма останется травмой навсегда. В нашем бессознательном нет времени. Такие раны остаются как мины в нашей психике, готовые взорваться в любой момент, зацепившись о какой-нибудь эпизод в настоящем (то, что называют триггером).

Как определить, нужно ли лично вам идти к психологу? Существует опросник – Неблагоприятный Детский Опыт (НДО), в кратком варианте всего 10 пунктов. В этом опроснике перечислены обстоятельства, для встречи с которыми у ребенка еще нет ресурсов пережить. Можете проверить на себе. Если вы набираете больше трех баллов, то ваше «психологическое наследство» из детства очень тяжелое. В этом случае шансы на хроническую депрессию увеличиваются в пять раз. Угроза стать жертвой насилия вырастает в четыре раза. Дважды выше шанс оказаться за чертой бедности, в два с половиной – болеть астмой. На 320% выше вероятность беспорядочной половой жизни (более 50 партнеров). В два раза увеличивается возможность развития онкологического заболевания. Обладатели НДО 5 баллов и выше в среднем живут на 20 лет меньше. Чем больше неблагоприятного детского опыта вы испытали, тем у вас выше риск появления каждой из проблем: зависимости, в том числе зависимость от еды, ожирение, диабет, болезнь сердца (ИБС), легких (ХОБЛ), печени, необъяснимые медицинские симптомы, ослабленная память и другие физические и ментальные расстройства. Те, кто хочет более подробно исследовать свое детство, может пройти расширенный вариант опросника: всего 31 вопрос.

Чаще всего человек думает, что он уже «всё пережил», что «это было давно» и «незачем об этом вспоминать». Так говорят его психические защиты, которые охраняют психику от неблагоприятного детского опыта – для того, чтобы взрослый человек не сошел с ума.
Но, как я уже говорила, в нашем бессознательном нет времени. Это знают те, кто работает с детьми. В любой момент психически здоровый человек может зайти в свой внутренний лифт, спуститься на нем и оказаться в возрасте семи, шести, пяти и так далее лет. Это нужно для того, чтобы уметь присоединиться к ребенку: вспомнить себя в его возрасте, свои чувства, свои мысли, свои привычки, свои радости и беды. Неслучайно в Японии есть пословица «Когда рождается ребенок, вся семья учится говорить». Нет разницы, сколько на самом деле лет сейчас рассказчице, – внутри нее всегда живет та девочка, всех тех возрастов, о которых она пишет. Так же как ваш внутренний ребенок всегда живет внутри вас. Как говорил гештальт-терапевт Жан-Мари Робин, «мне не шестьдесят лет. Мне И пять, И десять, И двадцать, И сорок, И шестьдесят лет – все мои возрасты живут внутри меня, весь мой опыт со мной».
Но что происходит, если детство было тяжелым? Если была невыносимая боль? В этом случае психика просто блокирует эти воспоминания. Запирает их на ключ в дальней комнате. В народе это называется «Скелеты в шкафу». И тогда невозможно выйти из своего лифта на нужном этаже, невозможно посочувствовать, а иногда невозможно даже вспомнить себя в этом возрасте.
Такое действие не проходит бесследно: точно так же, как заноза, застрявшая в пальце, будет тратить на себя ресурсы тела – ее будут окружать лейкоциты, не давая распространять инфекции. Соответственно, иммунитет будет снижаться, а тело постепенно ослабеет. Так и с психикой: для того, чтобы «держать дверь в прошлое закрытой», наша психика тратит очень много энергии, получается, этой энергии будет не хватать на развитие, а постепенно будет приходить депрессия и другие ментальные расстройства.
У некоторых людей, наоборот, воспоминания не блокируются, а внутренний мир всегда «на взводе», всегда готов к неприятностям, всегда есть ощущение «угрозы», они не могут расслабиться и находятся в стрессовом состоянии – это тоже разновидность ПТСР (посттравматического стрессового расстройства). Такое состояние не проходит даром для организма: на его фоне развиваются все вышеперечисленные болезни – сердца, органов пищеварения и другие хронические заболевания, связанные с психосоматикой.

Подводя итог, хочется сказать главное: если вы узнали себя или кого-то из своих близких в этом тексте, обязательно обратитесь к психологу, причем лучше, если психолог будет разбираться в работе с кризисами и травмами. Эффективнее всего с темой неблагоприятного детского опыта работает метод EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), расшифровывается как «десенсибилизация посредством движения глаз», квалифицированные специалисты в этом методе есть на сайте Ассоциации EMDR России. Метод EMDR рекомендован ВОЗ для работы с ПТСР, он эффективен для снижения острых стрессовых реакций, таких как тревога, паника, флешбэки.
Я желаю читателям набраться мужества и дочитать историю до конца. Перед вами книга, в которой звучит настоящая боль. Эти страницы непростые – в них живет тяжелый опыт, который может отозваться в вашей собственной душе. Я искренне желаю вам найти смелость пройти этот путь до конца. Потому что, несмотря на всё напряжение, тяжесть и внутреннюю бурю, такие истории иногда становятся поворотной точкой. Они не просто рассказывают – они открывают двери. Двери в новую, более осознанную и свободную жизнь.
В то же время, если во время чтения вы столкнулись с сильными чувствами или ваше физическое самочувствие стало ухудшаться – например, появилась тревога, слезы, слабость, онемение, тяжесть в теле, усталость, ком в горле, или вы почувствуете, что эмоции «накрывают» слишком сильно, – это нормально. Это не знак слабости, а высокий уровень вашей чувствительности.
Пожалуйста, дайте себе право сделать паузу. Остановитесь. Позаботьтесь о себе.
Есть способы, которые могут помочь вам стабилизировать свое состояние, вернуть ощущение опоры. На любом видеохостинге можно найти подборки с упражнениями по саморегуляции от Центра EMDR в Санкт-Петербурге. Это простые, доступные техники, которые можно выполнять самостоятельно, даже в одиночестве.
Может случиться так, что не каждое упражнение откликнется именно вам. Это тоже нормально. Каждый из нас уникален, и поиск «своего» способа заботы о себе может занять время. Главное – пробовать, искать, быть в контакте с собой. Но однажды попробовав и запомнив то, что действительно помогает, вы сможете использовать это в любых сложных моментах жизни.
Не торопите себя. Вы уже сделали храбрый шаг, открыв эту книгу. Теперь дайте себе право пройти ее с уважением к своему внутреннему состоянию. Слушайте себя. Берегите себя. Вы – не одни.
С наилучшими пожеланиями физического и ментального здоровья вам и вашим близким,
Ульяна Ходовецкая,
психолог, гештальт-терапевт
(специализация «Кризисы и травмы»), процессуально-соматический терапевт, EMDR-практик
Глава первая
Настя
– Насть! Братьев покорми!
Громкий крик мамы заставил меня вздрогнуть и поспешно убрать тетрадь в стол. Я давно научилась понимать по интонациям ее голоса, что произойдет в ближайшее время. А если она найдет тетрадку, то мне конец. Однако годы, прожитые с ней под одной крышей, научили хитрости и осторожности.
У моего ящика было двойное дно. Сделала, пока мама с отчимом были на рынке, а мелкие в школе. Помимо моей тетрадки с мыслями там лежало немного денег, накопленных за время подработок, пара писем от Ваньки из деревни и мои кассеты с музыкой. Музыку тоже приходилось прятать, как и все, что маме «не нравилось»…
– Настя, блядь! – на этот раз крик куда громче. Визгливее. Страшнее.
– Настя – блядь. Настя – блядь, – ехидно повторял влетевший в комнату Матвей. А следом за ним в дверном проеме появился и Андрей. Мои братья.
– Насть, кушать хочется, – тихо буркнул Андрей, а Матвей, подойдя ко мне, гадко улыбнулся и резко схватил за грудь, сдавив так сильно, что к глазам подступили слезы. Я сдержала и крик, и удар. Стоит поднять на него руку и мне придется простоять в углу на коленях пару часов, а то и больше, если мама не в настроении.
– Пошли, – поморщилась я и, помассировав грудь, подтолкнула Андрея в сторону выхода из комнаты. Матвей уже умчался на кухню, чему я была только рада.
Ну а на кухне меня ждала мама. Она сидела за столом, разгадывала кроссворд и пила кофе. Когда я вошла, она даже не подняла на меня взгляд, зато улыбнулась и ласково потрепала по голове Матвея, который прильнул к ее бедру.
– Кушать хочешь, сына? – спросила она. Брат кивнул, и мама наконец-то посмотрела на меня. – Ну! И чего стоишь? Забыла, где суп лежит?
– Помню, мам, – тихо ответила я и подошла к холодильнику. Открыв его, я с трудом вытащила огромную кастрюлю горохового супа и водрузила ее на плиту. Механизм кормления братьев был отработан годами, и я могла бы проделать все это с закрытыми глазами, не пролив ни капли супа. Зажечь конфорку, поставить на нее большую металлическую тарелку с холодным супом, через пять минут помешать, еще через три минуты попробовать и снять с огня. Потом нарезать хлеб, разлить суп по тарелкам и усадить братьев за стол. Младшенький всегда обедал без капризов, а вот с Матвеем приходилось возиться. Гаденыш, казалось, только и ждал, чтобы устроить мне очередную пакость. То швырнет в меня подмоченным хлебом, то тайком плеснет суп на пол, а пока я вытираю лужу, стукнет ложкой по голове. Стоит огрызнуться, как он сразу начинал ныть, а дальше по классике: мама замахивается, моя голова трещит от удара, во рту металлический привкус, а в глазах блестят слезы.
– Чайник поставь, – добавила мама, когда я усадила братьев за стол. Матвей скорчил мне рожу, но я равнодушно хмыкнула и повернулась к плите, услышав, как она уговаривает брата скушать ложечку. Со мной так не нянчились.
– Давай, Мотя. Кушай. Будешь большой и сильный космонавт.
– «Космонавты не мучают собак на пустыре за домом», – подумала я, ставя чайник на огонь. Затем повернулась к маме и спросила: – Что-то еще надо, мам?
– Уроки сделала?
– Да.
– Полы помыла?
– Да.
– Отец придет, одежу его постирать не забудь, – чуть подумав, сказала она.
Я кивнула и ушла из кухни, пока еще чем-нибудь не озадачили. Отчим придет с работы в семь вечера, а значит, можно доделать алгебру. Маме нельзя говорить «нет» – это я уяснила давно, поэтому на все вопросы отвечала «да». Но так было не всегда.
Вернувшись в комнату, я снова вытащила тетрадку из тайника. У многих в детстве был дневник, и я не исключение. Правда мой дневник разросся до трех тетрадей, каждая по девяносто шесть листов, и полностью вмещал всю мою жизнь. Почти всю, конечно. В первом воспоминании, которое я записала в тетрадку, мне было семь лет. Первый раз, когда мама подняла на меня руку.
* * *– Сука! – рявкнула она и, размахнувшись, влепила мне подзатыльник. Рисунок, лежащий на столе, расплылся и на бумагу упали слезы. – Это что?
– Паровозик… – жалобно протянула я, пытаясь вытереть слезы с листа бумаги. Получилось плохо, поэтому следом прилетел второй подзатыльник. Рука у мамы была тяжелой.
– Вот рисунок в книжке! – слюни летят мне в ухо, но я, не замечая их, сгорбилась, ожидая еще одного удара. – Это паровозик! А у тебя, прости Господи, хуйня какая-то! Дебилы рисуют лучше!
Подзатыльник. Слезы. Рисунок, превращающийся в мокрое, размазанное месиво. Утром учительница спросит, почему рисунок такой мятый. Я совру и отвечу, что пролила воду. Врать я буду часто. Учителям, подруге и себе. Себе врать больнее всего, но и эта боль со временем притупляется.
Я нарисовала еще пять паровозиков, но маме ни один из них не понравился. Голова гудела от ударов, глаза чесались и покраснели, а рисунки, все как один: мятые, влажные и некрасивые. В итоге решено было оставить первый паровозик, которому досталось сильнее всего: сопли, слюни, слезы. И безуспешные попытки от всего этого избавиться.
Но мама не успокоилась. Она заставила меня два часа писать имя и фамилию в черновике, пока буквы не стали ровными и красивыми. Затем я подписала рисунок, пусть и вздрагивая изредка, ожидая еще одного подзатыльника и крика «сука». Но так тоже было не всегда.
Когда мама была в настроении, она рассказывала мне о детстве. Моем детстве. Порой улыбалась, когда вспоминала, как папа приезжал забирать ее и меня из роддома. Но ее голос грубел сразу же, стоило перейти к моей нелюбимой части. Когда ушел отец.
Нет, он не умер. Просто ушел. Одним январским утром собрал вещи, покидал их в чемодан и, оставив на кухонном столе клочок бумаги с запиской, исчез из моей жизни.
В Грязи много таких: брошенных, одиноких и озлобленных. Мама поменялась не сразу, а может, я просто ищу ей оправдание. Сначала были попытки осознать, подстроиться и начать жить дальше, но они обернулись тем, что мама до утра сидела с тетей Таней, нашей соседкой, на кухне. Они звенели стаканами, иногда смеялись, а утром маме всегда было плохо. Тогда я не понимала, что происходит. Понимание пришло гораздо позже.
Поначалу мама просто огрызалась на мои вопросы. Могла обругать, но никогда не била. Не знаю, чем ее так взбесил мой паровозик, но она словно с катушек слетела. А я плакала и не понимала, что сделала не так.
– Можно было и лучше, – фыркнула мама, когда я подписала рисунок и убрала его в портфель. Я ничего не ответила. Просто кивнула и пошла умываться. Ну а увидев себя в зеркале в ванной, снова разревелась. На этот раз тихо. Мне еще не раз придется плакать тихо, чтобы мама не услышала. Потому что если живешь в Грязи, то должен быть сильным. Не важно, пацан ты или девчонка.
Грязь – это не город, хотя я бы поспорила с этим утверждением. Грязь – это район города, в котором я живу. Не самый плохой, есть еще Речка и Окурок, куда даже днем забредать не рекомендуется. Во времена Советского Союза туда ссылали химиков, дебоширов, хулиганов и прочую шпану. В Грязи этого добра тоже хватало, но, по крайней мере, днем можно было гулять относительно спокойно. За исключением весны. В это время года Грязь словно с ума сходила. Отовсюду вылезали онанисты, наркоманы, буйнопомешанные и им подобный сброд. Однажды я шла со школы через парк и увидела, как в кустах стоит странный человек. Он, не мигая, смотрел на меня и дрочил. Я испугалась, помчалась домой со всех ног, а когда влетела в квартиру, то увидела, что мама трясется на кровати, сидя на тощем мужике. Вместо сочувствия и помощи я получила кулаком по лицу, а потом еще три дня не могла нормально сидеть, потому что жопу неплохо так исполосовали ремнем, когда мужик ушел и мама сорвала свою злость на мне.
Со временем я привыкла к странным обитателям Грязи. Извращенцы в парках больше не пугали, местные наркоманы обходили стороной, стоило схватить с земли камень и злобно на них рявкнуть. Конечно, были и исключения, но в целом Грязь не худшее место для жизни, если смотреть на другие районы.
Мы жили в неплохом месте, как мне казалось. Рядом с домом был парк, а через сто метров от него небольшой пруд, в котором когда-то водились утки. Уток в начале девяностых сожрали бомжи. Мы с Катькой, моей подружкой, жившей по соседству, видели, как они ловят пернатых, потом ловким движением сворачивают им шею и суют в мешок.
– Хочешь жить – умей вертеться, – философски заключила тогда Катька. У нее всегда была наготове какая-нибудь умная мысль, и она постоянно этим пользовалась. Такая мелочь, как утки, ее не волновала, что она успешно доказала, вернувшись к игре в «классики».
Я любила гулять по нашему парку, любила сидеть под покосившейся ивой на берегу пруда. Не смущал меня даже каркающий мужик, бегающий голым на другом берегу. На районе и не такое бывает, да и у пруда куда спокойнее, чем дома.
Папа получил квартиру, как только переехал из Сибири на юг. Он знать не знал, во что превратится красивый район, поэтому, как и все остальные счастливчики, просто радовался. Хрущевка по адресу: улица Ленинцев, дом восемнадцать, была копией других хрущевок, но выгодно выделялась тем, что из окон были видны парк и где-то вдалеке пруд. Папе достался один из лучших вариантов: угловая двушка, где кухня и гостиная с балконом выходят в парк, а комната во двор. Ну а когда я родилась, то комната, ожидаемо, стала моей. Правда, ненадолго.