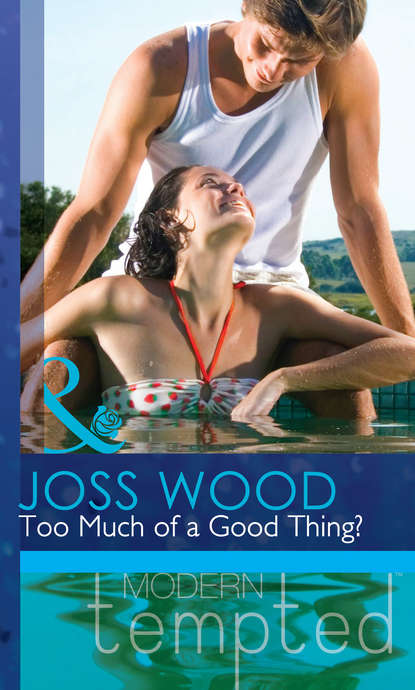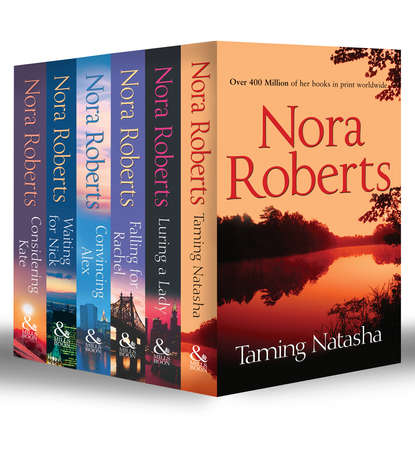- -
- 100%
- +
– Заканчивай, – её увеличенные алые губы сжались. – Заканчивай эту дурь.
На этом она вышла из ванны, а Алиса спешно закрылась на замок. После соприкосновения с Лидией, которая, в общем-то, насколько могла, ей сочувствовала, Алиса ощущала себя дурой: неухоженная внешность, балахонообразная одежда, да и мысли – очевидная дурь. Что бы ознаменовало, по мнению Лидии, конец дури? «Успешная разовая акция». Под этим она подразумевала, что Алисе надо опуститься на землю, продать свою девственность. Лидия настаивала, что необходимо именно продать и никак иначе. Потому что это будет «прививка» на всю жизнь, защита от глупых страданий. Тот, кому Алиса отдастся, безусловно, её акт не оценит, а если оценит, значит, слюнтяй. Алиса же считала, что вначале нужно встретить нормального парня, а затем строить свою жизнь. И забыть тысячу раз о Шоре.
Другим членам клуба Алисины переживания были неизвестны. А Лидии о своём решении рассказывать необязательно. А если бы её не было рядом? Проснулась бы в Алисе жажда этой странной «примерки»? Согласилась бы Алиса разделаться с тем, что берегла для великой и светлой любви, прежде чем покончить с собой? Решилась бы расстаться с девственностью абы с кем? В своей готовности на «абы с кем» Алиса видела месть самой себе за годы глупости, когда считала своё целомудрие чем-то сокровенным.
Из-за двери слышались голоса тех, кто начал партию. «То есть это», «то есть это», «то есть это», – повторяли они тихо надпись, выгравированную на одном из медальонов тикутаки, копия которого лежала по центру стола. Просто лежала, как мог лежать там любой другой камень или предмет. Казалась безделицей. Тоже фетиш? Однако для тех, кто уже преуспел в чиклях, кто не раз приоткрывал тайны в своей психике, медальон с дырочкой для ношения был подобен тоннелю, вызову. В медальонной надписи – схватка субъекта и объекта. И за столом категории «то» и «это» умирают и сливаются воедино.
Но Алиса чувствовала только то, что опять что-то деконструируется, погибает. Снова смерть. Снова отсутствие устойчивой системы. Что происходило в другой комнате, она даже не стала узнавать. Она испытывала угнетённость. Даже странно, какой дифференцированной была её болезнь. Алиса сама не могла уловить все эти ветвления: одиночество, страх сойти с ума, головокружение от того, что все – иллюзия, а значит, бред, безответная любовь, невозможность найти, ощутить Бога. Какого Бога? Хотя бы кровать найти и прилечь. Хотя бы на мгновение спастись в чём-то. Как обычно, хворь накрыла резко, точно заштормило, словно пол пошёл ходуном, словно маски накинулись на неё и впились. Она выбежала из квартиры. На лестнице её перехватил Елагин:
– У меня кое-что есть. От Казанцева. Пойдём поговорим.
Алиса пыталась отвечать ему «нет», «мне там душно», «плохо», «не интересны новости, тем более от Казанцева». Но Елагин не принимал возражений.
– Мне надо это донести именно до тебя. Считай, ты – слабое звено, – строго отрезал он.
«Слабое звено?» – крутилось в голове Алисы, пока она поднималась, как подневольная, обратно в клуб вслед за Алексеем, тридцатилетним юристом, который получил своё прозвище – Елагин – за познания в истории тайных обществ и конспиративную переписку, на которую мог подвигнуть самых закрытых, но интересных ему людей. Как и Иван Перфильевич Елагин, мастер Провинциальной великой ложи в Санкт-Петербурге, Алексей имел склонность к философствованию, мыслил по-гофмейстерски.
Он провёл Алису на кухню, где никого не было. Пока он говорил какие-то вступительные вещи о том, что «это серьёзный разговор», Алиса суетливо наливала чай. Хотя бы глоток. Хотя бы кипяток в глотку. Что-то сладкое на язык прежде, чем на неё обрушится всё снова. Прежде, чем она начнёт сомневаться, что она есть, что вот это – она, а не какой-то блик воды.
– Только, пожалуйста, без слабых звеньев, – попросила Алиса, подав Алексею Елагину чай. – Слабое звено может ещё стать сильным.
– Спасибо. Безусловно, – чуть более мягко согласился он и по-деловому, без каких-либо эмоций, приступил к сути. – На кафедре Казанцева сейчас стряпают что-то очень серьёзное: и против Шора лично, и, разумеется, против игры.
– Это происходит, сколько я себя здесь помню, – нетерпеливо перебила его Алиса, потому что ей становилось всё хуже и хуже и хотелось бежать. Хотелось кричать: «Алексей, ну вы же нормальный человек. Зачем вы меня вернули?! Ради этой фигни?! Вы же видите, что происходит со мной!»
– Да, – недовольно подтвердил Елагин, – но именно сейчас, поверь уж моим данным и не спрашивай, откуда они, я уверен, к ним попал какой-то козырь в руки.
– И причём здесь я? – нервно переспросила она.
– Ты тут как раз очень при чём, – спокойно, но чуть жёстче продолжил он. – Если произойдёт глобальное развенчание культа, если игра будет объявлена вредной, то тебя на этой волне вынесут в первые ряды. И я опасаюсь, что именно сейчас казанцы начнут к тебе подбивать клинья. Может, что-то обещать взамен. Может, подошлют кого-то, чтобы с тобой подружиться… Шор тоже считает, что, дабы потопить его, они используют все средства.
– Шор? – невольно вырвалось у девушки и вспомнилось «слабое звено». Она зажмурила глаза и постаралась взять себя в руки, но слезы всё же брызнули.
– Видишь, ты сейчас совсем не в форме, – вздохнул Алексей и отпил чай. Затем он нахмурился и стал в раздумье водить пальцем по столу, как будто прикидывая возможные комбинации и развитие событий.
– А вы вот мне сами, Елагин, признайтесь. Вы уверены, что игра позитивна? – не сдержалась Алиса.
Алексей задумался. В клубе он искал материал для анализа. Не то чтобы он отвергал догмы чиклианства или оставался духовно глух в игре – его партии не редко были проникновенны. Однако он, кажется, всегда помнил, какое пристрастие его сюда привело. И вот это уже интереснее: откуда эта жажда информации, скрываемой от общества? Откуда влечение к теням, отбрасываемым политическими или социальными процессами? И где-то внутри, себе лишь самому, он мог признаться, что упивается самим процессом разоблачения, владения сокрытым.
Он ощущал: его «дневное поприще», адвокатская деятельность, связано с противоположным – с ясностью, открытостью, с правом и законом. Право – нечто высшее, что берёт своё начало у истоков бытия. Право подобно солнцу. От его сияния можно и ослепнуть. Поэтому нужна тень.
– Не уверен, Алиса, – наконец, сказал Алексей Елагин. – Однако я много в чём не уверен из того, в чём уверены массы. Я должен просчитать все ходы. Вас мне надо было уведомить только потому, что мне противны хитрости. Позитивная эта практика или душегубство, это уже второе. А первое, лично для меня: нельзя при доказательстве использовать сфабрикованную информацию. И вот я однозначно против этих махинаций.
Девушка пообещала ему сохранять бдительность. Елагин ещё раз вздохнул, показав, насколько это обещание неубедительно. Алиса постояла немного и вышла. В дверях она столкнулась с Шором. Причём буквальным образом. Она вспыхнула, и внутри неё на мгновение установился блаженный Эдем. Но профессор так холодно ей сказал «простите», что рай растворился, и она буркнула что-то в ответ и выскочила на лестницу. Поскорее к пропасти! В ад и месиво. Потому что ад внутри невозможно снести. Его надо удвоить. И сгореть.
Через два часа Алиса уже сидела в одном совершенно небогемном заведении. В неприличном платье. Была пьяна. Почему она не пошла в «Уzтрицу», где ей бы сделали скидку? Потому что та напоминала «успешную разовую акцию». А акция, несмотря на низость намерений Алисы, была апофеозом мерзости.
«Разве может продажа столь нежного и драгоценного стать “прививкой от романтизма и страдания”? Понятно, Лидия считает, что так разовьётся спасительный цинизм, но задумывалась ли она о пользе уязвимости? Не думала ли она, что в панцире этого цинизма, где нет боли, нет и жизни? Но чем мой гадкий сценарий отличается от её? Тем, что я ищу не защиты, а гибели. В том вот уроде или в том – ищу гибели. Этим мой сценарий честнее», – размышляла Алиса, сплющив зубами трубочку, цедя коктейль и бросая какие-то пошлые фразы подбивающим к ней клинья мужикам.
Надо сказать, многие кандидаты, чувствуя что-то вызывающе-фальшивое в словах девушки, ощущая в ней тайное страдание, быстро разворачивались и покидали Алису. От собственных фраз её тошнило, поэтому она ещё сильнее налегала на алкоголь. Развязность в речи, которой она как бы продолжала себя подталкивать к пропасти, становилась всё более нелепой и гротескной. И не то чтобы оставшийся около неё «урод» был настолько пьян или психологически глух, ему, скорее, было все равно.
Заткнулась Алиса в тот момент, когда его рука всё-таки притронулась к ней. Девушка оцепенела, словно брезгуя сбить ползущего по ней тарантула. Сколько это длилось? Уже ни о чём не размышляя, она смотрела, как коричневая мохнатая рука, олицетворяющая все сладострастия и похоти, известные человечеству, и принадлежащая тому, у кого были мохнаты нос и уши, медленно гладила её коленку. «Ам, какая девочка, ум-м-м», – слышалось при этом тяжёлое сопение и мычание…
Время от времени эта рука пыталась поднять подбородок девушки. Тогда она резко отворачивалась к бару и просила ещё коктейль, лимон, воду, салфетки, сахар, соль, закурить… Но Алиса не курила – каждый раз при затяжке она испытывала приступ кашля. В её уме мелькало «так даже лучше, лучше, лучше, только это может быть примеркой тому». Эта фраза звучала заевшей пластинкой. Но чувство гадливости заливало Алису, и подступала тошнота.
– Тут есть мотель, – шептал кустистый рот, – почасовой… Пойдём…
– Угу, – отвечала, сдвинув брови, она.
И теперь, отбросив лексику, которой так нелепо и безыскусно пыталась добиться своих целей, а в сущности, лишь нагнетала самоотвращение, она произносила изредка что-то вроде «угу» или «щас».
И это было похоже на жестокий аттракцион: она приближалась к своему решению и как будто катилась в пропасть, а потом выныривала из неё и снова просила повременить. В этот момент ей и позвонил Саша, можно сказать, единственный приятель из членов клуба, который хотел с ней встретиться и обсудить, в общем, то же, о чём уже говорил Елагин.
И этот звонок сотворил несколько вещей. Он вторгся извне в это душное и смрадное пространство и продемонстрировал, что ещё можно одуматься, отвлечься от намеченного из-за каких-то внешних и автономных причин.
Звонок принёс радость, которая, впрочем, стремительно перетекла в досаду. Точно Алиса была узником, на котором вдруг разорвались оковы, и она вдруг судорожно и парадоксально стала искать, как их вернуть.
От перенапряжения она несла, что приходило на ум, и как будто в этой болтовне забывалась.
«Какие там новости? Не до новостей! Давай лучше, Санёк, о другом! – слышал Саша Алисин пьяный голос, и по коже его ползли мурашки от недоброго разгулья девушки. – Как думаешь, это будет последняя игра, а? – и, не слушая его, продолжала. – Чибля, Саша! Сегодня я буду ругаться! Поверь, это лучше, чем… В общем, лучше, чем другая, фу-фу, аж блевать, вот уж… Верь мне, в общем. Лучше ругаться. Это практически спасение. Серьёзно! Да что ты! Иногда, слушай же, что говорю, надо переступать табу! Это полезно. Может, улизнёшь от худшего греха! Нарушение табу – это смерть в миниатюре. Может, их для того и придумали, чтобы они были спасительными примерками, эти табу. Чтобы человек примерился. И примерка осталась примеркой. И дальше никто не пошёл. Не веришь? А ты поверь. И табу полезны, и гадкие попирания их могут быть полезны! Все одна польза! Слышишь, сколько пользы вокруг меня-то? А ты, Сашка, тоже всё сладенькое, а? Ругнись! Ну хотя бы немножко!» – тут у неё промелькнуло, что для этой жуткой примерки подошёл бы Саша, потому что переступить через отвращение к мохнатому мужику, казалось, выше её сил…
Хотя тут же она ощутила «нечестный компромисс», именно так она подумала и даже как будто поругала себя за малодушие и изворотливость. Ведь какая погибель в том, чтобы с Сашей? Какая в том примерка к тому? Однако и откинуть полностью этот «малодушный компромисс», сводящий к минимуму деструктивное значение акта, она не могла, потому как время от времени оборачивалась к мохнатому и видела его лапу. И она как будто дала лазейку для случая… Вторгся же этот звонок. Отсрочил же её гибель.
«У-у-у, а ты бы меня сейчас видел… Жуть и мерзость, Саша, и тут другого слова и не сыщешь, – самобичевалась Алиса, но тут же переходила к необъяснимой для Саши горькой и саркастической интонации. – Может, Саша, у нас с тобой будет сегодня весёлый вечер. Значит, слушай. Я в некотором месте, ты можешь сюда прийти. Место неприличное, пьяное, здесь такой дух, такие попойки безобразнейшие случались, у-у-у, угар, это место даже за века не отмыло себя, и вот так его и назвали. Прям и назвали. Вот тут я сижу, Саш, в подвале, даром, что Пушкин родился, всё гав-но», – сказала она. Нервные смешки и гудки.
Саша набрал ещё раз, но телефон оказался выключен. Тоску его усилила и открытая для ориентировки карта Москвы – гигантской попойки. Довольно безрезультатно он поискал информацию в интернете и нашёл всего пару домов, в которых бывал поэт. Несмотря на это, он собрался и вышел из клуба, чтобы искать Алису.
Саша хотел, чтобы Алисин речитатив не отвлекал его от собственного замысла, чтобы он сам не волновался тщетно. Подобного рода выходки, речи про смерть и нарушение табу вполне согласовывались с Алисиной несколько экзальтированной природой. Замысел же Саши касался одного серьёзного разговора, на который он, кажется, решился. А новости, с которыми он первоначально ей позвонил, были лишь предлогом.
Вначале юноша пошёл по Сретенке направо к тому месту, где прежде стояла Сухарева башня. Но потом, осознав, что от волнения он удаляется от злачных мест, Саша взял себя в руки и развернулся на сто восемьдесят градусов, чтобы пройти по заведениям Сретенки, дойти до Чистопрудных клубов и затем свернуть на Маросейку и Покровку, кишащую барами. Правда, насколько он имел представление, не подвального типа.
Один, второй, третий бар, клуб с фейс-контролером, и там всё грохот, локти, шум, столпотворение, – надежда её найти чахла с каждым новым местом. Выйдя из десятого заведения, Саша остановился и заставил себя сосредоточиться. Он простил себя, что промотал целый час в бессмысленном шатании, и ум стал чётче.
Тогда он вспомнил, что Пушкин родился на Бауманской или где-то в Немецкой слободе, потом стали припоминаться ему и названия: Басманная, Госпитальная, Денисовский переулок, Басманные тупики, Аптекарский переулок, – среди этих названий, увы, ни разу не мелькнуло ничего угарного, как обозначила Алиса.
Однако Саша всё-таки дошёл до Садового, поймал машину и проехал минуты за три до того места, где родился и крестился совсем другой поэт. Вдруг хмель застил память Алисы? Саша вышел из такси и направился к Бауманской.
Дорога пролегала через малолюдную тенистую улицу. Из-за обилия домов, дышащих ладаном истории, богаделен, института благородных девиц и наркомата путей сообщения, столкнутых лбами в самой узкой и таинственной сумрачности, улица приобретала такую неизбежную в данном случае характеристику, как глубина. Из открытых заведений ему попался только небольшой продуктовый, в который влетели по ступеням, боясь не успеть до одиннадцати, три кадета, отмахнувшиеся в спешке от Саши, когда он спросил, где тут в округе можно чего-то выпить или потанцевать.
Одолев глубину улицы, он вынырнул на площади Разгуляй, покрутился по ней, не заметив её названия и, сомневаясь, куда же ему податься: направо к дяде или налево к крещению, – пошёл налево. Именно на площади Разгуляй в неприметном заведении в это же самое время Алиса была в очень неоднозначном положении.
Через час, так и не дождавшись Саши, Алиса, будто не обладая волей изменить своё решение, согласилась уйти с мохнатым мужиком. Они вышли, прошли про Доброслободской, свернули в переулок. В нём стояли казарменного типа дома с обветшалыми фасадами, потухшими окнами и, как оказалось, гуляющими внутренностями: расшатанными лестницами, скрипящими половицами, разбитыми лампами. Кухонные ножики, самые ужасные из всех ножиков, могли появиться из любых дверей и юркнуть в тело позднего гостя. И освещалась убогая картина только одним фонарём, мигающим в темноте.
При виде горевшей в переулке мусорки, служившей источником вони, Алису охватила паника. Невероятно чётко и резко, несмотря на затуманенный алкоголем ум, она ощутила, насколько это её решение близко к решению следующему, насколько одно тянет, с неумолимой, противной инерцией, за собой другое. И эту силу не уменьшить! не отменить! Один шаг – раз, и второй. Грехопадение сцеплено с ещё худшим грехопадением… Она чувствовала колоссальную связку одного своего шага со следующим. Это знание бежало мурашками по её замёрзшей коже. И разве она уже готова к тому, последнему?! Разве всё действительно кончено?! Разве нет ещё надежды? Нет. Акт. Верёвка. Смерть.
Взвизгнув, она побежала со всех ног от мохнатой руки вниз к Доброслободской. К свету и людям. Но, не пробежав на каблуках и десяти метров, упала. Попыталась встать. Её обдал никотиновый запах прижатой к ее рту руки… «Хотела убежать, милочка? За нос меня весь вечер водила», – сквозь зубы цедил мужик, судорожно расстёгивая одной рукой брюки. Рука его дрожала. Он приблизил к её лицу то, чего она ещё никогда не видела. Алиса заныла, замычала, попыталась вырваться, но мужик налёг на неё всем весом и одним движением задрал платье. «А-а-а», – понёсся по пустому переулку душераздирающий вопль. И от боли, от невыносимого унижения Алиса впилась зубами в свою руку. И она грызла её и сосала, задыхаясь от слез, до тех пор, пока все не кончилось.
«Ты сама, сама, сама, согласилась!» – рявкнул напоследок мужик и сунул ей пять тысяч рублей. Освещённый в этот момент вспыхнувшим и тут же погасшим с электрическим дребезжанием фонарём, он рванул по переулку и скрылся в сумраке поворота. А кухонные ножи так и ходили, так и шныряли вокруг лежащей на асфальте Алисы. Обкусанной рукой она пыталась одёрнуть платье с кровавым пятном. Девушке казалось, что она может не успеть подняться, как кто-то накинется на неё вновь и возьмёт силой. В этом переулке это возможно.
Через какое-то время она подняла деньги, встала и пошла, пошатываясь, к мусорке. Та уже догорала и смердела ещё сильнее, клубясь дымными, в темноте живыми, облаками. Что ж, Алиса сама хотела своего падения. Она сама довела до этого. Теперь легче умереть. Алиса высунула купюру. Посмотрела на неё. Протянула руку. Дым тут же поглотил и обдал жаром.
– Это моя жертва тебе, боженька, – произнесла она сорванным хриплым голосом, колени её подкосились, и она рухнула у мусорки в рыданиях.
Алиса знала – её никто не слышит.
«Игра не совместима с жизнью», – ответила бы она, если бы прямо сейчас к ней подошли и спросили, кто над ней надругался. «Игра!» – закричала бы она. Что-Что? Вы о чём? Да! «Игровое восприятие постигнуто. И что?! И теперь любой трэш – это игра. Слышите?! Не верите? Так смотрите, смотрите же на меня! И эта игра – теперь единственный доводящий до самоубийства трэш! За игрой нет жизни. Нет иной боли, кроме адской боли этой игры».
Алиса ощущала, как и прежде, боль. Но боль эта была как будто не от произошедшего этим вечером ужаса, а от двух предельных знакомых состояний: одиночества и расщеплённости.
Она даже услышала и увидела, как говорит сама себе, и, как и Бог, не стала за ненужностью ничего отвечать. Мусорка, треща время от времени пластиком, поглотив мерзкую купюру, горела в отсутствии всех…
Итак, первое таинство для поэтического сознания состоялось в 1799 году в Елоховской церкви, к которой направился, шагая широко и взволнованно, от площади Разгуляй Саша. Настроение у него становилось всё сквернее. По мере обхода слободы с её заведениями, кое-где напоминающими студенческое гетто, крепло ощущение, что он в чём-то ошибся. Что-то не так понял. Обманулся.
Он свернул к Меньшиковскому дворцу, от нечего делать поглядел через ограду на Бауманку и уже совсем разуверился в том, что найдёт Алису. Пару раз он стрельнул телефон у студентов, услышал, что она, как и прежде, недоступна, и пошёл в сторону Курской, чтобы вернуться в клуб и читать пушкиноведов.
Но он не любил себя нервным, взъерошенным, поэтому всячески себя усмирял, спускаясь к Яузе и колеблясь, пройти или не пройти по заведениям Сыромятников. А когда он дошёл до реки, которая никуда не текла, но лежала темнотой под крутым холмом, то настолько преуспел в самоуспокоении, что решил вообще отправиться домой и отложить разговор.
«Хоть и не нашёл Алису, но, думается мне, что всё хорошо, и с утра я этому найду подтверждение», – рассуждал Саша. Дыша всё более свободно и ровно, он и увидел на горбатом мостике, который был подсвечен фиолетовым, как и высившийся за ним на холме Андроников монастырь, одинокую женскую фигуру.
Зрелище было едва ли романтичным: женщина, перевесившись через перила, мотала справа-налево простоволосой головой. Саша перешёл на бег, потому что ему показалось… С ума сойти! Фигура этой девушки в красном платье и в короткой курточке, несмотря на ночной холод и срывающийся снег, напомнила ему Алису. Да, это была Алиса. Он обмер. И, боясь криком спугнуть её, молча быстро побежал к ней, горя разом всеми чувствами: болью, страхом, любовью, изумлением, страстью, негодованием.
– Алис, – боязливо и ласково позвал он, – Алиса.
Девушка некоторое время стояла, перевесившись через перила, но головой мотать перестала. Потом она выпрямилась, пригладила взлохмаченные волосы и обернулась. Сашу поразил не столько внешний вид – непривычно ярко накрашенное лицо, откровенное платье, – сколько взгляд: она смотрела, как помешанная, равнодушно, без всякого удивления и будто не видела его.
– Привет, Саша. Есть закурить?.
– Ты же не курила!
– Точно, – произнесла она и перевела взгляд.
– Что с тобой? Что ты здесь делаешь? Где ты была?! – снимая с себя куртку и накидывая ей на плечи, спрашивал он.
Она не отвечала. Не скидывала куртку. Но и не придерживала её.
– Почти отгадал загадку, да? – ухмыльнулась Алиса и, резко повернувшись, добавила, смотря с осуждением ему в глаза. – Да поздно, Сашенька.
– Тебя обидели? – в чувствах он схватил её запястье.
– Я сама себя обидела, и хватит об этом, – отрезала Алиса, – пойдём лучше где-нибудь покурим.
– Нет, не покурим. Мы останемся здесь, пока ты не ответишь!
Алиса удивлённо на него посмотрела, сделала шаг вперёд, намереваясь идти, но он преградил ей дорогу.
– Я очень устала и хочу сесть. Я сейчас упаду, мне нужно сесть.
Он взял её под руку, и они пошли в сторону Курской.
Из-за большой разницы в росте Сашина куртка висела на ней как пальто, в которое она запряталась с головой и согревалась дыханием. У Курской, где шла привокзальная ночная жизнь, в мешковатое пальто сунули цветы – «Для прекрасной девушки». И этот ободранный подросток с розами, и Саша, выкупающий охапку, вызывали в Алисе жалость. Она отвернулась и зажмурилась. «Это я себя изнасиловала. Сама себя».
– Правда, меня никто не обижал, всё это ерунда, я сама, – вернулась она к разговору, когда они присели с Сашей на лавку.
– Но ты мотала головой…
– Да хотела отрезветь, – соврала она и вдруг её губы задрожали, лицо скуксилось, она уткнулась в его плечо и стала говорить навзрыд: – А знаешь, Саша, что самое ужасное? Что мы одиноки! Жутко одиноки! И нас даже нет, мы все – пшик! Никакой эмпатии, никакой любви, Саша! Элементы мы, – и, не услышав или сделав вид, что не услышала Сашино «как же любви нет?! я бы хотел тебе сказать…», – ничего вообще, только одиночество! Скажешь, нет? А как нет, Саша? Вспомни чикли: мы – «колебание светотеней». Чьих, откуда? Понятно, угу, оттуда, Того, значит. А Тот, Саша, Он же одинок! Он же ещё более одинок, ведь всё его производное – Он сам. Ты представь, как зверски, как люто, дико, мерзко, гадко быть Одним в целой вселенной. Мы все – только голое одиночество.
Саша действительно не понимал, как можно так некорректно смешивать Абсолют с одиночеством, и пытался успокоить Алису христианским триединством, а также тем триединством, о котором читал в Упанишадах. Между делом он пересказал ей и обоснование троицы Гегелем. В чём он видел исчерпывающее даже для материалистического ума доказательство невозможности того самого одиночества. Но она продолжала настаивать на метафизическом и самом невыносимом, губящем её душу одиночестве и периодически плакать, утыкаясь в его плечо. Когда это происходило, на Сашу находило такое блаженство, что он забывал о её терзаниях и расцветал, затем корил себя и возвращался к сочувствию. От этих внутренних рывков его сострадание выглядело как-то гипертрофированно и помпезно. Впрочем, Алиса была не способна это замечать.
– Знаешь, я, кажется, понял, почему тебя так мучает это метафизическое одиночество, – аккуратно начал молодой человек. – Именно потому, что ты не веришь в любовь. На этом и завязываются все остальные переживания. Человек не может безболезненно для психики лишить себя веры в любовь, – высказался он и хотел уже подойти к своему признанию, но Алиса направила разговор совсем в другую сторону.