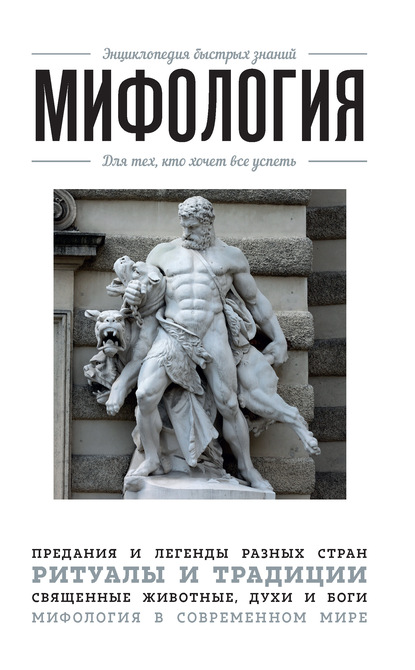- -
- 100%
- +
– А как в неё можно верить, Саша? – воскликнула она, схватив его обеими руками за плечо. – Как?! Когда всё вокруг – пустые кванты, дурацкий квантовый суп, – она сгорбилась, закрыв голову руками, и проскулила: – я схожу с ума, Саш. Я скоро съеду. Честно, всё пустое и такое огромное, одинокое, я только об этом и думаю, знаешь, жуть, и так страшно. Все остальные события меркнут. Ничто-ничто не сравнится с тяжестью того, что у меня на сердце! И мне страшно даже смотреть кругом: дома, небо, фонари – всё такое одинокое, смирившееся со своим одиночеством. Закрываю глаза, и так кружится голова, как будто в бесконечную пустоту попала. Бесконечную пустоту. Так страшно, – она проскулила, потом подняла голову и, как-то потерянно оскалившись, произнесла: – Ну разве что только докажут, что атом имеет потенцию к любви, тогда, может, я и поверю, что она как-то может касаться и абсолютного.
– Ну мы же про людей, Алиса. Я говорю о человеческой любви. Какие атомы?
– Про каких людей, Саша?! – возмутилась девушка и от своего возмущения даже на мгновение почувствовала себя легче. – Ты разве не помнишь постулаты игры? Нет никаких людей, тебя и меня, вообще никого нет! Мы – иллюзии, дрожь ветра, игра Бога в солнечные зайчики.
– Хорошо, допустим так. Но если даже эти солнечные зайчики способны любить, не является ли это ещё более крепким подтверждением любви? – тоже повысив голос, ответил Саша.
Алиса замерла и долго разглядывала юношу, которому стало неловко и хорошо от этой пристальности, и он заботливо продолжил:
– Мы не знаем многого. Хотя бы поэтому не стоит своим человеческим умом пытаться охватить то, что не может быть им понято. Отрицая любовь, ты не признаешь за Абсолютом абсолютного, – говорил он, пытаясь нежно взять её ускользающую руку.
– Да, может, и выберусь из Сретенского тупика, – сказала она, но тут же зажмурилась, вспомнив мужика, и подскочила, – я поехала, тут очень холодно. Жуткая весна. Спасибо тебе!
Но тут же ей стало страшно – вдруг в такси что-то произойдёт, и она попросила Сашу проводить её до дома.
У двери, наклонившись к Алисе, Саша почувствовал смесь запахов от спирта и роз. Счёл этот коктейль приятнейшим благоуханием. Поцеловал её в щёку. Его глаза обнадёженно сверкнули в темноте зелёного подъезда. Алиса скрылась с охапкой цветов в квартире, все постояльцы которой давно спали.
И почему эта примерка прошла так жестоко? И почему в эту страшную ночь в её комнатушке столько цветов?
Глава 4
Профессор Казанцев и его гвардия поразительно отличались от тех, кто собирался по вечерам в Сретенском тупике: от «казанцев» исходил дух победного реализма и рационализма. Не понятно, правда, почему. Может, технологии позволили им сотворить этот образ?! Нельзя же полагать, что дело – в коренастости Казанцева и ироничности его единомышленников? Но почему-то одни заработали славу мистиков, а вторые пользовались авторитетом здравомыслящих мужей науки. Видимо, их рационализм зиждился на том, что они видели в игре вредную практику. Однако казанцы считали её настолько вредной, что она, по их мнению, привела к гибели народа. Эта зловещая гипотеза повсеместно принималась, считалась обоснованной и реалистичной.
«Вот вам пример деструктивного ритуала, – любил говорить Казанцев. – Содержание игры расшатывает психику, способствует быстрому развитию самых разных психических патологий. Зачем тикутаки играли? Игра была им, скорее всего, навязана, это психоружие. Враг смог использовать ахиллесову пяту древнего общества, уверенного в своей избранности, а авторитет жреца был очень высок и принимался без сомнений».
Профессор Казанцев, как и Шор, был легендой института. Его корифеем. Справедлив закон: признание ценности одного лишало ценности другого. И произошло это задолго до их учёного разногласия. Казалось, дело даже не в гипотезах и научных спорах, а в чем-то более глобальном и им неподвластном. Почему-то случалось так, что, если человек проникался речью Шора, то он становился поразительно глух к Казанцеву, что приводило впоследствии к более активному неприятию аргументов последнего. Если же собеседник был солидарен с Казанцевым, то, соответственно, враждебен к Шору.
Так сложилось ещё на заре их пути, когда ни у одного, ни у другого не было ровным счетом никакой славы. Обычное соперничество – можно решить. Однако те, кто видели этот живой процесс, замечали, сколько в нем было стихийного, непреднамеренного. Как будто дело касалось не схватки интеллектов, тщеславия, амбиций, а конфликта, вытекающего из способа восприятия или самой манеры мыслить.
Долгих десять лет это соперничество жило и развивалось словно отдельно от учёных – они занимались карьерой, избегали друг друга и тем более этих спонтанных нокаутов. Но однажды вечером один женский силуэт заставил двух профессоров узреть пропасть между собою. Шор, кстати, был тогда менее привлекателен. В нем ещё не проснулась тяга к стилю, он ещё не соткал эту безупречную мантию загадочности, которой впоследствии окутал свою персону. Хотя и тогда он мыслил неординарно и любил стоять особняком.
Казанцев, напротив, находился в поре расцвета и женщин не сторонился. По случаю юбилея института, который проводили в кавказском ресторане у Парка культуры, он намеревался погулять от всей души и искал себе пассию.
Как бы нехотя, преодолев усилие, Казанцев обратил внимание на женщину, с которой о чем-то разговаривал Шор. В это же мгновение с ним что-то произошло, словно разорвалось на мелкие частицы внутреннее ядро.
– Уверяю вас, он танцевать не умеет! – подошёл он к паре и стал растекаться по древу своего красноречия. Через десять минут он увлёк женщину на танцпол.
Первое, что захотел сделать Шор, – врезать Казанцеву. И дело касалось не барышни. А самого этого бравирующего Казанцева. Однако Шор выдохнул и остался стоять на месте. На удивление, женщина смогла вырваться. Она вернулась к нему, чтобы продолжить разговор. Тогда желание разукрасить морду Шору проснулось у Казанцева. И он схватил рюмку, потребовал микрофон и произнёс самый весёлый и красноречивый тост, в котором, однако, содержалось несколько саркастических уколов в адрес Шора. И все поняли, о чём речь. И смеялись.
А Шор не хотел выступать в роли тамады. Он решил удалиться. С женщиной или без? Он никак не мог понять, интересует ли она его сама по себе или в общении с ней он удовлетворяет свою месть? И так как в последующий час он так и не смог разыскать истину, посчитал, что уехать одному честнее. И этот поступок – с доброй подачи Казанцева – породил первые сомнения в гетеросексуальности Шора.
После того, как он уехал, пыл соперника утих. Конечно, не в его характере было отказываться от своих планов, но что это – почему та, которая пробудила в нём столько чувств, сейчас неинтересна? «Скотина всё-таки Шор», – ответил Казанцев на свой вопрос, как будто бы речь шла об исключительной хитрости Андрея Макарьевича, который мог строить пакости (в этом Казанцев был убеждён), не открывая рта.
И хоть пропасть между учёными уже воссияла, всякий раз её усугубляли успехи, которых они добивались. Ермолаю Ивановичу Казанцеву никогда не забыть того дня, когда институт зашуршал, подобно липе на ветру, и стал скрести по его бедному сердцу: «Шор открыл уникальный ритуал». «Глупости! – взбунтовалось всё в нём. – Он шарлатан! – чуть не закричал, но только стиснул зубы и процедил: Надо проверить». И как же он захворал, когда разразился этот журналистский бум вокруг игры в чикли, как занемог и состарился. А Шор, как будто глотнул эликсира сексуальности, становился всё более привлекательным, небрежно-элегантным, подтянутым.
Андрей Макарьевич уже не стеснялся своей отстранённости от женщин – он питал домыслами тайну. А жизнелюбие и женолюбие Казанцева растворились: он либо болел, либо искал опровержение идеям отца чиклианства. Вскоре он наткнулся на упоминание о трактате Черубино Пиппы. По некоторым данным, тот посвятил свой труд зверствам и наваждениям тикутаки. И какой же немыслимой ошибкой было заявить о трактате! Тут же на его поиски кинулись десятки подкованных знатоков, как его сторонники, так и члены клуба.
Труд средневекового каноника числился в одном монастырском списке. И хоть люди Казанцева и получили официальный доступ к архиву, там они ничего не нашли. Кроме подтверждения, что до них кто-то был. Выдача тех рукописей, которые могли пролить свет на тайны тикутаки, каждый раз сопровождалась оплеухой: казанцы ставили свои кириллические автографы под другими кириллическими завитушками. И порой, что смущало более всего и в то же время подогревало версию о нечистой игре, отставали они на каких-то несколько часов.
Их маршрут по цветущей Ломбардии и Вуарону, где текли реки ликёра «Шартрез», проходил точно по тем картезианским монастырям, где уже побывали другие русские. То же происходило в обителях Гренады, Каталонии, в долине у подножия Жумберакских гор. Казанцам нигде не удавалось быть первыми! Кроме формулировки вывода об авантюризме самого Пиппы, который неизвестно как пересёк Атлантику и, быть может, покончил свои дни в пути, потому как его трактат ещё два века где-то странствовал, прежде чем вернуться в ненадежные руки картезианцев, которые его снова выпустили. Или, что совсем невыносимо, продали, точно бутылку ликёра. Может, не подозревая за ним ценности.
И Казанцев потерпел поражение: закончилось финансирование исследования, а вместе с ним угас энтузиазм его сторонников. Тогда-то он и обратил внимание на то, что доступно прямо сейчас и в Москве, – на игру, которая велась в клубе. И почему бы не понаблюдать за транспозицией игры?
Однако Казанцеву никак не удавалось ввести в клуб своё око. Шор легко вычислял его засланцев до тех пор, пока в клуб не явился Валерий Баков, актёр Московского этнографического театра, что находился в Лосиноостровском районе и обладал в своём роде уникальной сценой, на которой главным действующим лицом был этнос. В виду особенностей репертуара и его, Бакова, искренней любви к этнографии, он сумел идеально воплотить образ ищущего новой информации актёра, чья душа полнилась трепетом от слов «этнос» и «игра». Баков выразил желание увидеть когда-либо на сцене своего театра партию в чикли, на что Шор ответил: «Преждевременно. Мы не добрались пока до аутентичного».
Важно сказать, Баков, олицетворявший своей квадратно-скуластой мордой и седовласой бородой само понятие этнического, совсем не врал. Разве это важно, что за своё внедрение в клуб он ожидал некоторый гонорар? Тяжело живётся актёру маленького театра, куда на спектакли приходят десять зрителей, а двадцать актёров для них играют. Он не мог отказаться от профессионального вызова: вступишь в клуб – актёр, расколют – прохиндей.
Однако Казанцев не был уверен в Бакове. Его смущало несколько вещей: страсть Бакова к преувеличению, его вспыльчивость, в конце концов, его профессия. «Но он лучше, чем никто», – успокаивал себя учёный муж.
Совсем о другом размышлял после встречи с Баковым Шор. Как скажутся чикли на его мастерстве: не потонет ли актёр во вселенной рафинированного артистизма, в которую вход приоткрывают чикли? Не придёт ли он в бешенство, осознав, что искусство – это просто ткань бытия, а потому относительна заслуга автора и авторство условно? Каково ему будет расстаться с иллюзией о том, что человек – единственный творец, подобный Богу? Также профессор опасался, что Баков запьёт. Слишком уж кирпично-багровым было его лицо.
Как и ожидалось, сведения Казанцеву Баков приносил очень противоречивые: то он восклицал, что игра – это лучшее, что было с ним, то мог прийти в подавленных чувствах и жаловаться на нарастающий тремор внутри и соматический понос.
Гонорары Казанцева оказались очень скупы. И Баков не раз подумывал, что шабашить гораздо выгоднее свадебным тамадой. Но что-то его держало в клубе. Может, и правда, эти странные маски, развешенные всюду, не дают уйти? Или это постыдный фетиш? Постойте, что там Айдаров вещал про фетиш? Так плох он или хорош? Баков путался. Вроде, он был не глуп. Мог умно промолчать, когда члены клуба, например, рассуждали об анимизме. Мог вставить словечко за древних тику, приплести что-то про алеутов. Но почему-то с каждым днём он чувствовал себя всё глупее и глупее. С ним произошло то, чего не было никогда в театральной мастерской или на сцене: он стал считать себя глупым.
«Я глупец», – угрюмо думал Баков, наливал коньячок и без всяких преувеличений, на которые его прежде вдохновлял ум, рассказывал Казанцеву всё то, чему становился свидетелем. Казанцев чуть повысил гонорар, стал восхвалять его – Баков, погруженный в себя, равнодушно кивал головой.
И чем больше пил Баков, тем радостнее становился Казанцев: его теория верна, вскоре он разгромит Шора, дискредитирует клуб.
– Валера, – заискивающе заглядывал Казанцев в щелевидные глаза Бакова, – а есть там кто-то, кого эта игра уже довела? Если да, в чём это выражается?
И тогда Баков рассказывал про Алису. Казанцев хмурился: этот шанс он не может упустить, как когда-то упустил Черубино Пиппу.
Сто́ит пояснить, что свою теорию Казанцев давно оформил, огласил и нашёл сторонников, однако ему хотелось сокрушительных аргументов. Был ли случай Алисы таким аргументом? Разумеется, нет. Однако состояние Алисы было красноречивым и понятным массам, её случай мог затмить все предыдущие изыскания на тему древнего общества тику.
В тот день, когда у Алисы случилась «примерка», Баков напился в дым.
– Ермола! – завалился он домой к Казанцеву. – У меня есть, что тебе сказать! Я всё понял!
На вопрос, что он понял, Баков бормотал «влюблён, влюблеё». Кто? В кого? Пахнуло жаренным. Вдруг они в клубе совокупляются ритуально? И Казанцев завёл Бакова, как почётного гостя, на кухню и усадил на табурет.
– Я кое-что начинаю понимать… Тьфу эти игры. Ты как будто врёшь всюду, не то что врёшь – играешь, выдумываешь… И всё это вранье, всё это актёрское приводит к тому, что вдруг словно шоры слетают, ей богу! И столько странных идей появляется в голове! Ты их, вроде, никак даже не хочешь, не зовешь, а они налетают, как птицы, и давай по кругу… по кругу… по кругу…
– Так кто влюблён? – вздохнув, напомнил Казанцев.
– Ты, Ермолай, влюблён в Шора.
Повисла тишина. Казанцев смотрел на Бакова. Баков на Казанцева.
– Ты любишь Шора больше, чем баб, – Баков сплюнул, встал с табурета и, буркнув «пошёл», по-медвежьи потопал к выходу.
Казанцев попытался рассмеяться. Но не мог. И такая в нём поднялась злоба. Да он этого Шора! И как он мог размышлять, честно или нечестно внедрять засланца?! Люди сходят с ума! Надо скорее объявить о сексуальных бесчинствах в клубе.
На утро пара бульварных газет вышли с публикациями: «Растление под маской игры» и «Просветление по-московски». А к полудню была проведена вирусная рассылка в мессенджеры и на электронную почту короткого сообщения о том, что уважаемый профессор, прикрываясь научными опытами, организовал подобие борделя с сектантским привкусом. Но самое главное, у Казанцева, отправившего в «жёлтые» редакции эти статьи, была припасена ещё идея.
Глава 5
Лёжа на свалявшейся постели, которую она не меняла около месяца, Алиса вопрошала: «Кому я отомстила? Несуществующему Богу? Пустому отсутствию? И почему жертвоприношение становится синонимом веры человека?» Она привстала и потянулась за красным платьем с кровяными следами, которое валялось скомканным на прикроватной тумбе.
Первым желанием Алисы было изрезать платье в клочья. И она достала ножницы, но вдруг заметила следы укусов на руке: «Это же я сама сделала, – прошептала она, точно опомнившись. – Это же я сама».
Зачем-то она надела платье и села на кровать. Ей сделалось дико больно. Как будто она углядывала в своих нелогичных действиях знак душевной болезни и серьёзной травмы: «У меня нет травмы. Совершенно никакой травмы. Да, я сама подвела к тому, чтобы со мной так обошлись. Преступление только на мне… А те пять тысяч? – вдруг вспомнила она алеющую в темноте купюру, брошенную ей как будто из вспыхнувшего чувства вины или с целью запутать возможное следствие. – О, эти пять тысяч! Сколько в них моей ненависти… Двинуть эту пустоту ещё побольнее… Кажется, и платье это гадкое я напялила для того же… Да, самое страшное не изнасилование. Нет. Самое страшное – мусорка. Спасибо, боженька! Но тебя нет, как нет и меня, и этой глупой смешной ненависти!» Алиса плюхнулась на подушку, зарылась в неё и стала метаться из стороны в сторону с глухим стоном.
Девушка никак не могла понять: то ли она пытается себя убедить, что происходящее с ней страшнее изнасилования, то ли она прячется в уже известной ей боли от бесконечного ужаса изнасилования. Но, как бы то ни было, одна боль действительно влилась в другую, перемешалась с ней, и теперь мысль об одиночестве, об отсутствии Бога стала ещё более агрессивной. «Бога нет» разрывало Алису как мерзкое орудие.
Девушка скинула платье, надела неопрятный халат, который мечтала постирать несколько недель, но не находила в себе ни телесных, ни душевных сил. В конечном итоге эта грязная хламида стала орудием мщения самой себе. Алиса села за стол. Пока компьютер загружался, она нервозно скребла зубом пластинку ногтя. Наконец нужный ей файл открылся, и её пальцы стали судорожно носиться по клавиатуре, точно сама эта горячность, патетика, шум дарили ей облегчение и содержали в себе куда больше выплеска, чем смысл напечатанного. А смысл был таким:
«Игра в чикли губительна, – писала снова Алиса, – она не позволяет человеку тешить себя метафизическими сладостями типа личного Бога, любви, бессмертия души. Нет Бога. Нет любви. Нет бессмертия души, по крайней мере, твоей. Даже не знаю, как сказать точнее. Чикли – это усматривание в каждом шаге и чихе высшего, абсолютного, такой вот коллективной жизни, единой для всех души, фрагментом которой является любое «я» и шажочек этого «я»… При этом единство этой слитой души и её расщеплённость на фрагменты – это две конечные и недостижимые максимы, между которыми и происходит постоянная игра. Игра в чикли. Игра, результат которой невозможен. Бег. И я вот снова вспомнила Сашины слова про тройственность и про любовь… Эх, Саша! Как же он сказал? Боже, как же?.. Что-то вроде «если даже эти отражения способны любить, то не является ли это подтверждением существования любви». Но я, наверное, обманулась тем, что это говорил он. Я что-то никак не уловлю, не пойму, от меня, может, ускользает что-то важное. И на этой возможности ошибки держится моя жизнь».
Тут в квартиру, в которой, кроме Алисы, была сейчас только одна соседка, позвонили. Никто никого не ждал. Алиса открыла дверь и увидела то, что ожидала, то, что видела перед собой и всюду уже давно, – пустоту. А на полу лежал свиток газеты.
– Простите, это я! – услышала она молодой голос. – Мне хочется у вас кое-что спросить, – мужчина приятной наружности поднимался с коробкой конфет.
Алиса смотрела на него апатично. Она чувствовала, что теперь любое незнакомое мужское лицо, хоть и благообразное, будет напоминать ей жуткую ночь. Она зажмурилась с болью. Незнакомец что-то участливо спросил. Её соседка по квартире тем временем собралась и вышла. И Алиса хотела крикнуть: «Не уходи!» Но она боялась сцен. Как она объяснит, почему нельзя уходить?
А молодой человек уже звал её любезно в кафе, чтобы обсудить все в спокойствии. Вспомнив о вчерашнем кафе, Алиса выпалила:
– Мне нечего с вами обсуждать! – и потянулась захлопнуть дверь.
Незнакомец аккуратно придержал дверь и попросил пять минут. Он был спокоен. Казалось, ничего не произойдёт, если она ему откажет. И тут она призадумалась: а почему она должна скрывать то, что с ней сотворил клуб? Почему она должна бояться за репутацию её основателя? Почему должна врать, чтобы его обелить? Сколько ещё он потребует от неё жертв? По коже её пополз озноб. Подкатила дурнота. «Изнасилования не было! Я сама к нему подвела!» – завопила она внутри себя и вдруг накинула пальто, обулась и сказала:
– Ладно, поговорим в кафе.
Лишь бы хоть с кем-то говорить. О чём угодно. Лишь бы куда-то идти. Хоть куда. Она просто поговорит. Напротив, она закрепит ощущения, что члены клуба не чураются бесед. Они нормальные, вменяемые люди. Тем временем тот, кто представился Дмитрием, болтал: о собаке, о холодной весне, о том, что каждый человек втайне гордится своими странностями. Вот он, например, не может ходить в грязной обуви. Поэтому таскает с собой губку и тряпку.
Алиса его не слушала. Она чувствовала своё исполосованное нутро. «Разберись. Было ли тебе физически так больно, как кажется сейчас? Сколько минут это длилось?». И она вспоминала, что и как делал мохнатый мужик, когда она могла почувствовать острую и резкую боль. Упала на асфальт… Упала сама, так как споткнулась из-за каблуков. Вот он схватил ее за бедра. Страшно, но не сильно… А потом стало так больно. Как будто пронзило… Тогда было максимально больно. И ощущение безвыходности. А потом укусы…
А Дмитрий всё болтал, так и не спрашивая её ни о чём, угощая эклерами и чаем. И только когда со вкусностями было покончено, он протянул газету и сказал: «Очень хотелось бы, Алиса, услышать ваш комментарий».
Девушка быстро пробежала глазами.
– Это неправда. Чистая ложь, – отрезала Алиса.
– Я так и думал! – улыбнулся Дмитрий. – Но я вот кое-что другое знаю. Поэтому эта ложь скрывает и истинное, разве не так? – он говорил так твёрдо и уверённо, что у девушки потемнело в глазах. Она даже не успела сообразить, что ему неоткуда было узнать о примерке, о её личной примерке, потому как она никому о ней не рассказывала.
– Это я сама виновата! – начала оправдываться она. – Сама.
Ни один мускул не дрогнул в лице Дмитрия. Он делал вид, что понимает, о чём она.
– Нет, милая Алиса, уверяю вас, поверьте мне и другим, вы ни в чём не виноваты. Как раз вы не виноваты!
– Нет, он бы меня не схватил, он бы со мной так не обошелся, если бы не я… Я повод давала весь вечер… А он даже не зверствовал! – воскликнула она, вдруг осознала, что проговорилась, что этот незнакомый человек, наверное, журналист, может, вообще ничего и не знал.
У неё застучало в висках. Она схватила пальто и выскочила из кафе. Куда бежать? В клуб? Домой, где никого? К Саше? В полицию? И в уме её всплывало это чертово словечко: «игра». Алиса никак не могла отвязаться от двоякого ощущения: то ли она все время играла, даже сейчас, выбирая, куда ей податься, то ли вся трагедия была в том, что в её жизни уже не оставалось игры, ибо игра стала безгранична и неотделима от не-игры.
Недалеко от кафе находились два поля, где по субботам играли в софтбол, а сейчас носились школьники с мячом. Вспомнив о них, она уловила лёгкое облегчение. Вроде как нашла, куда ей податься. По крайней мере, ей захотелось просто сесть на траву и смотреть, как весело и бесшабашно кто-то бегает по полю, не ведая таких мук. И просидеть так хотя бы пару часов. И забыться.
Поле, трава, неистовые сорванцы оказались большой удачей – Алиса полностью отказалась от идеи идти в клуб.
А в него – как раз в этот момент – заявились два нежданных визитёра: лейтенант Семен Осипов и полковник Толстогубый Михаил Васильевич. И появились они благодаря стараниям Казанцева, его оскорблённым чувствам и идее о том, что есть благо, а что зло.
Молодой лейтенант Осипов, которого встретил в дверях клуба Айдаров, показал разрешение на обыск и молча принялся заглядывать под каждую маску и осматривать шкафы. Действовал он чётко и аккуратно: пошёл к мусорному баку, попросил выпотрошить на клеёнку его содержимое, поковырял какие-то трещинки меж плиток в ванной, простучал стены, никого ни о чём не спрашивая и не отвлекаясь на допрос, который проводил в это время полковник Толстогубый.
– Какие правила у этой игры? – спрашивал по десятому разу уже изрядно взвинченный Михаил Васильевич, которому становилось дурно от того, что дела нынче становились какими-то маревыми, и ясности уже никакой, только расплывчатое облако. Где состав преступления? Или его специально ввязали в эту муть, чтобы использовать неудачу и открыто предложить ему освободить место?
– Что значит «правило, что игры нет»?! – заводился полковник, и ему снова, кто любезно, кто не очень, предлагали энциклопедию в коленкоровом переплёте.
– Известно ли вам что-то о сексуальных домогательствах Андрея Макарьевича Шора к членам клуба? Принимала ли игра сексуальный характер?
– Нет ничего более сексуального, чем движение сознания. Считается, что сексуальное – прерогатива тела. Это, разумеется, не так, – отвечал спокойно Елагин.
– Разумеется, шеф, – хитро ухмылялась Лидия, одной своей томной позой и внешностью усиливая подозрения, – в противном случае что бы эти люди здесь делали?
– Как это понимать?! – заводился и тёр голову Михаил Васильевич, давно перешагнувший пенсионный возраст и боявшийся, что отстал от времени.
– Имеется в виду та безличная сексуальность, которая пронизывает все. Речь идёт об энергии. Коитусов в клубе не было, – строго прибавлял Айдаров, заставляя старого полковника пыхтеть от напряжения: «Черт возьми! Что такое коитус?! Попрошу вас без всяких этих модных словечек! По существу!»