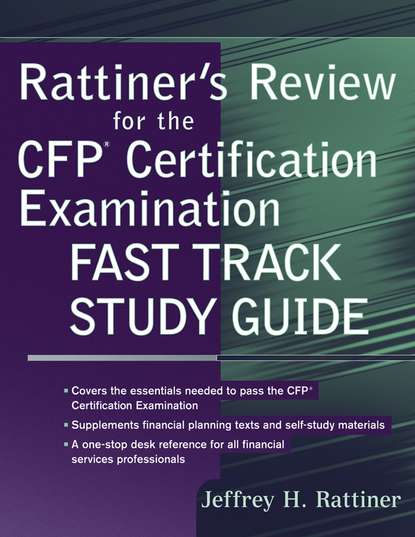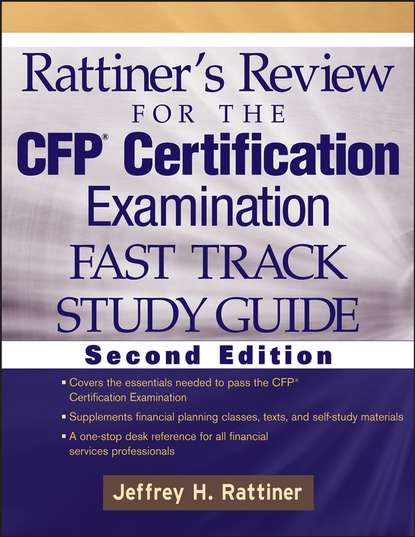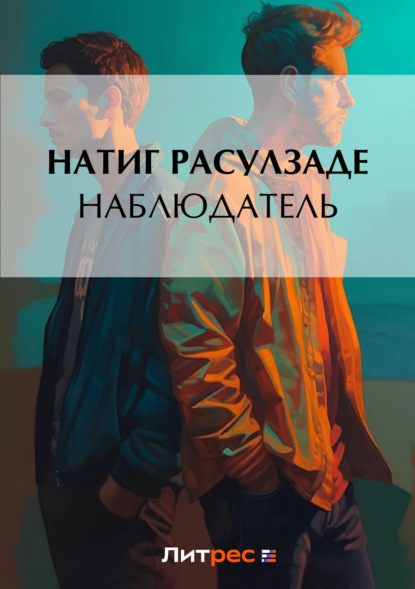Дневник командующего
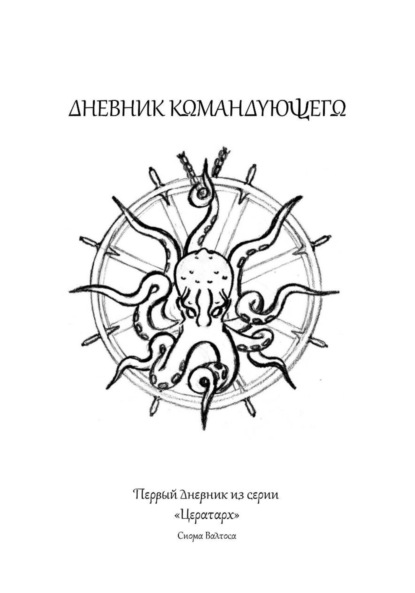
- -
- 100%
- +
После того, как последний наш солдат пересек мост, мы могли бы облегченно выдохнуть, но дыхание нам перехватило еще на три дня преследования с постоянными столкновениями в хвосте. Нам приходилось меняться, чтобы дать передышку замыкающим. Преследовали конница и тигритерия поочередно, посыпая то дротиками, то призывами сдаваться и сложить оружие. Отряды цератерии замыкали наш караван. Вчерашним днем, когда мой отряд был в хвосте, завязалось очередное столкновение. Опьяненный своим, никем не замеченным, триумфом в лесу, я было хотел показать и этим усатым-полосатым кто здесь главный, только быстро опомнился, ощутив, как вязнет тяжелый цератос в мокрой черной земле. Хорошо, что получилось просто отбиться, поочередно сменяя последнего в строю на дороге. Сегодня они уже не сунутся. Даже большими силами. Иначе получат армию, размазанную по полю. Хорошему твердому полю. Они это прекрасно понимают. Им есть куда отойти для того, чтобы переждать холодные дни и, практически уверен, они так и сделают. Нам, наконец, немного повезло, причем весьма парадоксальным образом – землю подморозило.
12 день Гериона 1806 года
Руки мерзнут и слегка трясутся. Пальцы будто медуза облизала. Запись будет не длинной… В целом идем очень бодро в последние дни. Во время движения не так сильно чувствуется холод. Жаль только, что не выходит много дней подряд идти без сна и отдыха. Иногда все же приходится останавливаться и в эти моменты меня начинает лихорадочно колотить. Я пытаюсь расслабить тело, чтобы остановить эту дрожь. Выходит далеко не сразу и не всегда. Диметрий любит шутить, что холод – это свой вид удовольствия, как термы, только наоборот. Это одна из самых безобидных его шуток, но раздражает она меня, почему-то, несоизмеримо сильнее предыдущих. Снег иногда сменяется на дождь и тогда толща сугроба покрывается острой ледяной коркой. Цератосам, наверняка, неприятно, но их кожа толстая, а вот люди и лошади режут ноги об эту корку. И все же я больше боюсь за Валеоса и других ребят. Еще несколько дней такого холода и они начнут падать.
16 день Гериона 1806 года
Оттепель. Она должна была наступить, и она не подвела. Спасительная оттепель. Идем на юг полями. Снова растянулись длинной колонной, чтобы не месить грязь, а идти по протоптанной дороге. Теперь даже пролески встречаются гораздо реже и засад можно не бояться. В этих землях уже вполне могут повстречаться табуны кочевников, но встреча с ними нам была бы скорее на руку, чем во вред.
У меня была небольшая кожаная непромокаемая сумка для хранения грамот. В ней в разное время хранились грамоты о звании, о награждениях, приказы и некоторые заметки на память. Пока стоим на ночлеге я перешил и проклеил эту сумку. Сделал ее побольше, чтобы помещалась и книга и грамоты. Теперь можно не бояться, что они намокнут во время дождя или переправы.
18 день Гериона 1806 года
После долгих месяцев скитаний по лесам и пролескам глаза никак не нарадуются, оглядывая чистый и пустой горизонт. Земля оттаяла, немного прогрелась и подсохла. В таких полях и цератерия может хорошо разбежаться, армы не застрянут и не перевернутся, и фалангитам с гастафетами удобно перестраиваться и контролировать ход сражения. Только вот, как назло, никто не нападает! И едва ли уже когда-то станет. Все теперь грамотные и стратегически подкованные. А ведь когда-то это было признаком благородного тона: не прятаться по кустам, рвам и башням, а гордо выйти в поле, встать лицом к лицу, фаланга на фалангу, конница на конницу… и драться, пока одна из сторон не надломится и не побежит. Сурово, жестоко, кроваво! Зато все решается быстро, и сразу понятно кто победил. Современные войны давно не имели таких масштабных битв, после которых дым от погребальных костров застилает весь горизонт. Только если пересчитать все одиночные тела в пролесках, оврагах, рвах, на стенах и под стенами… то получится значительно больше. Плюс только в том, что никто не увидит эти тела все вместе разом и не ужаснется этому зрелищу. За наш северный поход одних только фалангитов мы потеряли несколько тысяч. Всегда понемногу: там пара, там десяток, там полсотни… Были бы наши потери меньше, если бы нам удалось навязать противнику одно большое решающее сражение? Не сомневаюсь, они были бы гораздо ниже. Но за долгие месяцы у нас ни разу не получилось в полной мере развернуть фалангу и принять кого-нибудь на копья. Не осталось на севере дурней, готовых с голым пузом и горячим воплем бежать на лес длинных копий-сарисс, равно как и тех, кто готов выходить в чистое поле и быть растоптанным цератерией. Фаланга давно превратилась в мобильную искусственную стену, через которую не особо кто стремиться прорваться, и поэтому за ней так удобно прятаться стрелкам. А сами фалангиты стали универсальными воинами, готовыми при необходимости бросить свою длинную тяжелую сариссу и взяться за лопату, либо за короткий меч. От былой фаланги осталось лишь слово. Не припомню, чтобы лично хоть раз видел, как фаланга выставляет свои сариссы и идет вперед на построения врага, либо как принимает на себя напор вражеской конницы. С лопатами видел их сотни и тысячи раз. Несколько раз с кровью на мече. С кровью на копьях – ни единожды. Когда-то фаланга была воплощением ходячей неприступности. Подойти к ней без потерь было невозможно: острый лес из наклонившихся и слегка покачивающихся вершин был непроходим, пока вражеские воины не укрывали острия своими телами. Враги нанизывались на сариссы, словно куски мяса на шпажки. Сегодня фалангиты еще носят с собой свои длинные копья, но скорее по привычке. Думаю, не за горами тот день, когда они выбросят их и оставят при себе лишь лопату, короткий меч, и какой-нибудь скорозарядный гастафет.

22 день Гериона 1806 года
До боли однообразные поля вокруг уже который день. Писать особо нечего. В такие дни голову охватывают воспоминания. Я часто вспоминаю годы обучения. Особенно те дни, когда мы ходили на лекции в другие университеты. Таких дней было не много в общей череде, но они всегда были разнообразными и запоминающимися. В университете Аполлона нам рассказывали о врачевании и учили оказывать первую помощь больным и раненым. В университете Гефеста нам показывали, как отливают металл, делают железные детали, инструменты и оружие, учили самостоятельно латать доспехи. В университете Посейдона рассказывали о кораблестроении и морском деле. В университете Зевса посвящали в тонкости экономики и государственного управления. В университете Деметры нам дали общие представления об агрономии. В университете Артемиды нас учили, как работает селекция, как правильно заботится о животных, как их воспитывать, учить, лечить, наказывать и поощрять. В университет Афины нас водили лишь однажды. Просто ради культурного обогащения. Показать, как делают архитектурные чертежи, как отливают скульптуры и лепят горшки, как пишут картины. Уже после я стал часто заглядывать туда. По собственной инициативе.
Я заметил, что годы обучения я вспоминаю с большей ностальгией, нежели детские годы. А еще я заметил, что как будто бы специально подвожу себя к этим воспоминаниям чтобы, якобы ненароком, заодно вспомнить и о ней… Специально думать о ней не могу. Отгоняю эти мысли. Стыдно. Мне стыдно перед ней, за свои слова и поступки. Мне ведь казалось тогда, что я – предел мечтаний любой девы. Молодой, статный, подающий надежды, с хорошими знаниями и поощрительными грамотами за успехи в учебе. Когда я проходил по дорогам в предместьях Прометеи верхом на Валеосе, мне казалось, что все девические глаза с восхищением смотрят только на меня. Это опьяняло. Вел себя соответствующе. Зачем бережно и вежливо относиться к деве, если есть целая очередь из других, готовых выцарапывать глаза за такого статного мужа? Гадес! Как бы мне хотелось вернуться года на три-четыре назад, подойти к самому себе и отвесить размашистую затрещину! Хорошей встряской сбить планку самомнения, с уровня грязи из-под ногтя, которая мнит себя Одиссеем с мышцами Геракла, примерно до уровня грязевого червя, поджав хвост уползающего по полям от жгучих морозов и острых когтей, с маленькой снежинкой на память, в качестве трофея, адекватно оценивающего свое положение. Обязательно найду ее, хотя-бы для того, чтобы извиниться. Обязательно найду силы, чтобы признать свои ошибки. Вслух. Боюсь только вернувшись застать ее с дитем на руках. Она хотела детей. И не обещала, что будет ждать.
Интересно, если я благополучно вернусь в родные края и снова начну ловить эти восхищенные взгляды, не накроет ли меня обратно этой пеленой самомнения? Нельзя исключать… Нужно будет обязательно открыть эту книгу и перечитать эту запись, в таком случае.
24 день Гериона 1806 года
Сегодня в полуденное время на нашем пути возникла конница с красно-зелеными знаменами. Таких я ранее не встречал. Ведущий конницу обозначил мирные намерения и сказал, что готов зачитать грамоту своего царя в присутствии стратега и всех командующих. Еще одно новшество! Обычно грамоты вручают или зачитывают стратегу, а он уже решает, делиться этой информацией или нет. Новшества на этом только начинались, ведь из первой грамоты мы с удивлением услышали о провозглашении независимого Фасианского царства, к границам которого мы как раз приблизились. Из второй грамоты следовало, что нашей армии предоставляется единоразовое право беспрепятственного прохода по территории царства для участия нашего командования в переговорном процессе.
Как мы вообще пропустили создание целого царства?! И не где-нибудь, а в границах нашей родной, незыблемой империи. И не где-нибудь на задворках, а в одной из самых оживленных ее частей. Я предполагал, что рано или поздно найдутся желающие воспользоваться этим разладом, но чтобы так быстро! Пока что это больше похоже на чью-то злую шутку или умело спланированную провокацию, нежели на правду. Тем не менее, стратег отдал команду спокойно следовать за сопровождающими.
28 день Гериона 1806 года
По дороге встречаются хорошо укрепленные форпосты. Потребуется много людей и механизмов, если кто-то захочет без приглашения пройти по этим дорогам с севера. Известно, что нас сопроводят по горным дорогам до самого Фасиана. Известно, что ударение в этом названии нужно делать на первый слог: один из сопровождающих пристыдил и поправил меня на этом. Неизвестно пока, что дальше. Сопроводят ли нас потом до южных границ?
Наблюдаю по дороге за экипировкой Фасианцев. Обратил внимание на усовершенствованный вид многозарядных Гастафетов. Защитные одежды тоже доработаны. Видно сколько мысли и труда в них вложено. Интересно, каким образом так быстро добрались до провинции эти технические новшества. С трудом верится, что фасианский университет Гефеста, действующий автономно, ушел на несколько ходов вперед по некоторым направлениям. Мое особое внимание привлекли их щиты. Тут потрудились не столько инженеры, сколько художники или скульпторы. Не знаю, каковы они в бою, но выглядят впечатляюще.

2 день Аполлониона 1806 года
После нескольких дней перехода по узким горным дорогам мы, наконец, вышли к побережью. С этой стороны горной цепи гораздо теплее. Сочно-зеленая трава, густая листва на деревьях. Похоже, мы дошли до тех широт, где природа не обращает внимания на календарь.
После выхода на прибрежную равнину узкая, отсыпанная мелкой галькой, дорога стала широкой, мощеной тесаным камнем. Там же нас ждал неожиданно щедрый подарок от фасианского царя – десять телег с фруктами и другой провизией. Половина из которых были с горкой засыпаны виноградом. Солдаты несколько раз акцентировали на том, что подарок безвозмездный. Приятно. Особенно Валеосу. Виноградом он тоже хрустит с удовольствием. Мне, как правило, достаются только кислые усики. Я вижу, как ему приятно, когда он съедает свою порцию, а потом обнаруживает, что я приберег для него еще и свою. Я попробовал несколько виноградин. Сладкие. Но видеть радость в глазах малыша мне нравится больше.
5 день Аполлониона 1806 года
Вот и он! Фасиан. Визирь лично встречал нас у городских ворот. Не с ключом, конечно, но со слишком уж показным гостеприимством. Визирь – это первый помощник Фасианского правителя. Любезно предложил остаться на зимовку. Он это всерьез? Или это можно счесть за проявление учтивости? В расчете на наш, столь же вежливый, отказ. В любом случае, стратег пока ничем не ответил на это предложение. Приказал расположиться в предоставленных местах и ждать дальнейших распоряжений. Ох уж эта восточная учтивость! Что с ней делать? Расслабиться, отдыхать и получать удовольствие? Или держать руки по ближе к узде и аргеаде?
Восток всегда был самой многоэтнической частью империи. Дорийцы составляют в ней лишь немногим более трети от общего населения. В крупных городах это соотношение обратное. Чем ближе к столице, тем больше доля дорийского населения, и наоборот, чем дальше к границам империи, тем ощутимее культурное разнообразие. Именно это разнообразие, вкупе со сложностью управления из-за больших расстояний, в свое время значительно замедлило продвижение границ империи. Еще в первом тысячелетии стратеги разрабатывали план подчинения всего мега-континента в течении тридцати лет с последующим освоением и второго, западного континента. Но пыл был остановлен расчетами прагматичных советников императора. Они убедили императора и сенат, что это может оказаться губительным для империи. "Наш континент – это чудовищно огромный и дико разнообразный пирог. Если жадничать и пытаться слишком спешно заглатывать его большими кусками, то ты либо подавишься, либо лопнешь от переедания. Лучше разделить его на маленькие кусочки и есть постепенно, не приступая к следующему пока не переварится и не даст плоды предыдущий" – думаю, как-то так объясняли свою идею императору Филиппу Шестому его советники девять с половиной столетий назад.
И все же с этим уголком империи что-то явно пошло не по плану… Он не окраинный, он относительно близок к столичным землям, он не выделяется чем-то особенным среди других провинций. Он немного изолированней, чем другие регионы. Тем не менее тут давно проложены хорошие, широкие дороги через перевалы, а город Фасиан вовсе портовый, и связан морским сообщением со столицей и другими крупными городами севера.
7 день Аполлониона 1806 года
Напряженность понемногу сменяется расслабленностью и умиротворением. Стратег тоже достаточно быстро размяк: снял строгий запрет на выход из расположения лагеря, а это означает, что можно, под свою ответственность, выбираться для прогулок по городу. Прошелся. Перебросился парой слов с горожанами. Понаблюдал за речью, лицами, одеждами, постройками, порядками…
Фасиан – исконно дорийский, некогда, город, неожиданно давший название целому мультикультурному царству. Царству, где дорийцы оказались отнюдь не на ведущих ролях. Строго говоря, есть целых два города Фасиана: Старый Фасиан, и новый, лежащий в полутора днях пути к югу. Старый Фасиан утратил свое былое значение после появления нового и остался небольшим поселением на побережье, точкой сбыта урожая ближайших земледельцев. Новый имеет более благоприятное стратегическое положение, стал центром развития ремесел, мануфактур, университетов и стал точкой притяжения всего региона. Оба города некогда были заселены только дорийцами. Со временем все поменялось. Я кое-что слышал про воинственные племена Ари и Хаянов. В основном то, что они много веков воевали между собой. Как до вхождения в состав империи, так и после. Они занимали обширные пространства от Колких гор на севере до Хаянских нагорий на юге. Как по мне это абсолютно один и тот же народ. С трудом могу найти внешние отличия, но все же, если внимательно приглядеться, то они есть. В основном, это бровные дуги: у Хаянов они более острые и выразительные, чем у Ари. Империя столетиями не обращала внимания на их войны. Не обратила внимания и на их перемирие. А следовало бы!
Результат этого перемирия я вижу сегодня в виде очень развитого и густонаселенного города, центра целого нового царства. Похоже, что Ари и Хаяны, много поколений искавшие точки соприкосновения, все-таки нашли такую точку. Ей стал дорийский город Фасиан! Тут была их нейтральная зона. Место, где они спокойно торговали между собой, договаривались, учились. Поколениями и те и другие стекались в город и вскоре составили в нем большинство. И те и другие хорошо выучили дорийский, и позаимствовали много обычаев и традиций из дорийской культуры. Вместе с тем и дорийцы, живущие тут, тоже заметно востокизировались. Заметно это по одеждам, бородам, поведению и речи. Получилась эдакая новая смешанная культура, которая взяла в качестве своего названия имя города, помирившего их, а затем и вовсе крепко связавшего. У этой смешанной культуры заметно исказился и язык. Я с трудом понимаю здешнее наречие – так много в нем непонятных мне слов и окончаний, по всей видимости, заимствованных из языков Ари и Хаянов.
После непродолжительной беседы с торговцем чернил я спросил его из какой он народности. Он гордо сообщил мне, что является коренным фасианцем – сыном Ари и Хаянки, также, как и их великий визирь. Великий визирь! Да он здесь куда более популярен, чем царь! За три дня пребывания я ни разу не слышал имени царя. Зато визирь всплывает в разговорах регулярно. Имя его я запомнил плохо. Патваканий или Павтаканий… или Паткаваний. Говорят, что он из семьи обычного ремесленника, учился в местном университете Гефеста, затем еще несколько лет в столичном университете Зевса, а своего положения добился исключительно собственным умом и упорством.
С удивлением узнал от того же торговца, что Фасианская провинция была первой в истории империи, которая из провинции главенства имперского права обратно превратилась в автономную провинцию с самоуправлением, и случилось это уже почти сорок лет назад. Странно, что я совершенно ничего об этом не слышал. Но я-то просто праздный любитель истории и географии. А вот почему столичные сенаторы никак не отреагировали на такое? Может, стоило хотя-бы спросить кого и чего не устраивало? Многие другие автономные провинции стремятся попасть в имперское правовое поле. Я всегда считал, что уровень достатка, образования и медицины значительно выше в таких провинциях, чем в автономных. Выше ли теперь уровень достатка у жителей Фасиана? Сложно сказать. Заметил, что тут больше блестящих украшений на пальцах и шеях. В остальном, все примерно также как в прочих дорийских городах. Можно ли считать это показателем достатка? Сомневаюсь. Если бы была возможность понаблюдать за тем, как живут люди в глубинке этой провинции… то есть независимого царства, будь оно не ладно, то картина была бы более объективной.
9 день Аполлониона 1806 года
Как же хорошо и спокойно. Жители Фасиана, к моему большому удивлению, оказывают куда более искреннее гостеприимство, чем их визирь. Я не уловил никаких намеков враждебности на лицах, по крайней мере у большинства людей. На севере недружелюбные взгляды, порой были слишком уж очевидны, хотя, северяне и в мирное время, наверняка, не слишком улыбчивы. На улицах города, можно встретить торговцев, практически из любой окраины империи, а также из царств за ее пределами. Нашими животными тут тоже никого не удивить. Попадаются лошади и камели всех мастей. Проходят элефанты. Повстречался богатый вельможа на небольшом цератосе, богато наряженном блестящими тряпками и камнями. Видел даже элафиса! Для полного впечатления о всех прирученных боевых монстрах империи не хватает только другой грозы из краев Мерас Аидес.
Возможно, я слишком мнительный, но мне не очень нравится только то, что расселение наших соединений несколько разрозненно по городу и окраинам. Цератерия стоит отдельно на южных окраинах. Пешие отряды в северо-западной части города. Кавалерия и гвардия стратега почти в центре, ближе к царскому дворцу. Стратег просил дать нам возможность расположиться подальше от города, но единым лагерем. Визирь твердо сказал, что Фасиан и вся его округа очень плотно заселена и засеяна, и нет возможности выделить такой большой участок земли, на котором могла бы разместиться вся наша большая армия. Не такая уж и большая, к слову. Визирь также намекнул, на обиду правителя, если пренебречь гостеприимством, что было бы плохим началом для построения дружеских взаимоотношений. Тяжело будет вести скоординированную оборону, если у нас будет внезапное нападение с моря. Северяне могут быть не в курсе, что тут, оказывается, независимое царство, которое ними в мирных отношениях. Быть может в этом и есть расчет визиря? При нападении мы будем вынуждены оборонять город целиком, вместе с Фасианцами.
После обеда нам напомнили, что визирь собирается провести переговоры. О чем? Каков смысл этих переговоров? Они ведь не могут носить официальный характер. Сенат не передавал стратегу полномочий на ведение мирных или каких-либо еще переговоров. Что может являться предметом и результатом этих переговоров? Зачем они визирю?
Переговорный процесс запланирован на вторую половину последней декады Аполлониона. Это означает, что у нас еще целые полторы декады для отдыха и неспешных наблюдений за здешним бытом.
10 день Аполлониона 1806 года
Сегодня случился, поистине, конфуз всех времен и народов. На припасенные пару серебряных решил порадовать себя и друга. Для него набрал три огромные корзины разного рода фруктов. Себе же выбрал черноволосую деву с пышными ресницами. Она почти не говорила на дорийском, да и целый серебряный это, на мой взгляд, дороговато, но ее сопровождающий заверил меня, что за этот серебряный она будет целый час нежно втирать масла в мою спину, ноги и руки. Блаженство… Я успел мысленно представить широкую и безлюдную тропу в свой элизиум. Мышцы начали расслабляться. И как только я стал погружаться в состояние на грани сна и мирского удовольствия, она просто взяла и ушла. Просто собрала все свои масла и ушла! На мой взгляд, прошло от силы три-четыре децима. Я долго лежал и думал: "Может масла кончились, или за свечой ароматической решила сходить, или по нужде захотела, в конце концов. С кем не бывает?". Но время шло, а она все не возвращалась. С одной стороны, расслабленность была такая, что невыносимых усилий стоило пошевелить даже крайней фалангой мизинца. С другой стороны, дело принципа: оплачен час, а не прошло даже и половины… Встал. Оделся. Нашел сопровождающего. Завязался спор. Он начал объяснять мне что-то про древнюю систему исчисления часов и минут. Я был уверен, что он морочит мне голову, чтобы отвязаться и не возвращать деньги. И часы у него плутовские, с отсыпанным песком. Так и сказал ему. На что он дико возмутился и приставил кулак к моему носу. Возможно, я плохо разобрал его последние слова, слишком уж специфичный диалект, но, по-моему, он любезно просил сломать ему нос, используя его же кулак. Просьбу я выполнил… На крики сбежались стражники. Я излучал спокойствие и непоколебимую уверенность в собственной правоте. Именно поэтому, полагаю, они решили, для начала, расспросить о причинах конфликта.
Центурион городской стражи выслушал обе стороны, очень сильно стараясь сдерживаться от насмешек. Затем велел идти за ним. Он привел меня в часовую башню и наглядно показал: "Вот две одинаковые песчаные колбы. В одной из них песка на дорийский час, в другой на наш. Видишь разницу? В нашей родной горной провинции никогда не перенимали вашу деци-кратную часовую систему. У нас все также, как и тысячелетия назад, 24 часа в сутках, в одном часе 60 минут, а в одной минуте 60 секунд." И тут я оцепенел, на какое-то время… Пытался это осмыслить в уме, но понял, что мне нужна моя книга, чтобы записать, посчитать и не запутаться. По дороге сюда выторговал у местного ремесленника колбу на одну минуту. Достал прибереженную среди круп в кармане у Валеоса колбу на один децим и пока делал эту запись, переворачивал местную минутную колбу. За один децим их минутная колба пересыпалась полных 14 раз, и еще один чуть менее, чем наполовину. Перепроверил дважды. Ладно… то, что их минута не сходится с обычной человеческой, я вижу наглядно. Но почему разница почти в полтора раза? Часов в сутках 24 вместо 10. Значит час отличается в 2,4 раза. А в минуте не 100 секунд, а 60. Значит минута должна отличаться в одну целую и 2/3 раза. Почему по замерам она отличается в одну целую и 4/10 раза??? Аааа… Пристрели меня Парис!!!
Хрупкая колба оказалась… Ха! Минута пролетела за секунду и разбилась об стул! Ладно. Спокойно. По порядку. Начиная с секунд. В добром, логичном и понятном мне мире 10 секунд (сек) = 1 децисекунда (дцс); 10 децисекунд = 1 минута (мин); 10 минут = 1 дециминута (дцм); 10 дециминут = 1 час (час); 10 часов = 1 сутки. Итого в сутках 100000 секунд. Мы почти не пользуемся децисекундами, да и секунды в обычной жизни нужны не часто. Обычно в обиходе колбы на час, децим и минуту, но если кому-то очень уж хочется точно записать время, то можно написать, скажем: «Солнечное затмение случилось сегодня в 6.4.7.2.9.», и астрономы сразу точно будут знать – на какой секунде этих суток произошло явление. А если нужно просто обозначить время ужина, то достаточно всего одной или двух цифр: «приходи в 7.5». Это подразумевает: «Приходи примерно в 75000-ую секунду наших замечательных, ровно 100000-но секундных суток». И что они имеют вместо этого? 60 секунд = 1 минута; 60 минут = 1 час; 24 часа = 1 сутки. Итого… 86400 секунд в сутках? Получается, что их секунда примерно на 1 целую и 1/7 длиннее нашей. Ну и на кой вам такая длинная секунда? Видимо, специально для мучений вместо расчетов, когда пол минуты это не 50 секунд, а 30; когда четверть часа это не 25 минут, а 15… Из-за разницы в длине секунды наша 100-секундная минута действительно получается длиннее местной всего в одну целую и 4/10 раза, что совпадает с моими замерами. Ясно… Не ясно только одно: из какой древней скрижали вы взяли эти цифры??? Может как-то неверно расшифровали клинопись на ветхом папирусе? Где вы были, когда даже самые упертые автономные провинции перешли на понятную и удобную для расчетов деци-кратную систему мер. Зачем? Зачем так усложнять себе жизнь? Зачем терпеть такую ерунду, только из-за того, что кто-то умный, для своего времени, пару-тройку тысяч лет назад так придумал и "Мы так привыкли". Привычка меняется за месяц, а мучиться из-за неудобства этой ерунды всю жизнь. Какой же абсурд… Может вы еще и длину в ступнях царя измеряете?!