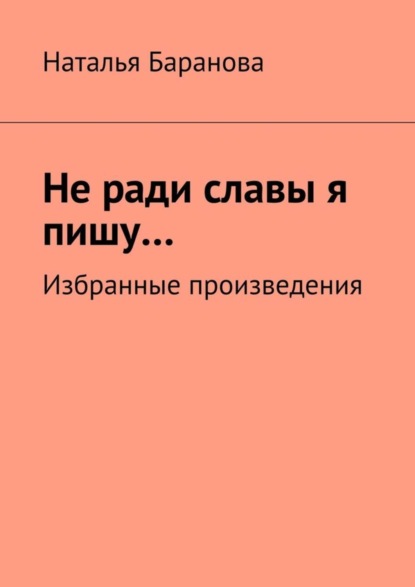Михаил Скопин-Шуйский. Великий Мечник России

- -
- 100%
- +
Молодой князь был облачён в долгополый кафтан из тёмно-зелёного сукна, подбитый соболем – не роскошный, но добротный, как пристало боярскому отроку, не желающему вызывать зависть. Высокий горлатный ворот плотно обхватывал шею, на поясе висела сабля в чёрных ножнах, окованных серебром – оружие не для парадов, а для дела, с клинком, унаследованным от деда, воеводы времён Ивана Грозного. Волосы были подстрижены по московской моде – в скобку, открывая высокий лоб, а серые глаза, казалось, впитывали каждую деталь окружающего мира: резные наличники дверных косяков, тусклый блеск слюдяных окошек, настороженные лица стрельцов у входа в приёмную залу.
– Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский! – гулко возвестил дьяк, стоявший у дверей, и его голос прокатился под высокими сводами, отразился от стен, украшенных фресками с ликами святых и сценами библейских битв.
Михаил вошёл в приёмную палату. Здесь было теплее – в двух углах пылали массивные печи, облицованные изразцами с изображениями львов и единорогов, но воздух был густ и тяжёл от запаха воска церковных свечей, ладана и чего-то ещё – едва уловимого, но неприятного, словно примеси тревоги и недоверия, которыми была пропитана атмосфера годуновского двора. У окна, сквозь которое с трудом пробивался серый зимний свет, стоял сам государь Борис Фёдорович.
Царь был облачён в тяжёлую парчовую ризу, расшитую жемчугом и золотыми нитями, на голове – высокая шапка Мономаха, но даже под этим великолепием угадывалась усталость, оседлавшая его широкие плечи. Лицо Годунова – крупное, с тяжёлыми скулами и пронзительными карими глазами – казалось высеченным из камня, но в уголках глаз залегли мелкие морщины, а рот был сжат в тонкую линию, выдававшую постоянное напряжение. Он не повернулся к вошедшему, продолжая смотреть в окно, где за кружевом инея угадывались очертания заснеженного Соборного двора и темневших вдали боярских хором.
– Приближися, княже, – молвил государь, не обращаясь ликом, и глас его был глух, аки из недр каменной пещеры исходящий. – Не бойся. Мы зубы не кажем… доколе.
Михаил приблизился, соблюдая почтительное расстояние, и склонился в поклоне, опустив правую руку к груди в традиционном московском жесте покорности. Он чувствовал на себе взгляды других присутствующих: боярина Семёна Годунова, племянника царя, чьё лицо напоминало хорька – узкое, с маленькими глазками и постоянной кривоватой усмешкой; князя Василия Голицына, старого воеводы, стоявшего у стены с видом человека, давно научившегося не выдавать своих мыслей; дьяка Богдана Бельского, чьи руки, испачканные чернилами, вечно перебирали листы бумаги, словно искали в них спасение от окружающей неопределённости.
– Государь всея Руси, аз пришел, дабы послужити тебе верою и правдою, яко же служиша прежде мене родичи мои, – рече Михаил, и глас его зазвучал твержее, нежели он чаял. – Род Шуйских искони стоял на страже царства Московского.
Годунов медленно повернулся, и его тяжёлый взгляд уперся в молодого князя. Несколько мгновений царь молчал, изучая его, словно пытался заглянуть в самую душу, оценить, насколько искренни эти слова, насколько можно доверять этому юноше, в чьих жилах течёт кровь древнего рода, претендовавшего на престол ещё до восхождения Годуновых.
– Верою и правдою, – повтори государь, и в гласе его послышалась горькая насмешка. – Лепо глаголеши, княже. Но ведаешь ли, колико людей вещаша сии слова пред нами, а после обращахуся ножом в хребет? Дмитрий Иванович Шуйский, дядя твой, такожде присягал в верности… а мы после обретохом его посреди мятежников в Угличе. Память наша долга есть.
Лицо Михаила оставалось бесстрастным, но в глубине серых глаз мелькнула искра – не гнева, а непреклонной решимости. Он знал об этом эпизоде, знал, как сложно роду Шуйских балансировать на краю пропасти в эти смутные времена, когда каждый боярский род пытается сохранить своё влияние, не вызывая подозрений венценосца, взошедшего на трон не по праву рождения.
– Государь, не за деяния сродников моих ответ держу, – сказал Михаил ровно, но в словесах его слышалась стальная нотка. – Токмо за себя самого ответствую. И клянуся пред Господем и святыми угодниками: доколе сердце моё биется, буду служити царству Московскому. Не тебе единолично, государь, ни роду Годуновых – но Руси, народу её и вере православной. И аще служба сия согласна будет с волею твоею – стало быть, тако Господу угодно.
В палате воцарилась напряжённая тишина. Семён Годунов хмыкнул, явно недовольный дерзостью молодого Шуйского, но старый Голицын едва заметно кивнул – в его глазах мелькнуло уважение к юноше, осмелившемуся говорить правду в лицо государю. Дьяк Бельский застыл, перестав шуршать бумагами, и впился взглядом в царя, ожидая его реакции.
Борис Годунов долго смотрел на Михаила, и в его лице боролись противоречивые чувства: гнев от непокорности, уважение к смелости, подозрение и… что-то ещё, возможно, даже печаль. Наконец, царь медленно кивнул, и его губы тронула едва заметная улыбка – не тёплая, но признающая.
– Добре рекл еси, княже. Дерзко, обаче честно. Может статься, в сём и есть сила твоя. – Годунов прошёл к столу, на котором лежала карта Московского государства, испещрённая пометками и символами городов. – Мы дадим тебе поручение. Не велико пока, но важно зело. В Замоскворечье участишася разбои – либо воровские люди обнаглели, либо кто подстрекает их умышленно, дабы смуту сеяти. Ты поедешь тамо с отрядом стрельцов, порядок наведёшь. Разберёшь, кто за сим безобразием стоит. И нам самим донесёшь.
Михаил склонил голову в знак согласия. Он понимал: это испытание, проверка на прочность и благонадёжность. Если справится – получит доверие, пусть и зыбкое. Если провалится или, что хуже, найдёт связь с боярскими интригами против царя – его род может быть окончательно растоптан.
– Слушаю, государь. Когда выступати подобает?
– Нонече же, по обедне. – Годунов подошёл ближе, и Михаил почувствовал запах амбры и мускуса, которым была пропитана царская одежда. – И памятуй, княже: не враги мы тебе, доколе ты не станешь врагом нам. Служи Руси – но не забывай, кто ныне олицетворяет сию Русь. Ступай.
Михаил поклонился и вышел из палаты, чувствуя, как напряжение постепенно отступает, уступая место холодной решимости. За спиной слышался негромкий голос Семёна Годунова:
– Государь, не излишне ли ты уповаешь на сего щенка? Шуйские искони…
– Молчи, – пресёк его царь, и дальнейшие слова утонули в шорохе тяжёлых одежд.
Замоскворечье встретило Михаила сумеречным холодом и запахом дыма от многочисленных печей, топившихся в низких избах. Здесь, за рекой, жизнь текла по-другому: не было парадного великолепия Кремля и Китай-города, зато была суровая правда простонародного бытия – грязные улицы, где снег смешивался с навозом и золой, кабаки с выцветшими вывесками, где по вечерам гудели пьяные голоса, полуразвалившиеся амбары, прислонившиеся друг к другу, словно старики, ищущие поддержки.
Отряд стрельцов – двадцать человек под командованием опытного десятника Ивана Змеева – сопровождал Михаила. Змеев был крепко сбитым мужиком лет сорока, с лицом, изрезанным шрамами, и глазами, в которых светилась насмешливая мудрость человека, повидавшего многое и не питающего иллюзий насчёт людской природы. Он служил ещё при Иване Грозном, пережил опричнину, походы, и теперь смотрел на юного князя с любопытством, смешанным с лёгким скепсисом.
– Ну что, боярич, – молвил Змеев, когда они остановились у небольшой площади, где стоял обветшалый крест и несколько нищих просили милостыню, – тут дело вроде не мудрёно: ловим воров, вешаем на воротех, государю докладываем. Токмо воры сии больно дерзки. Не боятся ни стрельцов, ни кнута. Стало быть, кто-то их покрывает. А кто именно – вот вопрос есть.
Михаил спешился, отдал поводья стрельцу и огляделся. Площадь была малолюдна – мороз и сумерки гнали людей по домам, но несколько фигур маячили у входа в кабак, поглядывая на вооружённый отряд с нескрываемой настороженностью. Молодой князь подошёл к одному из нищих – старику в рваной онуче, с трясущимися руками и провалившимися глазами.
– Старец честный, – негромко молвил Михаил, опустившись на корточки, чтобы оказаться на одном уровне с сидящим, – поведай ми, кой человек здеся безобразия чинит? Людей грабежом разоряет, дворы огнём попаляет?
Старик поднял на него мутный взгляд, и в нём мелькнул страх – не перед князем, а перед чем-то иным, невидимым и страшным.
– Не вем, государь, не вем… – забубнил он, отворачиваясь. – Ничтоже не вем о сём. Остави мя.
Михаил достал из-за пояса кошель, вытащил несколько медных денег и положил в дрожащую руку старика.
– Не сотворю ти обиды, старче. Но потреба ми есть правда услышати. Аще молчиши – убо страхом одержим еси. А аще страхом одержим – знать, беда близко стоит.
Старик сжал деньги, покосился на стрельцов, потом наклонился к Михаилу и прохрипел, едва шевеля губами:
– Сказуют… сказуют, яко царевич во животе пребывает. Димитрий Иоаннович, сын грозного царя. Яко не преставися он во Угличе, но спасён бысть. И яко вскоре приидет, да престол свой наследный возвратит. А покамест люди его по градам ходят, мятеж меж народом сеют. Кой не верует – тому главу отсекают. Сего ради молчу, господине мой. Молчу.
Михаил почувствовал, как холод, не имеющий отношения к зимнему морозу, прополз по спине. Слухи о чудесном спасении царевича Дмитрия, младшего сына Ивана Грозного, якобы убитого в Угличе в 1591 году, ходили по Руси уже несколько лет. Но если раньше это были лишь шёпотом передаваемые сплетни, то теперь они обретали зловещую конкретность, превращались в орудие для подрыва власти Годунова.
– Благодарствую ти, дедушко, – тихо молвил Михаил, поднимаясь. Он вернулся к Змееву, и лицо его было сосредоточенным, словно он пытался сложить воедино разрозненные куски какой-то невидимой мозаики. – Иване Петровичу, собери ратников. Нам лепо есть кабак посетити. Тихо, без шума. И внимай прилежно, что тамо молвят.
Змеев ухмыльнулся, обнажив щербатые зубы.
– Се дело любо ми есть, княже. В кабаке всегда правда наружу исходит – вино языки развязует.
Они вошли в кабак небольшой группой, оставив остальных стрельцов снаружи. Внутри было душно и накурено – в углу на железном треножнике коптила лучина, отбрасывая дрожащие тени на закопчённые стены. За длинным столом сидели несколько мужиков в засаленных зипунах, перед ними стояли кубки с мутным пивом. Разговор мгновенно стих, когда в дверях появился Михаил в боярском кафтане и со стрельцами за спиной.
– Пийте, люди добрии, пийте, – негромко молвил Змеев, усаживаясь за стол и бросив на доски несколько монет. – И нам налей, кабатчик. Меду али пива, елико в наличии имеется.
Кабатчик – тощий мужик с длинным носом и бегающими глазами – торопливо принялся разливать напиток. Михаил сел рядом со Змеевым, внимательно наблюдая за посетителями. Один из мужиков – широкоплечий, с густой бородой и шрамом через всю щёку – бросил на него тяжёлый взгляд, полный недоверия.
– Коея ради вины бояре в наш угол пожаловаша? – проворчал он, не отрывая рук от кубка. – Али паки подати драти явишася?
– Не подати, друже, – спокойно отвечал Михаил, отпив из своего кубка. Пиво было кислое и тёплое, но он не поморщился. – Порядок чинити пришедохом. Сказуют, яко здеся татие промышляют. Дворы огнём попаляют, людей грабежом разоряют. Ты часом не веси, кой за симь стоит?
Бородач хмыкнул и отвернулся, но Михаил заметил, как дрогнули его пальцы, сжимающие кубок. Змеев, сидевший рядом, медленно положил руку на рукоять ножа, висевшего у пояса – жест непринуждённый, но красноречивый.
– Не ведаю аз ничегоже, – буркнул бородач. – И ведать не хощу. Живём смирно, никого не задеваем.
– Дивно, – задумчиво протянул Михаил. – Дедушко на торгу молвил, что люди здеся страшатся. Страшатся тех, кто россказни про царевича Дмитрия распускает. Про то, что жив он якобы и вскоре приидет. Ты разве не слыхивал таких россказней?
В кабаке повисла тяжёлая тишина. Бородач медленно повернул голову, и в его глазах полыхнуло что-то опасное – смесь страха и ярости.
– А ты, княже, не боишься, что язык твой до беды тя доведёт? – тихо сказал он. – Суть вещи, о коих лучше вслух не баять. Годунов не навеки. А народ помнит, кто истый наследник престола.
– Истый наследник? – Михаил наклонился вперёд, и его серые глаза стали холодными, как лёд на Москве-реке. – Царевич Дмитрий Иванович преставися в Угличе в лето 7099-е от сотворения мира. Сие установлено сыском, который вёл дядя мой, князь Василий Шуйский. Тело его обретено бысть, матерь его, царица Мария Нагая, опознала его. Всё, что инако молвится, – ложь и крамола. И те, кто сию ложь распространяют, – супостаты Московского царства.
Бородач резко поднялся, опрокинув скамью. Его рука метнулась к поясу, где висел большой нож, но Змеев был быстрее – в мгновение ока он оказался рядом, приставив остриё своего ножа к горлу мужика.
– Тише, тише, приятель, – ласково проворчал старый стрелец. – Не дёргайся. А то ненароком дыру в шее учиню, и беседовать станешь уж в геенне огненной.
Остальные посетители кабака замерли, не смея пошевелиться. Михаил медленно встал, обошёл стол и остановился перед бородачом, глядя ему прямо в глаза.
– Аз дам тебе выбор, – негромко сказал молодой князь. – Либо ты сейчас поведаешь мне, кто людей подговаривает, кто россказни про самозванца распространяет, либо утре на заре повешен будешь на градских вратах аки смутьян и бунтовщик. Выбирай борзо.
Бородач тяжело дышал, его глаза метались, словно ища выход, но Змеев неумолимо давил ножом, и тонкая струйка крови потекла по шее мужика. Наконец, он сдался.
– Сказывают… сказывают, что в Литву бояре гонцов посылают, – выдавил он сквозь зубы. – Что тамо некий Дмитрий объявися, который царевичем себя нарицает. Что ляхи его поддерживают. А здеся, в Москве, кто-то ему почву готовит. Кто имянно – не ведаю, Богом клянусь! Но люди верят. Устали от Годунова. Перемен хотят.
Михаил отступил на шаг, и его лицо было бесстрастным, но внутри клокотала тревога. Он понимал: если эти слухи правда, если действительно в Литве появился некто, выдающий себя за погибшего царевича, то Русь стоит на пороге страшной беды. Смуты, которая может разорвать страну на части.
– Отпусти его, Иван Петрович, – сказал Михаил. Змеев неохотно убрал нож, и бородач, схватившись за шею, отшатнулся к стене. – Запомните, – обратился князь ко всем присутствующим, – кто станет ложь про самозванца распространять, тот ответ даст пред государевым судом. А кто донесёт о таковых смутьянах – мзду получит. Ступайте по домам. И мыслите главою своею, прежде нежели басням верить.
Выйдя из кабака, Михаил остановился на пороге, вдыхая морозный воздух. Над Замоскворечьем повисла глухая зимняя ночь, и где-то вдали завывал ветер, неся с собой снежную пыль. Змеев подошёл к нему, вытирая нож о край кафтана.
– Ну что, княже, донесёшь государю? – спросил он, и в его голосе слышалась усмешка. – Молвишь, что здеся вся сволочь в воскресшего царевича верует?
Михаил долго молчал, глядя на огоньки, мерцающие в окнах изб. Он думал о том, что эти простые люди, замёрзшие, голодные, уставшие от неурожаев и поборов, готовы поверить в любую сказку, обещающую им лучшую жизнь. И что боярская верхушка, интригуя и борясь за власть, готова использовать эту веру в своих целях, не задумываясь о последствиях.
– Донесу, – наконец сказал он тихо. – Но не всё. Годунов и без того ведает, что народ недоволен. А вот про гонцов в Литву… сие надобно проверить. Иван Петрович, заутра с рассвета начнём расспросы. Тихонько, без шума. Сыщем тех, кто с сими россказнями связан. И тогда уж станем докладывать.
Змеев кивнул с одобрением.
– Умно, княже. Может статься, из тебя и впрямь толковый воевода выйдет. Пойдём, ночлег сыщем. А то замёрзнем на сем ветру, аки дураки.
Они двинулись в сторону казарм, оставляя позади притихшее Замоскворечье. Михаил оглянулся на кабак, где в окошке мелькнула тень, и почувствовал, как тревога, холодная и липкая, обвивает его сердце.
Несколько дней спустя Михаил Васильевич вновь предстал перед царём Борисом Годуновым. На этот раз встреча проходила в меньшей палате, где царь принимал доклады о текущих делах. Здесь было тесно и накурено – несколько бояр, дьяки, стольники толпились у столов, заваленных грамотами и челобитными. Годунов сидел в резном кресле, обитом малиновым бархатом, и его лицо было утомлённым, словно на его плечи навалился непосильный груз.
– Ну что, княже, – сказал царь, когда Михаил вошёл и поклонился, – сыскал ли татей тех?
– Сыскал, государь, – спокойно ответствовал Михаил. – И повелел троих на вратех повесить, якоже изволил еси. Но не в татьбе дело то. В речах лукавых кои они меж народом сеяли.
Годунов нахмурился, и его пальцы, украшенные перстнями, сжались в кулак.
– Какие речи?
– О том, государь, что царевич Дмитрий Иванович жив есть. Что скрывается он в Литве и готовится вернутися за престол свой. Люд верует в сии речи, государь. И кто-то нарочито их подымает.
В палате воцарилась тишина. Бояре переглянулись, дьяки застыли с перьями над бумагами. Годунов медленно поднялся с кресла и подошёл к окну, за которым медленно падал снег, укрывая Москву белым саваном.
– Ведомо нам о речах сих, – тихо молвил царь, не оборачиваясь. – Ведомо издавна. И знаем, откуда они идут. Литва, Ляхия – супостаты наши всегда выжидали часа, дабы ударить. А ныне обрели способ: самозванца поставить, дать ему рать и наустить на нас. Простой люд поверует – он всегда верует в чудеса сказочные. А бояре… – Годунов обернулся, и в очах его полыхнул гнев. – Бояре станут выжидать, кто одолеет, дабы к сильнейшему приклонитися.
Михаил молчал, понимая, что царь глаголет горькую истину. Боярская знать Московского царства редко отличалась единством – каждый род тянул одеяло на себя, каждый искал выгоды, и лояльность измерялась не верностью престолу, а личной выгодой.
Глава 4: Присягнувший Руси
Москва в ту весну задыхалась от слухов, словно от чумного мора. По улицам и переулкам, от Китай-города до Замоскворечья, от боярских палат до последних лачуг на посаде, неслось одно имя – Дмитрий. Царевич, погибший четырнадцать лет назад в Угличе от ножа убийц или от собственной руки в припадке падучей, воскрес – так утверждали гонцы, принёсшие весть о том, что с польской границы движется войско под хоругвями Рюриковичей.
Апрельское солнце, едва пробившееся сквозь свинцовые облака, освещало улицы, где грязь от недавней распутицы ещё не просохла до конца. В воздухе стоял тяжёлый запах навоза, прелой соломы и тревоги – той особенной тревоги, что исходит от толпы, не знающей, плакать ей или радоваться. У Лобного места на Красной площади собирались кучки народа, перешёптывались, крестились, озирались – как бы не схватили годуновские стрельцы за крамольное слово.
– Сказывают, знамения царские на телеси его имеются, – бормотал старик в залатанном зипуне, придерживая рукой шапку-треух. – Матушка-де, царица Марья Нагая, сама признала чадо своё кровное во плоти…
– Господь милостив бысть! – вторила ему баба в платке, закрывавшем половину лица. – Той воскресе, яко Лазарь четверодневный! Борис-царь губитель есть, а сей – избавитель наш!
Стрельцы, стоявшие поодаль у кремлёвских ворот, молчали, но по их лицам – угрюмым, словно высеченным из камня – было видно: и они колеблются. Служить Годуновым было делом привычным, но не делом душевным. Борис Фёдорович умер неделю назад – схватила его какая-то болезнь скоропостижная, кровь горлом хлынула, и не стало царя, что правил твёрдой рукой, но без любви народной. А теперь на престоле сидел сын его, Фёдор Борисович – юноша образованный, благонравный, но слабый, как тростник под ветром. Рядом с ним мать, царица Марья, да сестра, царевна Ксения, чья красота была притчей во языцех, но красота не спасала от беды, что надвигалась на Москву с юга.
В те дни, когда судьба столицы висела на волоске, в боярских теремах Кремля царила особая, напряжённая тишина. За массивными дубовыми дверями, в палатах, где пахло воском свечей и старинными иконами, собрались те, кому предстояло решать: покориться новому царю или попытаться удержать власть Годуновых, пока ещё тёплую, но уже ускользающую.
Князь Василий Иванович Шуйский, старый лис и проницательный интриган, стоял у окна, глядя на кремлёвскую площадь, где толпились стрельцы и посадские люди. Седая борода его, аккуратно подстриженная, лоснилась от благовоний, а глаза – небольшие, серые, цепкие, как у ястреба – не упускали ни одного движения внизу. Он был облачён в тёмный бархатный кафтан, отороченный соболем, а на поясе висела массивная золотая цепь – знак боярского достоинства. За его спиной, в углу палаты, молча стоял племянник, Михаил Васильевич Скопин-Шуйский.
Михаил не походил на дядю. Где Василий был сух и жилист, словно высушенный ветрами степей, там Михаил являл собой образ юношеской силы – широк в плечах, высок ростом, с кудрями, выбивающимися из-под шапки, и с глазами. Он молчал, слушая, как дядя вполголоса беседует с другими боярами – Голицыными, Мстиславскими, теми, кто ещё вчера клялись Годуновым в верности, а сегодня уже прикидывали, как бы не оказаться на проигравшей стороне.
– Дмитрий… – протянул кто-то из бояр, и в этом слове слышалось всё: и надежда, и страх, и недоверие. – Аще той есть истинный…
– Аще? – перебил Василий, не оборачиваясь. Голос его был тих, но в нём звучала сталь. – Аще глаголете? Вси мы ведаем, яко царевич Дмитрий Иванович мёртв бысть. Аз сам видех тело во Угличе. Аз сам свидетельствовах государю Борису Фёдоровичу, яко то бяше смерть от случая злощастного, от падучей немощи, а не от руки убийц. Аз – свидетель главный.
В палате воцарилась тишина. Кто-то кашлянул, кто-то перекрестился. Михаил почувствовал, как холод пробежал по спине. Он знал историю Углича – все знали, хотя говорили о ней шёпотом. Царевич Дмитрий, младший сын Ивана Грозного от последней, седьмой жены, был сослан в Углич вместе с матерью, Марьей Нагой, ещё при царе Фёдоре Иоанновиче. Там, в мае того года, мальчик погиб при загадочных обстоятельствах. Годунов послал Василия Шуйского разобраться. И Шуйский доложил: мальчик сам зарезался ножом во время припадка. Убийцы – выдумка чернь, которая в ярости растерзала нескольких невинных людей.
Но теперь, четырнадцать лет спустя, эта версия рассыпалась, как труха. Потому что с юга шёл человек, который называл себя тем самым Дмитрием – спасённым, чудом избежавшим смерти, возмужавшим в изгнании и готовым вернуть себе отцовский престол.
– И обаче, – продолжил Василий, наконец оборачиваясь к собравшимся, – люд верует. Рать верует. И стрельцы наши колеблются. А вера, господа бояре, – сила страшная есть. Крепчае пушек и пищалей.
– Что же сотворити подобает? – спросил князь Мстиславский, массивный мужчина с красным лицом, на котором проступали крупные капли пота. – Годуновых не удержати. Фёдор Борисович – отрок. Москва шатается, яко пьяный муж на святках.
Василий медленно прошёлся по палате, руки сложены за спиной. Шаги его были неспешны, словно он взвешивал каждое слово, каждую мысль.
– Сотворити? – переспросил он и усмехнулся – усмешка вышла кривой, неприятной. – Присягати новому государю. Что же ино?
Михаил вздрогнул. Он не мог сдержаться:
– Но, дядюшка… Вы же сами рекли, яко царевич мёртв! Како можно присягати самозванцу?
Василий обернулся к племяннику, и в его взгляде мелькнуло что-то – не гнев, но скорее сожаление.
– Михайло, – сказал он тихо, почти ласково, – ты млад еси. Ты ещё веруеши, яко в мире сём есть правда и лож, и меж ними – граница твёрдая. Но во области политики, голубчик, грани те размыты суть, яко берега реки во время разлития вод. Самозванец? Быти может. Но аще люд принял его за царя, аще рать идёт за ним, аще и мати его, царица Марья Нагая, признала его сыном своим – то, кто мы таковы, дабы прети Божию промыслу?
– То не промысл есть, – упрямо возразил Михаил, чувствуя, как щёки его горят. – То – прелесть и обман!
– Обман, иже спасёт Русь от междоусобства, – мягко, но твёрдо ответил Василий. – Или обман, иже погубит её. Время явит. Но доколе, племянниче, мы будем играти по правилам, яже нам дарованы суть.
Когда Дмитрий въехал в Москву 20 июня 1605 года, это был триумф, какого столица не видела со времён Ивана Грозного. День выдался ясным, жарким – солнце палило нещадно, и от мостовой исходил удушливый зной, но народ стекался к Кремлю тысячами. Колокола били во всех церквях – от Успенского собора до последней часовни на посаде, и гул их сливался в единый медный рёв, что, казалось, сотрясал сами небеса.
Василий Шуйский стоял в числе бояр, встречавших нового царя у Фроловских ворот. Рядом с ним – Михаил, в парадном кафтане из алого сукна, с золотым шитьём на груди, и шапке, украшенной жемчугом. Юноша держался прямо, но внутри него клокотало что-то тёмное, непонятное – стыд? Гнев? Или просто страх перед тем, что сейчас увидит?