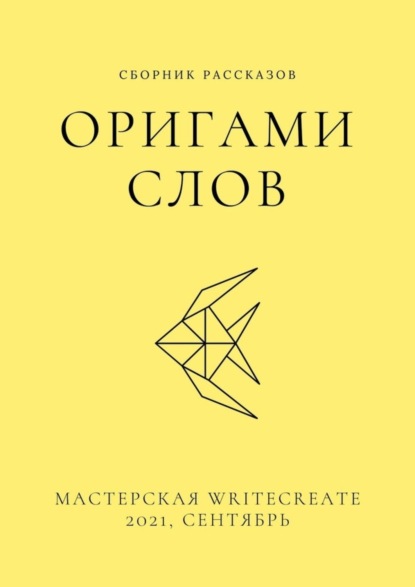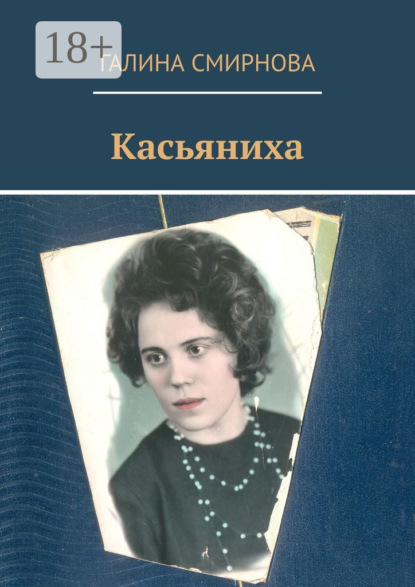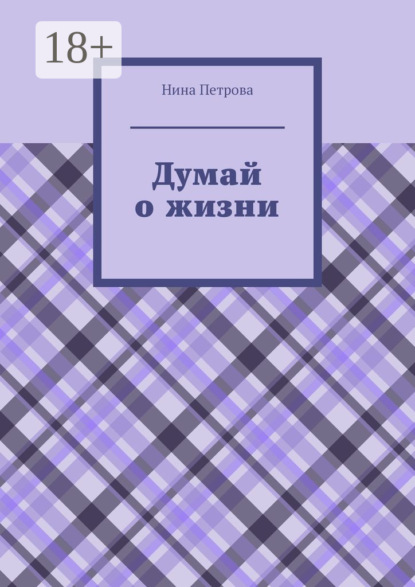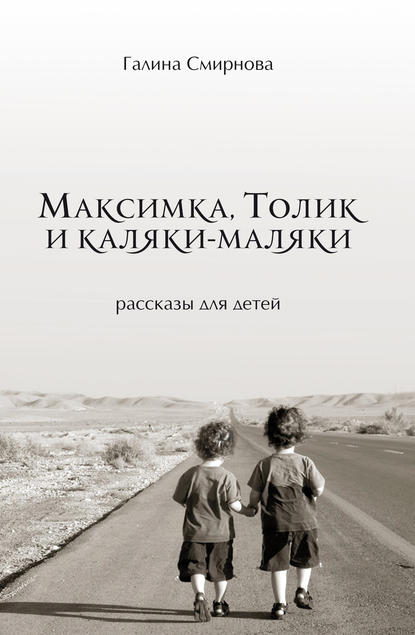Дорогами Пинтуриккио
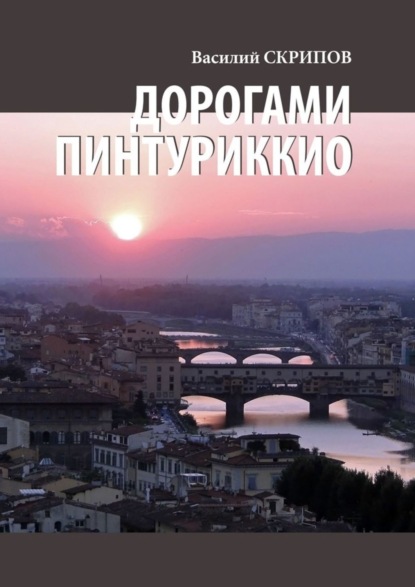
- -
- 100%
- +
Трудно забыть этот монастырь, эти простые, немного наивные, но исполненные с глубокой внутренней силой, фрески и картины. Это памятник на все времена, который создал один художник. И создал не для своей славы, а во имя Господа. Как писал Николай Гумилев в стихотворении, посвященном Фра Анджелико:
***
Ангельский брат. Так переводится церковное прозвище Фра Анджелико, с добавкой Беато (Блаженный). Его настоящее имя – Гвидо ди Пьетро, он родился в Муджелло, недалеко от Флоренции, около 1400 года. В 18 лет стал монахом в монастыре во Фьезоле и получил монашеское имя Джованни да Фьезоле. Юноша выполнял иллюстрации для церковных книг, и ему разрешали брать заказы для алтарей. Одним из первых стал алтарь для церкви Сан-Доменико во Фьезоле (1428), где он и начал свое послушание. Интересно, что потом, на склоне лет, он вновь вернулся в родной монастырь во Фьезоле – уже в качестве настоятеля…
Один из важнейших заказов у брата Джованни был связан с городом Кортона, где он жил и работал несколько лет в молодые годы.
***
Хотя мне довелось бывать в Кортоне незадолго до знакомства с фресками в Сан-Марко, но местная картина Фра Анджелико хорошо запомнилась. Это вновь «Благовещение» – одна из нескольких вариаций, вероятно, самая первая у этого художника, потому что датирована 1430 годом. Она находится в городском художественном музее.
Кортона – небольшой город на вершине крутого холма рядом с Ареццо. Высота около 500 метров над уровнем моря, но фишка в том, что и Ареццо, и окружающая местность находятся на равнине, потому так эффектно и царственно расположение Кортоны. Железнодорожная станция – внизу, и от нее до центра городка несколько километров ехать на автобусе.
Маленький город, но собственная гордость есть – не только художественный музей, но и музей Академии этрусков. Плюс несколько монастырей и крепость Медичи на самом верху, откуда открываются захватывающие дух панорамы. Здесь родились известные живописцы Возрождения Лука Синьорелли и Пьетро ди Кортона. Естественно, их картины тоже имеются в местном музее.
***
В Кортоне «Благовещение» Фра Анджелико похоже по композиции на флорентийский вариант, однако более интересно по цветовой палитре и по выразительности. Здесь мы видим, что архангел, обращающийся к Марии, изображен в позе более требовательной и решительной. Его указательный палец левой руки находится у губ, призывая к тишине и тайне, а другой рукой он указывает на Марию. Роскошные, переливающиеся красками крылья не умещаются в аркадах, где сидит удивленная Мария. Над ними – сияющий золотой голубь – символ Святого Духа. В углу картины, в глубине сада – маленькая сцена, где Адам и Ева изгоняются из Рая. Интересно, что в других вариантах у Фра Анджелико Адам с Евой отсутствуют, и похоже, к лучшему – не отвлекают внимание от главного на картине.
Оказалось, в церкви Джезу в той же Кортоне есть еще один вариант Благовещения – более аскетичный по цвету и композиции, похожий на ту сцену, что в монастыре Сан-Марко, где добавлен монах-доминиканец. Здесь ангел уже ничего не требует от Марии, а смиренно ждет ее решения, да и сама она олицетворяет раздумье и сосредоточенность, словно уже предвидит внутренним взором, все, что случится на ее веку – и рождение Иисуса, и его крестные муки, и воскрешение…
***
Солнце заходило над равниной на западе, в той стороне, где была Флоренция – от Кортоны туда можно доехать на машине меньше чем за час. Я поднимался по крутой улочке – и название у нее оказалось подходящее – Виа Кручиз – мимо монастырей и старинных домов, не тронутых войнами. На самой верхушке холма высились неуклюжие башни Фортецца Медичи, чуть ниже стоит храм Сан-Себастьяно, откуда выходили люди после вечерней службы. Отсюда открывался дивный вид на ближайшие городки и озеро Тразимено, немного заслоненное дальним холмом.
Творения Фра Анджелико трудно забыть – такую глубокую силу веры и просветления они несут в себе. Об этом писал Вазари:
«Фра Джованни был человеком большой простоты и святости в своем обхождении… Он был очень тихим и уравновешенным, живя целомудренно, вдали от всех мирских треволнений. Он часто повторял, что всякий, кто посвятил себя искусству, нуждается в покое и отсутствии забот, и что творящий дела Христовы, должен всегда пребывать со Христом… Все похвалы мои не могут воздать должного этому святому отцу, который был столь смиренен и кроток в своих поступках и рассуждениях, столь легок и благочестив в живописи, что писанные им святые имеют больше, чем у кого-либо другого, подобие блаженных. Некоторые утверждают, что брат Джованни никогда не брался за кисть, прежде не помолившись. И если он писал Распятие, слезы всякий раз струились по его щекам, доброта его искренней и великой души видна в облике и положении его фигур».
Это чувствуется в каждой картине Фра Анджелико. Может быть, строгий и серьезный облик ангелов имеет много общего с внутренним миром художника. Не случайно монах-живописец был канонизирован церковью как святой, и считается небесным покровителем всех художников.
Вот как передал свои впечатления от его картин поэт Константин Бальмонт:
Вот почему я каждый раз с особым чувством смотрю на профиль Фра Анджелико, выбитый на саркофаге в церкви Санта-Мария-сопра-Минерва, где он похоронен. Надеюсь, мне еще доведется оказаться вновь в Вечном городе и в этом храме…
Есть Бог, есть мир, они живут вовек,А жизнь людей мгновенна и убога,Но все в себе вмещает человек,Который любит мир и верит в Бога.Если б эта детская душаНашим грешным миром овладела,Мы совсем утратили бы тело,Мы бы, точно тени, чуть дыша,Встали у небесного предела…РАВЕННА. ВИЗАНТИЯ И ТЕОДОРИХ

С юных лет имя Равенны манило меня той мистической аурой, которой этот город был окутан благодаря стихам Блока:
Но причина моего посещения Равенны связана не только с Блоком. Невозможно в маршрутах по Италии пропустить Равенну – из-за редчайших римских и византийских мозаик V – VI века. Подумать только, в одном небольшом городе восемь хорошо сохранившихся храмов с древними мозаиками. Плюс могила Данте…
При Блоке, вероятно, Равенна действительно выглядела сонной и бренной, но сейчас, в XXI веке, я застал город оживленным и динамичным. На улицах многолюдно, магазины и кафе кишели посетителями, в музеях тоже хватало туристов.
***
Город небольшой, а жемчужины Византии расположены поблизости друг от друга (за исключением двух). Так что за день можно осмотреть все, что я и сделал. И вспоминал по пути зигзаги истории Римской империи, когда варвары нахлынули на полуостров, и в 402 году император Гонорий перенес столицу из Милана в Равенну, надеясь укрыться среди болот и лагун от нашествия.
Каждая мозаика – отдельная песня, но особенно запоминаются они в двух местах – храме Сан-Витале и мавзолее Галлы Плацидии, расположенных рядышком. Мавзолей возведен на век раньше храма – до 450 года, когда умерла Галла.
Судьба у этой женщины очень интересная – сестра императора Гонория, она попала в плен к вождю вестготов Алариху, захватившему Рим в 410 году. Ее насильно выдали замуж за Атаульфа, преемника вождя. Через пять лет тот умер, и Гонорий выкупил сестру. Однако в Равенне выдал ее замуж за своего полководца Констанция, ставшего вскоре соправителем императора. Когда Констанций в 425 году скончался, Галла Плацидия оказалась регентшей при своем малолетнем сыне Валентиниане, провозглашенном императором. И долго (около четверти века) правила Западной Римской империей, оставив о себе добрую память.
Мавзолей небольшой и совсем невзрачный на вид – простой кирпичный сарай, но такова была христианская традиция тогда – красота не снаружи, а внутри. Действительно, внутри отделка завораживает. Не роскошью, а простотой и впечатлением космической бесконечности. Это достигается благодаря густой синеве мозаики на потолке, пересыпанной золотыми звездами. Это еще не Византия, а наследие римских катакомб. Оттуда же – непривычное в Византии изображение Христа как юного безбородого пастыря, окруженного овцами – символизирующими заблудших людей.
***
А покинув приземистый мавзолей и пройдя десятка три шагов, я вхожу в храм Сан-Витале, и тут же переношусь в другое измерение, иную империю – Византию. Это шестой век, время императора Юстиниана и царицы Феодоры, чьи мозаичные портреты украшают апсиду храма. Это уже Восточная Римская империя, когда Юстиниан, послав войско под командованием Велисария, захватил Равенну в 540 году и объединил Запад и Восток.
Долго я любовался в Сан-Витале переливом мозаик в лучах солнечного света, прорывавшимся через узкие окна. Магия византийских творений в Сан-Витале многократно описана в книгах Павла Муратова, Генри Мортона, в стихах Блока. А мне вспоминались тут мозаики храма Айя-София в Стамбуле (хотя масштабы Сан-Витале гораздо скромнее) и королевская капелла в соборе Ахена. Последняя появилась в германском городе не случайно – император Западной Римской империи Карл Великий был так поражен красотой Сан-Витале, когда завоевал Италию в VIII веке, что решил создать у себя на родине что-то подобное. Но повторить шедевр не получилось, хотя и подражание смотрится интересно.
***
Осмотрев мозаики во всех семи храмах, я оставил на десерт мавзолей Теодориха. Он правил Равенной и Западной империей как раз в промежутке между Галлой Плацидией и Юстининаном. Его судьба уникальна тем, что он потомок варваров-остготов, обитавших возле Днепра и Крыма. То есть косвенно наш человек!
Он родился в Паннонии, а вырос и воспитывался в Константинополе, где принял христианство, усвоил и полюбил западную культуру. Когда его отец умер, Теодорих стал королем остготов и во главе войска отправился в Италию. В 493 году он завоевал Равенну, убил вождя варваров Одоакра, правившего здесь и постепенно захватил всю Западную Римскую империю, от Балкан до Пиренеев. Однако он признавал главенство Византии, подчиняясь императору.
Соединив в себе западную и восточную культуру и традиции, Теодорих царствовал 33 года. При нем империя жила вполне стабильно, а после его смерти быстренько развалилась…
Просвещенный варвар – так его называли… Теодорих продолжил византийскую традицию в культовых сооружениях Равенны. При нем и под его контролем была построена базилика Сант-Апполинаре-Нуово, посвященная Христу Спасителю. Также при его жизни в этом храме создан мозаичный комплекс, по стилю еще более приблизившийся к мозаикам Константинополя.
Любопытно, что среди изображений здесь есть портрет Теодориха в императорском облачении, но позже, при следующих правителях, эту мозаику изменили и назвали портретом Юстиниана. Как в императорском Риме, когда при новом тиране у статуи с лицом прежнего правителя отрубали голову и ставили другую…
На одном из сюжетов в этой базилике мы видим дворец Теодориха. В реальности дворец не сохранился, осталась только одна стена с арками. Современники писали, что дворец был украшен с византийской пышностью. На изображении дворца в центральной арке пустое пространство, а в оригинале там был сидящий на троне Теодорих. И этот портрет, значит, удалили…
А вот в своем мавзолее, который он начал строить на закате жизни, Теодорих не стал использовать мозаики и христианские символы. Получилось мощное и грубое здание круглой формы, типа крепостной башни, сразу наводящее мысли на варварское происхождение того, кто это здание задумал. Может, он и хотел оставить такое впечатление? Ведь всю жизнь Теодориха задевало нежелание римской аристократии признать его равным себе, их нескрываемое пренебрежение. Свой среди чужих, чужой среди своих…
Внутри мавзолея – голые каменные стены. Пустой саркофаг из бордового мрамора. Если и были здесь сокровища, то давно разграблены. Пропали и останки императора. Так проходит мирская слава. И все же свой след в истории Теодорих оставил. Не случайно его называли при жизни Великим. Павел Муратов писал: «Именно у гробницы Теодориха каждый путешественник ощущает ход веков…» Ощутил это и Блок:
***
Напоследок я посетил гробницу великого Данте. Как ни странно, здесь не оказалось ни одного туриста, кроме меня. Изгнанный из Флоренции, великий поэт нашел пристанище в Равенне, и не пожелал вернуться на родину даже после смерти. Отдельно стоящий маленький мавзолей оставляет ощущение бесприютности.
Почти нет посетителей и в расположенном рядом музее Данте. Только в соседнем храме Сан-Франческо заметно некоторое оживление – именно здесь долго находились останки Алигьери, а теперь любопытствующих более привлекает подземелье церкви, затопленное водой – это напоминает о том, что Равенна построена на болотах, и грунтовые воды до сих пор заполняют подвалы многих зданий. Кстати, причиной смерти Данте стали именно болота – он заболел малярией, возвращаясь в Равенну из Венеции, куда его посылали с городским посольством…
Завершаю эти строки Блоком. Ведь от него в Равенне никуда не денешься…
Все, что минутно, все, что бренно,похоронила ты в веках,ты как младенец, спишь, Равенна,у сонной вечности в руках…Безмолвны гробовые залы,Тенист и хладен их порог,Чтоб черный взор блаженной Галлы,Проснувшись, камня не прожег.Далеко отступило море,И розы оцепили вал,Чтоб спящий в гробе ТеодорихО буре жизни не мечтал…Лишь по ночам, склонясь к долинам,Ведя векам грядущим счет,Тень Данта с профилем орлинымО Новой Жизни мне поет…МОНАХИНЯ ИЗ АССИЗИ

От Перуджи, где я остановился, до Ассизи совсем недалеко – полчаса на электричке или автобусе. Но ходят те и другие редко. Вышло так, что туда я поехал утром на автобусе, а обратно вечером – поездом. Из-за этого и случилась моя встреча, если можно так сказать, с францисканской монахиней.
Конечно, в Ассизи я собрался из-за святого Франциска. Его личность и учение оставили глубокий след в истории религии и духовных поисков, поэтому интересны не только католикам, но и любому, кто в той или иной мере причастен вопросам веры. Но не в меньшей мере меня влекло сюда желание посмотреть грандиозную базилику Сан-Франческо, где святой покоится, расписанную лучшими художниками того времени – Джотто и Чимабуэ, Симоне Мартини и Пьетро Лоренцетти оставили в ней свои фрески…
Ассизи живописно расположился на склоне горы Монте Субазио, она такая высокая и мощная на фоне мягких умбрийских холмов, что кажется, будто городские здания и храмы, взбираясь наверх, как бы выдохлись и остановились на полпути. Базилика высится на краю горного склона, на огромной террасе, и привлекает взгляды издалека.
Именно здесь Франциск в XIII веке основал свой монастырь, где на личном примере проповедовал идею нищеты, любви к ближнему и единения с природой. А когда он умер, то монахи-францисканцы похоронили его тело в крипте, над которой возвели эту базилику с нижним и верхним храмами.
Мне подумалось, что идеи Святого Франциска и огромная помпезная церковь как-то не очень вяжутся друг с другом. Как и бесконечный туристический конвейер, организованный в Ассизи. Толпы посетителей, среди которых, наверное, большая часть – отнюдь не истинные паломники. Впрочем, сильно ли отличаюсь от них я сам?
***
Тем не менее в подземелье, у гробницы с мощами Святого Франциска, не только на меня, но на любого человека нисходит благоговение. И я мысленно помолился святому о простых вещах – о здоровье для родных, о благодарности за каждый божий день, о чуде жизни.
Полумрак. Свечи, которые нельзя зажечь – с электрическими лампочками. Коленопреклоненные люди у гробницы. За решеткой раки – фотографии детей и взрослых, оставленные паломниками…
Поднявшись из крипты в нижний храм, долго осматривал фрески. Солнце снаружи то уходило за облака, то снова озаряло базилику. И тогда росписи со святыми в золотых нимбах оживали и разгорались потусторонним сиянием. Особенно меня тронуло изображение Франциска, написанное Чимабуэ – там святой выглядит таким наивным и трогательным, искренним и немного смешным в своей лопоухости… Словно выходит как живой передо мною из тьмы веков.
Еще одно сильное впечатление в нижнем храме – «закатная» мадонна Лоренцетти. Вроде и просто, и примитивно (по сегодняшним меркам) написано, и так забавен узкоглазый лик, однако какая мистическая сила и святость исходит от этого образа! Мастерство и талант прорываются сквозь века и устаревшую технику…
А рядом – фреска, где Франциск проповедует птицам. Автор – безымянный Мастер Святого Франциска. Один из первых, расписывавших базилику, а вот его имя не сохранилось. Но мне подумалось, если есть жизнь там, в небесах, то безымянный художник не в претензии, что он без имени. Главное – что его творения сохранились за семь веков и до сих пор приковывают взоры множества людей.
В верхнем храме, сплошь расписанном Джотто и его учениками, просторно, светло и торжественно, но несколько холодновато (в духовном смысле). Да и творения Джотто здесь не так впечатляют, как в Падуе, в Капелле Скровеньи. Вполне возможно, что большинство сцен выполнял не сам маэстро, а его ученики по эскизам руководителя…
***
Облазил город, заглянул в маленькую картинную галерею, добрался до центра, где меня, как и Гете, восхитил античный Храм Минервы. Портик с шестью колоннами, небольшой и соразмерный человеческому масштабу, несмотря на возраст в две тысячи лет, хорошо сочетается с соседними зданиями, которые гораздо моложе. Я вспомнил, что гробница Франциска была облицована плитами травертина, взятыми как раз из храма Минервы.
Присел за столик в кафе у храма, чтобы передохнуть и выпить капучино. Мимо прошло несколько францисканских монахов в коричневых рясах и веревочных сандалиях. И словно исчезло ощущение времени – то ли первый век на дворе храма Минервы, то ли позднее средневековье, и сейчас за столик присядет святой Франциск и скажет: Спасибо тебе, брат Солнце, за прекрасный теплый день, спасибо тебе, сестра Жизнь, за каждое мгновение и ощущение вечности…
***
До вечера я успел забраться почти на самую верхушку горы, к подножию старой полуразрушенной крепости. Отсюда открывалась потрясающая панорама почти всей Умбрии, из-за жаркого дня задернутой дымкой испарений. И город со своими куполами и кампаниллами живописно раскинулся передо мной. Брат Солнце тихо уходил на покой, закатываясь прямо напротив моего наблюдательного пункта, на другом краю долины, окрашивая небо в пылающие карминно-малиновые тона.
Спасибо тебе, сестра Умбрия, за эти непередаваемо прекрасные мгновения… Спасибо тебе, брат Франциск, за то, что благодаря тебе я оказался здесь…
***
Когда я спустился вниз, уже смеркалось. Пора было ехать в Перуджу на ночлег. Однако на автобусы в этот час надежды было мало. А до станции железной дороги со склона горы надо было добираться на равнину несколько километров. Но я рассчитывал найти местный автобус, чтобы доехать до вокзала.
На одной из улочек увидел знак остановки автобуса «Фермата». Вот и хорошо. Там стоял старичок, и я решил на всякий случай уточнить, доеду ли отсюда до станции – «Стационе ферровиа». Спросил на своем великолепном итальянском. Дед, как ни странно, меня понял и начал объяснять, эмоционально жестикулируя. Я показал на уши: «глухой». Он видимо, повысил голос, потому что к нам подошла молодая женщина – монахиня.
Она была худенькая, высокая, довольно приятная на вид, в черном одеянии и с белым платком на голове. И в очках, как и я. Жестом пригласив меня следовать за ней, монахиня пошла на соседнюю улочку, немного спустилась вниз и остановилась у другой автобусной остановки.
«Спасибо! Грацие!». Я думал, что после этого моя вожатая пойдет своей дорогой. Однако она осталась со мной. Значит, попутчики. А вдруг она тоже едет в Перуджу? И даже остановилась в том же отеле? Вот будет интересно.
Я представился: «Василий. Россия». И дал ей блокнот с ручкой.
«Кlara. Belgium».
Тут как раз подошел автобус. Мы с Кларой вошли и купили билеты у водителя. А в салоне сидело несколько священников-мужчин, тоже в черных сутанах. Они дружно приветствовали мою спутницу, как старую знакомую. Клара оставила меня и оживленно заговорила с батюшками, то есть падре.
Через несколько остановок вся католическая компания высадилась на темной улочке. Сестра Клара, прежде чем выйти, знаком показала, что мне ехать до станции дальше. Я поблагодарил милую монахиню: «Грацие!»
И сейчас, в морозный январский день, глядя в окно на заснеженные подмосковные сосны, я вспоминаю эту встречу, эти незабываемые впечатления от Ассизи, базилики, фресок, от блужданий по городу и закатной нирваны у стен крепости и мысленно говорю: «Спасибо тебе, сестра Клара, за эту встречу, и пусть пошлют тебе Господь и Франциск многая лета»…
АРЕЦЦО. В ГОСТИ К ПЬЕРО ДЕЛЛА ФРАНЧЕСКА

С первого взгляда располагает к себе город Ареццо – своей заботой о туристах. Уже на пристанционной площади я обнаружил огромный стенд с подробной картой города и дальше на каждом углу – множество указателей с названиями достопримечательностей и музеев. «Налево пойдешь… Направо пойдешь… Прямо 100 метров…» Далеко не в каждом европейском городе встретишь такую удобную и наглядную навигацию.
Сюда я приехал из-за Пьеро делла Франческа – его фрескового цикла в монастыре Сан-Франческо (совпадение фамилии и названия храма, вероятно, не случайно). Великий художник жил в XV веке, а родился в городе Борго Сан-Сеполькро, неподалеку от Ареццо (куда я тоже планировал наведаться). За свою жизнь Пьеро работал и жил во многих городах Италии, но скончался в родном селении. Сохранилось не так уж много его произведений, а фрески в Ареццо – самое значительное его творение, и я ехал сюда с особым предвкушением – встречи с шедевром. К самому художнику у меня особое отношение – его картины производят на меня какое-то мистическое воздействие даже в иллюстрациях. Тем более хотелось постоять перед оригиналами.
Однако в городе оказалась целая куча других жемчужин истории и архитектуры. Главная изюминка – Пьяцца Гранде, необычная наклонная площадь на склоне холма. Здесь часто проводятся ярмарки антиквариата, и я попал сюда как раз в эти дни. Можно долго бродить среди столов с россыпями старых артефактов, но меня ждали музеи. С площади великолепно смотрится фасад романской церкви XII века Пьеве ди Санта-Мария с «башней сотни арок». Внутри впечатляет полиптих Пьетро Лоренцетти «Мадонна с младенцем и святыми».
***
В Ареццо родились поэт Франческо Петрарка и художник Джорджо Вазари, и я с интересом осмотрел их дома-музеи. В библиотеке дома Петрарки, где все комнаты уставлены шкафами с книгами, я вспомнил квартиру своего друга Ярослава Пичугина, тоже поэта, его жилище так же тонет в книгах (в хорошем смысле). А дом Вазари оказался сплошь – на стенах и потолках – покрыт фресками, написанными, естественно, хозяином. Вот плодовитый мастер – и в живописи, и в литературе (он более известен как автор «Жизнеописаний художников Возрождения», своих современников).
Кстати, в музее Дуомо я обнаружил выставку, посвященную 500-летию со дня рождения Вазари (родился в 1512 году). Много живописи и графики. Но большинство его полотен меня разочаровали – добротно, мастеровито, но без блеска гениальности, к тому же у него проблемы с пропорциями изображенных людей, а дети и мадонны выглядят какими-то неестественными. Лучше всего у Вазари получаются библейские старцы. Зато понравились на выставке картины других художников, особенно «Благовещение» Спинелло Аретино (1390).
В музее средневекового искусства сильно меня затронули работы мастеров Проторенессанса. Скульптуры и церковная утварь, детали соборов… Иконы XII – XIII веков – так близки к византийским традициям. Не случайно у Пьеро во фресках можно заметить намеки на возможное, но несостоявшееся примирение католичества и православия. Византийское влияние заметно и в картинах Пьетро Лоренцетти, Бернардо Дадди, Парри да Спинелло. Мадонны раскосые, в тогдашнем стиле, и оттого кажутся забавными и милыми. Вновь Спинелло Аретино, его «Троица» произвела глубокое впечатление. И опять разочаровали картины Вазари…
***
Наконец-то добрался и до базилики Сан-Франческо. Фрески Пьеро делла Франческа, цикл «История Животворящего Креста» в отдельной капелле, над которым он неспешно работал целых десять лет. Очевидно, что эта работа и сама история обретения Креста имела для художника очень важное значение.
Росписи можно увидеть прямо из церкви, издали охватить взглядом, но чтобы осмотреть вблизи, надо заплатить за билет. Оно того стоит. Замысел мастера и исполнение грандиозны. Жаль только что фрески местами плохо сохранились. Трещины, осыпавшиеся, выцветшие места. В некоторых фрагментах, в сцене смерти Адама и там, где Константин принимает Крест, утрачены большие куски росписи.