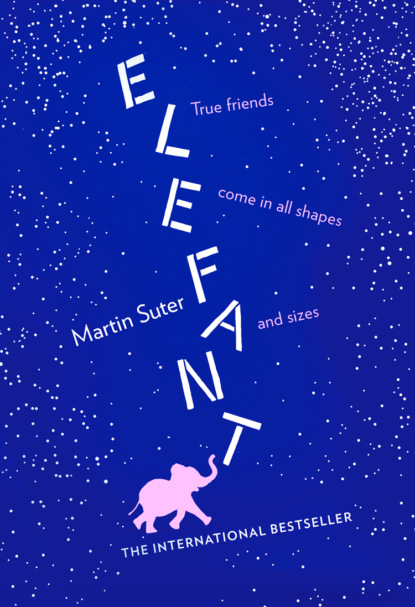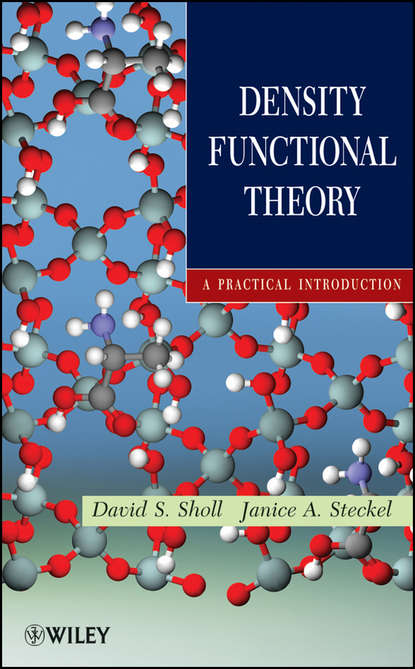Все хорошие люди, или Рыльце в пушку
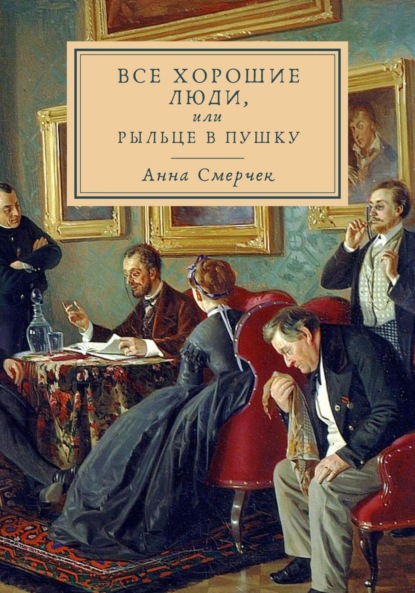
- -
- 100%
- +
– Простоту исполнения! – журналист аж взвизгнул от восторга. – Бесценное сокровище нашего города оказалось украдено! И каким, позвольте спросить, способом? Да проще простого! Я заметил разбитое стекло на первом этаже, прямо рядом с дверью, за колонной. Надо полагать, ни дворник, мирно проспавший всю ночь, ни городовой, которому вменяется в обязанности присматривать за порядком, делая обходы, так и не приметили до самого утра этого разбитого окна. Что ж, никем не остановленный, злоумышленник, прокрался на второй этаж по столь музыкально скрипящей лестнице, со звоном разбил стекло витрины и, вытащив все до единого золотые предметы, отбыл восвояси тем же, надо полагать, путем. Где же был, позволю себе спросить, ночной сторож? Где же был городовой? Где был дворник? Неужели никто ничего не слышал и не видел? Это же просто скандал!
– Да, удивительно, как легко оказывается организовать и провернуть кражу… – задумчиво проговорил Иван Никитич и тут же спохватился, не сказал ли лишнего. Но из всех присутствующих только Тойво посмотрел на него долгим задумчивым взглядом. Василий Никандрович медленно развернулся, сделал пару шагов и встал прямо перед журналистом. Ивлин был на полголовы выше пристава, но выглядел сейчас довольно слабо, стоя перед этим крепко сбитым, широким в кости, наделенном множеством серьезных полномочий полицейским чином. Иван Никитич зачем-то без всякого удовольствия представил себе, как пристав уверенным движением поднимает тяжелую руку и коротким точным движением бьет журналиста по лицу. Но вместо этого Василий Никандрович вдруг обернулся к стоящим чуть в стороне Ивану Никитичу и Тойво и подмигнул им. Потом он снова обернулся к журналисту и сухо уточнил:
– Так вы полагаете, господин Ивлин, что полиция бездействовала? Собираетесь поместить в «Золотоболотинском листке» сенсационное разоблачение: музей-де простоял с выбитыми стеклами до утра, а грабитель добежал уже, должно быть, до самой границы?
Ивлин слушал полицейского пристава с настороженным лицом, выражение самоуверенности слетело с него, он уже чуял здесь какой-то подвох. Василий Никандрович ещё несколько мгновений смотрел, прищурившись, на журналиста, потом развернулся и заговорил, теперь уже подчеркнуто не обращая на него внимания и вышагивая по залу:
– Окно первого этажа позади колонны, надо признать, было выбрано с умыслом: таким образом, чтобы с улицы было неприметно. Но несмотря на это, ночной сторож – вопреки предположениям господина журналиста – выполняя предписанный инструкцией ночной обход, заметил непорядок. Он ясно показал, что в два часа пополуночи все окна были целы и заперты, а в четыре утра одно стекло на первом этаже оказалось разбито. Преступник выбрал, надо понимать, самое темное время суток для своего преступления. Сторож принялся свистеть в свисток, вызывая городового, а по прибытии оного, отправил его уведомить меня, сам же в соответствии с инструкцией остался караулить на улице. Никого подозрительного он за это время не увидел. Прибыв незамедлительно и убедившись, что окно выбито таким образом, что через получившееся отверстие в музей мог бы проникнуть злоумышленник, я счел своим долгом осмотреть здание изнутри. Послали городового к Вайскопфам: их дом прямо по соседству, но ключа от музейных дверей у них не оказалось. Пришлось бежать к директору музея, а он довольно далеко живет. Времени терять не хотелось, но музейную дверь ломать не решились. Стерегли только окна: вдруг воры еще оставались в здании и попытались бы бежать. Когда городовой прибыл в сопровождении директора, мы тотчас отперли двери и, оставив городового дежурить на улице, осмотрели все залы. Мы обнаружили вот эту витрину разбитой, других следов грабежа нами обнаружено не было.
Пристав остановился на середине зала, оглядел всех присутствующих и, выдержав торжественную паузу, продолжил:
– Уведомив о похищении золотых предметов всех, кого должен был, я безотлагательно приступил к опросу свидетелей. И к тому времени, как вы, господа, проснулись и позавтракали, я уже установил личность грабителя.
– Как?! Уже?! – воскликнули хором писатель, художник и журналист.
– Задачка оказалась из простых, – лицо Василия Никандровича светилось от удовольствия. – Не забывайте, господа, что в полиции работают профессионалы. У нас наметанный глаз и присутствует некоторый опыт. Преступник, особенно вор – он, в отличие от разбойника-грабителя или от душегуба – как правило, человек слабый, трусливый…
– Нет, отчего же? Чтобы проникнуть в чужие владения определенно требуется некоторая смелость! – вскинулся Купря, но тут же прикусил себе язык.
– А вы, Иван Никитич, стало быть, полагаете, будто для того, чтобы среди ночи тайно влезть в чужой дом, требуется много мужества? – Василий Никандрович не спеша прохаживался по музейному залу, заложив руки за спину и поскрипывая на паркете до блеска начищенными сапогами. – Нет, господин писатель, отнюдь не отвага тут потребна, а глупость и недальновидность. Воры – это люди мелкого нрава, обманщики, себялюбцы.
Иван Никитич стоял, потупив глаза. Мельком взглянув в поисках поддержки на Тойво, он увидел на сдержанном спокойном лице друга легкую ухмылку.
Глава 3,
в которой появляется первый подозреваемый
На лестнице раздались торопливые шаги и взволнованные голоса, и вот уже в центральный музейный зал вошли несколько человек. Двое городовых, причем один незнакомый, видимо, присланный уже из Петербурга, удерживали за руки молодого человека, которого Купря тоже раньше никогда не видел. Вокруг них, забегая то справа, то слева возмущенно суетилась невысокая, подвижная шатенка – дама лет сорока, одетая по последней моде. Пышные выше локтя рукава её элегантного платья трепетали при каждом порывистом движении, напоминая крылья птицы, согнанной с гнезда. Тонкая талия гнулась, как камыш под порывами злого ветра. Невесомая шляпка на высоко взбитых волосах держалась просто каким-то чудом. Купря даже поймал себя на непроизвольном движении, которым хотел подхватить подвижную даму, чтобы не дать ей то ли упасть, то ли напротив взлететь к потолку.
– Амалия Витальевна, позвольте, не волнуйтесь так! – проговорил пристав таким тоном, как будто они продолжали недавно начатый разговор. Впрочем, тут же выяснилось, что так оно и было, потому что супруга отставного полковника Вайскопфа резко развернулась на своих маленьких каблучках к полицейскому приставу, гневно посмотрела на него широко распахнутыми глазами и горячо заговорила:
– Василий Никандрович, я просто не нахожу слов! Неужели кому-то пришло в голову столь нелепое предположение, будто Ипполит Григорьевич может быть в чем-то виновен! В каком свете вы заставляете его видеть Золотоболотинск! Я повторяю вам: это педагог с громким именем! Это дарование!
Иван Никитич принялся с интересом разглядывать «дарование». Это был молодой человек лет тридцати трех, может, тридцати пяти. Полноватая, рыхлая фигура, легкая сутулость и очки с тяжелыми линзами выдавали в нем человека малоподвижного образа жизни, а новый, с иголочки, впрочем, совсем не щегольской, а просто добротный костюм, позволяли думать, что молодой человек, действительно, достиг некоторых успехов на избранном им поприще. Что это за поприще было нетрудно догадаться: Амалия Вайскопф по приезде в Золотоболтинск возглавила попечительский совет города по делам образования. Под её чуткой рукой и гимназия, и училище засияли небывалым до той поры блеском. Благодаря петербургским связям, Амалия Витальевна отремонтировала учебные классы, приобрела новейшее оборудование, приглашала каждый год хороших учителей и неустанно хлопотала о том, чтобы им выплачивалось достойное содержание. Очевидно, новоприбывший Ипполит Григорьевич был одним из ее последних трофеев, молодым светилом педагогической науки, привезенным ею в Золотоболотинск. Теперь он стоял посреди музейного зала с выражением чрезвычайной растерянности на лице и, кажется, не отваживался даже оглядеться по сторонам.
– Да не держите вы его, – проворчал Василий Никандрович. – Ишь вцепились, как будто он тут куда побежит.
Городовые выпустили руки молодого человека, и они повисли вдоль его тела так, как будто больше не принадлежали ему.
– Велите подать стулья, изверг! Да принесите воды! – потребовала Амалия Витальевна.
Пристав коротко распорядился. Скоро вся компания расселась в зале вокруг разбитой витрины. Только Ивлин стоял ближе к окну, то ли, чтобы свет падал на его блокнот, в котором он уже вовсю строчил материал для будущей статьи о громком преступлении, то ли чтобы никто не мог заглянуть ему через плечо и прочесть написанное. В отличие от прочих, принявших подобающий ситуации удрученный вид, журналист выглядел радостно возбужденным: кража золотых древностей – хорошая, заметная тема.
«Глядишь, и вывезет его эта кража в столичные репортеры, – с легкой завистью отметил про себя Иван Никитич, и тут же встряхнулся: – Да ведь и я не лыком шит. Вот ведь как оно бывает в жизни. Только я загадал, что хорошо бы придумать полицейскую историю, раз нашей публике такое нравится, так вот вам, пожалуйте. Из местного музея похищено древнее золото! Смотри, Купря, смотри и запоминай. Вот тебе и готовый сюжетец! Да не мелкая провинциальная ерунда, а громкое красивое происшествие! И то сказать: изящное преступление! Теперь, право, и неловко уже вспоминать, что хотел описать кражу каких-то там запонок».
Тойво, сохраняя озабоченное выражение лица, живо включился в происходящее: он достал из кармана небольшой альбомчик, который всегда имел при себе, остро отточенный карандаш и принялся набрасывать взволнованные лица и позы собравшихся.
– Господин Купря и вы, господин Виртанен, – обратилась к ним Амалия Витальевна, – я так рада видеть вас здесь. Вы – культурные люди, не то что эти… эти служаки. Я утром уже телефонировала в Петербург, и мой муж обещал, отложив все дела, незамедлительно явиться. Но он приедет только дневным поездом. А пока, прошу вас, если обстоятельства позволяют вам, не уходите, будьте моими свидетелями, не дайте им бросить бедного учителя в застенки!
«Бедный учитель» сидел, понурившись и как будто слабо интересуясь происходящим. Заступничество госпожи Вайскопф должно было бы ободрить его, но пока производило, кажется, прямо обратное действие. Молодой педагог явно уже нарисовал самую мрачную картину своего будущего и заранее смирился с ним.
– Да полноте, Амалия Витальевна! Вам, право, не следует так переживать. Я уверен, здесь скорее всего произошла какая-то ошибка. Василий Никандрович скоро во всем разберется! – горячо заверил её Купря, обернулся за поддержкой к Тойво, но тот только молча и серьезно кивнул, перенося быстрыми штрихами угрюмый профиль учителя на лист своего альбома. Тогда Иван Никитич обратился к приставу:
– Разъясните нам, Василий Никандрович, в чем собственно обвиняют этого молодого человека?
– Да, кстати, господа, я должна вам представить, – спохватилась госпожа Вайскопф. – Это Ипполит Григорьевич Носович. Вы наверняка слышали о нем. Он признан лучшим учителем истории в прошлом году в Петербурге. Он имеет напечатанные в научных журналах статьи по педагогике и по истории нашего края. И вот, вообразите, мне удалось заручиться поддержкой попечительского совета и выписать его на целых три месяца к нам, в Золотоболотинск!
– Но позвольте, Амалия Витальевна, – перед ней выросла крепкая фигура пристава, – Разрешите поинтересоваться: разве учебный год не подходит к концу? На что нам в Золотоболотинске новый учитель, если вскорости все дети будут отпущены на отдых?
– Ах, ну какой же вы бесчеловечный человек! – воскликнула Амалия Витальевна и всплеснула руками, глядя снизу-вверх на пристава. – Во-первых, до начала вакаций есть еще достаточно времени, чтобы провести несколько показательных уроков и встреч с коллегами. Во-вторых, как я вам уже не раз повторила, господин Носович питает к нашим местам в первую очередь научный, исследовательский интерес историка. А в-третьих, это что же, по-вашему выходит, что учитель не имеет права на отдых, на лечение, а должен только трудиться, должен всего себя отдать детям без остатка?
– Нет, отчего же, можно иногда и отдохнуть, – согласился Василий Никандрович. – Но только подозрительно как-то все это выходит! Приезжает в город новый человек, а на утро – глядь! – ценности пропали. Что тут можно подумать? К слову об отдыхе. Вы позволите мне присесть, Амалия Витальевна? Я с четырех утра на ногах.
Она махнула на него рукой с зажатым в ладони кружевным платком. Жест этот скорее можно было понять, как её желание, чтобы пристав лучше вышел бы из зала вон, но он с шумом придвинул один из стульев, опустился на него прямо напротив приезжего учителя и обстоятельно заговорил:
– Так вот как оно у нас с вами получается. Молодой учитель – а нам всем достаточно хорошо известно, что учителя получают небольшое жалование – сводит полезное знакомство с провинциальной дамой…
– Что? – взвилась Амалия Витальевна. – Вы смеете называть меня провинциалкой? Да если бы не Яков Александрович, я никогда бы не уехала из Петербурга! Да я хоть сейчас могла бы вернуться в свою квартиру на Васильевском! Это я-то «провинциальная дама»?!
– Неверно выразился, приношу свои извинения, – спохватился Василий Никандрович, и Купря заметил, что его щеки даже немного порозовели от неловкости. – Имел в виду только нынешнее место вашего проживания и исполняемую вами, уважаемая госпожа Вайскопф, почетную роль попечительницы наших учебных заведений, местоположением также находящихся на некотором удалении от столичного Петербурга. Так вот, господин Носович прибыл сюда накануне, так что не был пока даже никому ещё представлен из местной интеллигенции. Не так ли, господа?
Купря и Виртанен покивали в ответ, Ивлин не отрываясь записывал что-то в блокнот. Пристав немного пришел в себя после неловкости и заговорил увереннее:
– Господин Носович никому ещё не представился, но первым делом направил свои стопы в наш музей и попросил показать ему историческую коллекцию Золотоболотинска. Об этом свидетельствуют смотритель и сторож, которые видели его вчера здесь.
– Зачем вы нам это рассказываете? – перебила Амалия Витальевна, обмахиваясь надушенным платком и всем видом выражая скуку и усталость. – Как будто нам это неизвестно. Я же сама и проводила господина Носовича в музей, и сама показывала нашу коллекцию. Могу вам дать полный отчет о вчерашнем дне моего гостя. Нет, не моего, а нашего! Ведь этот выдающийся педагог приехал не ко мне с частным визитом, а в наш город как официально приглашенное попечительским советом лицо. Так вот, если угодно, я могу вам рассказать подробно. Ипполит Григорьевич приехал вчера с утренним поездом. Время его прибытия вам, полагаю, известно. Затем он позавтракал вместе со мной в «Парадизе». Спросите там, вам любой официант подтвердит это, если вы мне не верите. Затем ему была показана нанятая для него здесь квартира на Зеленой улице. Хозяйка вам подтвердит. Уже тогда Ипполит Григорьевич выразил желание первым делом осмотреть музей. Что же в этом подозрительного, Василий Никандрович? Мы подробно обсуждали нашу историческую коллекцию в переписке на протяжении последнего полугодия. Скажу больше: интерес к золотоболотинскому кладу стал одной из причин, почему столь блистательный педагог решился на три месяца покинуть столицу и переехать к нам, в это захолустье.
Василий Никандрович многозначительно хмыкнул и поднял палец, но Амалия Витальевна в ответ только громко ахнула и махнула платочком прямо у него перед носом:
– Да что вы за человек! Какое, позвольте спросить, вы получили образование? Вы можете представить себе, что ученым, историком может двигать не меркантильный, а чистый научный интерес? Ведь наши коллекции еще толком даже не описаны. Я имею в виду не инвентарную какую-то там простую перепись, чего и сколько тут хранится, а подробное научное описание экспонатов. В особенности же конечно именно золотых предметов, ценность которых представляет прежде всего их древность и уникальность.
Амалия Витальевна оглядела всех собравшихся. Лицо её светилось возмущением.
– Ипполит Григорьевич, дорогой мой! – воскликнула она. – Ну что же вы отмалчиваетесь? Защищайтесь, в конце концов! Что же вы бросили меня одну на амбразуру этого невежества?
Носович медленно поднял голову, поправил очки и впервые со времени своего появления в музейном зале, заговорил:
– Простите, Амалия Витальевна, я несколько сбит с толку всем происходящим, – голос у него оказался на удивление тихим и мягким для учителя. – Признаться, меня ни разу в жизни не брали под арест, и я не знаю, как мне следует себя вести. Смею лишь уверить вас, что совершенно не имею никакого касательства к произошедшей краже…
Голос учителя заметно задрожал, Купре даже на мгновение показалось, что молодой человек сейчас расплачется, но тот взял себя в руки. Вместо него вдруг разрыдалась Амалия Витальевна, закрыв лицо ладонями с зажатым в них кружевным платком:
– О, Господи! Как часто я представляла себе, что Ипполит Григорьевич, с которым мы стали уже настоящими друзьями, станет рассказывать всем по возвращении в Петербург, что Золотоболотинск – это наша маленькая Швейцария, городок мечты, лишенный пороков, стремящийся к культуре и образованности. И вот… и вот извольте полюбоваться! Все мои мечты втоптаны в грязь грубым сапогом! И Якова Александровича, как на грех, нет рядом! И юный учитель будет брошен в застенки!
– Амалия Витальевна, я попросил бы вас! Эй, кто там есть, принесите воды! – Василий Никандрович вскочил и заметался по залу. Иван Никитич понял: пристав совершенно не знал, как следует вести себя с дамой высокого положения. Ему привычнее было разнимать пьяную драку в кабаке или ловить мелкого воришку на базаре. Тут же нужно было принимать какие-то совсем другие, дипломатические решения.
– Иван Никитич, прошу вас, да скажите же ей!
– В застенки! – всхлипывала Амалия. Ее плечи взлетали и опускались и вместе с ними трогательно трепетала тонкая ткань пышных рукавов и дрожали выбившиеся из-под шляпки легкие кудри.
– Да какие застенки? – вскричал Василий Никандрович. – Забирайте вы вашего педагога! Только обещайте мне, что он останется до выяснения всех обстоятельств в городе и никуда не съедет с нанятой попечительским советом квартиры.
– А вы тогда обещайте мне, что вот он… – Амалия Витальевна отняла ладони от лица, и Иван Никитич, пораженный вспышкой её чувствительности, с удивлением отметил, что лицо госпожи Вайскопф совершенно сухо после этаких бурных рыданий, и даже глаза её не покраснели. Дрожащей рукой Амалия указала на стоявшего у окна Ивлина.
– Обещайте, что вот он не посмеет опубликовать ни строчки о нашем госте в связи с этим чудовищным преступлением!
Василий Никандрович перевел тяжелый взгляд на журналиста, медленно подошел к нему, поднял увесистый кулак и поднес к самому его носу. Ивлин поморщился и двумя пальцами отвел кулак полицейского от своего лица. Затем, натянув улыбку, поклонился даме:
– Только ради вас, драгоценная Амалия Витальевна. Исключительно из уважения к вам и вашему супругу готов пока умолчать. До выяснения обстоятельств не стану упоминать ни строчкой. Но если полиция установит причастность, то тогда уж не взыщите.
– Хорошо, в таком случае – до выяснения обстоятельств – мы уходим, – неожиданно примирительным тоном проговорила госпожа Вайскопф, по-деловому засобиралась, приводя в порядок костюм и прическу, нетерпеливо протянула руку Носовичу. Тот захлопал глазами за толстыми линзами очков, неловко поднялся, но не решался двинуться с места, пока пристав не кивнул ему. Уже в дверях Амалия Витальевна обернулась:
– Господин Виртанен, и вы, господин Купря! Прошу вас, господа, не откажите, непременно приходите сегодня вечером к нам. Яков Александрович приедет дневным поездом и, наверняка, сразу отправится в полицейский участок. Его, конечно, введут в курс дела, и все же… Как представлю себе, что должна буду пересказывать весь ужас сегодняшнего дня, то просто теряю дар речи. Вы обещали быть моими свидетелями. Приходите, прошу вас, к вечернему чаю поддержать меня. Одна я этого не выдержу! И мне так хочется обсудить, что вы думаете об этом!
– Непременно, непременно будем, госпожа Вайскопф! – заверил ее Иван Никитич, а Тойво по своему обыкновению, только молча поклонился, выражая всем своим видом сочувствие и готовность прийти на помощь.
Когда шаги на лестнице стихли, Василий Никандрович рухнул на стул и закрыл глаза рукой.
– Я с четырех утра на ногах! И хоть бы кто мне чаю предложил. Так нет. А у вас вот уже есть приглашение на чай. Хорошо быть ни к какой ответственности не пристегнутым. Знай себе рисуй картинки да придумывай всякие побасенки!
Купря и Виртанен переглянулись и дружно сочли, что сейчас самое время, чтобы откланяться. Ивлин пошел следом, и Иван Никитич уже не на шутку забеспокоился, что он увяжется за ними, но выйдя из музея, журналист наспех попрощался и повернул в сторону редакции.
Глава 4,
в которой художник замечает то, чего не видят все остальные
Оказавшись на улице, где все ещё болталось несколько зевак и стоял у входа в музей городовой, Тойво с облегчением вздохнул и предложил:
– Мне, Иван Никитич, хотелось бы сейчас с тобой переговорить об этом деле до того, как мы придем на вечер к полковнику.
– Ну так пойдем в «Парадиз», выпьем по чашке кофе, да по рюмочке Шустовского коньячку. После этаких потрясений, я думаю, можно себе позволить…
– Нет, только не туда, там может быть кто-то из знакомых, – Тойво понизил голос. – Пойдем лучше в трактир, где были вчера. Навряд ли там сейчас много народу. Там можно обсудить наши наблюдения и соображения, не опасаясь, что кто-то подслушает и донесет.
– Донесет? – не понял Купря. Тойво в свою очередь с удивлением посмотрел на приятеля:
– Или ты забыл в чьем доме тебя угораздило вчера провести вечер? И откуда в тебе только такая беспечность?
– Ты прав! – спохватился Купря. – Вот ведь какое невероятное совпадение!
– Действительно, невероятное, – покачал головой Тойво, беря друга под руку и увлекая в сторону привокзальной площади. – Знаешь, вчера я никак не мог взять в толк, почему ты выбрал для своей дурной затеи дом Вайскопфа. Еще эти твои разговоры про благородных разбойников и алчных стяжателей. Яков Александрович, насколько мне известно, отнюдь не дурной человек: не злой и не жадный. Но потом я подумал… не так много состоятельных домов в нашем городке. А даже и небедные дома все в семь-десять комнат, и всегда кто-то там есть: дети, бабки, тетки, прислуга… А у полковника дом большой, народу в нем мало. И расположен он удобно, в самом центре: если увидят тебя рядом, то никто не удивится, не спросит, зачем тебя туда понесло. Словом, если бы я задумал сделать такую глупость, как ты вчера, то, пожалуй, тоже залез бы к Вайскопфу. К тому же, человек он неглупый и благородный. Может, шутку бы и не оценил, но в полицию из-за одного жилета, пусть и шелкового, вряд ли стал бы заявлять, если бы ты, скажем, все-таки попался с поличным.
– Вот ведь как ты обстоятельно рассуждаешь, – задумался Иван Никитич. – А ведь и то правда. Я-то при выборе дома исходил только из того, как туда сподручнее и незаметнее можно было бы влезть. А за домом Вайскопфа как раз подходящая местность: пустой лужок, где вечером вряд ли кого-то встретишь – да ты сам знаешь.
В трактире в этот час, как и ожидалось, было совсем малолюдно, только у двери сидели, низко склонившись над тарелками с супом два каких-то мимоезжих мужика, чья нагруженная товаром телега стояла на площади. Иван Никитич и Тойво выбрали столик в самом конце зала, взяли по тарелке щей и мясной пирог.
– Поговорить нам надо бы на трезвую голову, – строго сказал Тойво, и Иван Никитич, вздохнув, не стал спорить. Когда половой принес все заказанное, Купря, низко склонившись над столом, горячо, но как можно тише заговорил:
– Как все-таки это удачно, что Амалия Витальевна нас сегодня пригласила в гости! Как по заказу! Как раз не откладывая и подброшу назад все, что вынес у них давеча из дому.
– Только на мою помощь не рассчитывай! – сердито откликнулся Тойво, протирая салфеткой трактирную ложку и придирчиво осматривая ее, прежде чем приступить к еде. Потом они некоторое время молчали, занятые трапезой.
– А неплохие щи у них, – заметил, наконец, Иван Никитич. – Для привокзального трактира весьма недурные. Не то, что ожидаешь встретить в заведении такого пошиба, где, небось, и напитки разбавляют. Можно было бы подумать, что подадут одну воду с капустой, ан нет. Настоящие наваристые щи. Даже вот мясо со всей очевидностью есть в тарелке. За этакие деньги весьма недурно. Или это оттого, что хозяин признал нас? Может быть, незнакомым, тем, кто здесь только проездом, он что похуже предлагает, как ты думаешь?
– Я, Иван Никитич, вообще о еде столько не думаю, – отрезал Тойво. – И я даже не понимаю, почему сейчас твои мысли заняты щами, а не похищенным золотом.