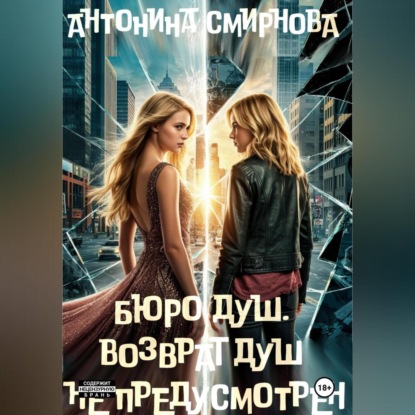В мире, где граница между реальностью и магией истончается, а тени обретают голос, разворачивается эпическая история, полная тайн, предательств и древних пророчеств.
В мире людей: Империи Солнечного Шипа, Ледяной Конфедерации и на Алмазном побережье происходят загадочные события, предвещающие беду.
А в мире фэйри пять великих Домов — Солнечного Золота, Лунного Света, Весеннего Цветения, Зимней Ночи и Дикой Охоты — ведут свою игру. Их союзы хрупки, а древний договор трещит по швам. Лираэль, посланница Дома Лунного Света, обнаруживает, что её отец, хранитель тайн, исчез, оставив лишь предупреждение: "Они уже здесь".
Когда трещина на луне становится не просто символом катастрофы, а отражения в зеркалах начинают жить собственной жизнью, герои понимают — пробуждение Королевы Теней неизбежно. Но кто она: спасительница или разрушительница? И какую роль в этом играет Лунный Сад — место, где сходятся все миры?
- Книги
- Аудиокниги
- Жанры
- Cаморазвитие / личностный рост
- Зарубежная психология
- Попаданцы
- Боевая фантастика
- Современные детективы
- Любовное фэнтези
- Зарубежные детективы
- Современные любовные романы
- Боевое фэнтези
- Триллеры
- Современная русская литература
- Зарубежная деловая литература
- Космическая фантастика
- Современная зарубежная литература
- Все жанры
- Бесплатные книги
- Блог
- Серии
- Черновики
Вход В личный кабинетРегистрация