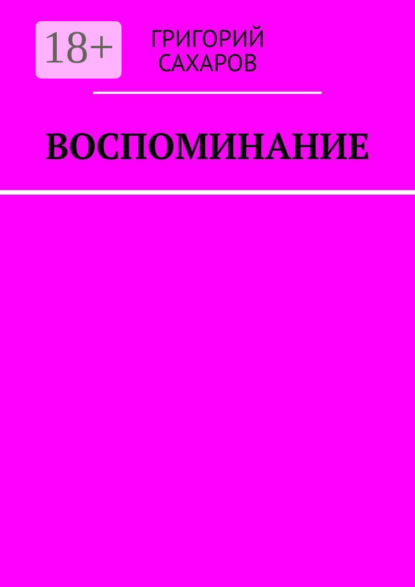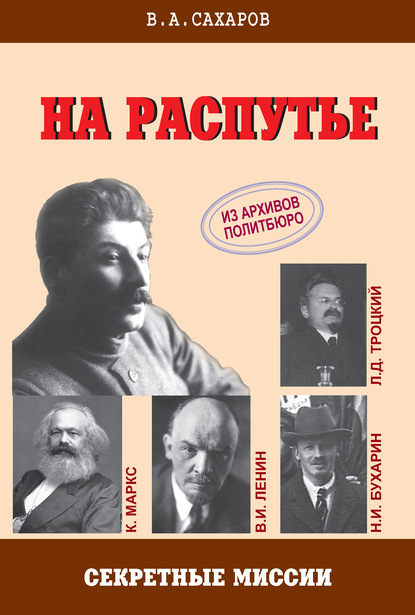Святая грешница. Возрождение

- -
- 100%
- +
Хотя, кто знает?! Несмотря на возраст и нараставшую немощь, барон казался ей таким живучим! И куда выносливей многих своих сервов.
Анриетта снова попросила у Бога прощения, ведь подобные мысли уже не в первый раз посещали её…
Работы по подготовке к зиме в целом были завершены. Дни становились короче и холодней. Затяжные дожди иногда по несколько дней не позволяли высунуть без надобности нос во двор. Люди большую часть времени отсыпались, согреваясь в своих углах после привычных каждодневных хлопот. Жизнь как будто замедлилась. Всё вокруг ― и природа, и люди, и животные понуро ожидали прихода зимы, которая на пять долгих месяцев установит свои суровые законы.
И она наступила. И, как всегда, совершенно неожиданно. Просто однажды утром люди встали и увидели покрытый тонким белым ковром двор. Снежное безбрежье полей за стенами усадьбы преобразило ещё вчера унылый серо-чёрный пейзаж.
Первые зимние дни принесли ощущение чистоты и обновления. Жизнь в усадьбе на короткое время оживилась. Детишки наслаждались снегом, нечасто баловавшим обитателей этих краёв. Даже лёгкий морозец их не пугал. Но и тем, кто давно вышел из детского возраста, тяжело было удержаться, чтоб не кинуть снежком друг в друга, а то и сунуть за шиворот горсть снега.
Но, когда первый снег растаял, и вновь зачастили более привычные для местной зимы дожди, уныло потянулась бесконечная череда ветреных промозглых дней. Люди, обмотавшись, кто чем, старались побыстрей управиться с делами на подворье, чтобы снова укрыться под защитой толстых стен, поближе к доброму, несущему жизнь огню очага.
Теперь Анриетта практически не покидала дома. Пока позволял дневной свет, она вместе с другими женщинами старалась переделать обычные домашние дела. Когда же домом овладевала тягучая скука долгих однообразных вечеров, а служанки, собравшись на кухне, сучили пряжу, вязали, скручивали фитили для масляных ламп, госпожа возобновила работу над покрывалом для статуи Девы Марии, которое начала вышивать серебряной нитью ещё в прошлом году. Она намеревалась преподнести его в дар соседнему монастырю в надежде, что Божья Матерь услышит, наконец, её молитвы. Но потом как-то так получилось, что работу забросила.
Эльза, которую первая жена барона научила вышивать, предложила хозяйке свою помощь, но Анриетта категорически отказалась. На это своё подношение молодая женщина возлагала большие надежды. Она непременно хотела сделать всю работу собственными руками, уповая на то, что Пречистая примет её дар и не оставит отныне своим покровительством. И, кроме того, её отношение к экономке стало в последнее время заметно прохладней. После того случая с конюхом госпожа с трудом выносила присутствие непробиваемой немки.
После ужина, когда барон устраивался в любимом кресле напротив очага, чтобы подремать после еды, а слуги разбредались по своим углам, Анриетта тоже усаживалась поближе к очагу (здесь было светлей), чтобы продолжить своё рукоделие. Правда, ей то и дело приходилось отрываться от работы, чтобы растереть мужу руки и ноги, потому что он постоянно мёрз и сильнее, чем летом, страдал от подагры.
К сожалению, она не успевала завершить покров к празднику Введения во храм Богородицы, до которого оставалось меньше месяца, и который почитался женщинами, как имеющий особую силу для дел семейных. Но она приложит все усилия, чтобы успеть к 1 января ― Дню Торжества Пресвятой Богородицы.
В один из таких вечеров Анриетта сидела, как обычно, у ног барона на медвежьей шкуре, брошенной на пол. Барон мёрз, а ей было жарко. Он зябко кутался в меха, а её лицо раскраснелось от обжигающей близости огня. Её разморило, вышивание выпало из рук. Она с удовольствием ушла бы в свою комнату, но не смела, пока муж был здесь.
Возле барона обычно крутились две старые охотничьи собаки, с которыми уже давно никто не охотился, и которые были, пожалуй, единственными, кроме, конечно, лошадей, кто пользовался неизменными любовью и вниманием хозяина. Иногда, когда барон был в добром расположении духа (правда, случалось это нечасто), они даже допускались ночью в его покои. Хотя большей частью спали в зале, греясь возле остывающего очага.
Одна из собак устроилась рядом с Анриеттой, положив морду ей на колени. Молодая женщина машинально гладила животное по голове, изо всех сил борясь со сном.
– Мадам! ― вывел её из полудрёмы резкий голос мужа.
Анриетта встрепенулась. Отбросив назад упавшие на лицо пряди растрепавшихся волос, которые, находясь дома, не было нужды прятать под чепец, она устремила на мужа выжидающий взгляд.
Но он на неё не глядел. Его немигающие глаза были прикованы к огню. Отблески пламени плясали на выдубленном временем лице, неуловимо меняя рисунок избороздивших его глубоких морщин.
Молодой женщине внезапно почудилось, что это ― и не лицо вовсе, а зловещая кривляющаяся маска, непрерывно меняющая выражение, что странно контрастировало с неподвижной остекленелостью выцветших глаз.
– Мадам, ― маска, даже не повернувшись в её сторону, заговорила, почти не шевеля губами, ― я нашёл выход…
Анриетта ждала. Что-то насторожило её в тоне, каким обратился к ней супруг. Хотя… может, ей просто спросонья показалось, что голос его прозвучал как-то уж слишком торжественно?
– Надеюсь, вы хорошо помните историю Авраама, Сары и Агари? ― наконец продолжил барон.
Анриетта недоумённо вздёрнула брови, не понимая, к чему он клонит.
– Когда Сара не могла дать своему супругу наследника, ― чётко и размеренно выговаривал каждое слово барон, ― она привела Аврааму наложницу.
Молодая женщина онемела. Неужели её муж всерьёз считает, что дело в ней, а не в нём? И он собирается найти ей замену?..
Откровенное недоумение отразилось на её лице.
Но барон, не давая ей опомниться, всё так же оцепенело уставившись на пламя, невозмутимо продолжал:
– Так вот, в одном из моих сервов течёт кровь нашего рода. Он ― плод юношеских шалостей моего покойного сына… Но, хоть он и бастард, он ― носитель нашей крови. Понимаете? Моей крови!
Анриетта всё ещё не пришла в себя, но, кажется, уже начала догадываться, в чём дело:
«Так значит, мой муж решил сделать наследником своего незаконнорождённого внука?! Что ж…»
Но она не успела вдуматься, как следует, чем это лично для неё чревато, как барон скороговоркой выпалил:
– Мадам, вы родите мне от него сына!
Если бы молния ударила в кресло, и муж её взвился столбом пламени, это, наверное, потрясло бы Анриетту меньше, чем то, что она услышала.
Рот её приоткрылся. С губ, казалось, вот-вот сорвётся вопрос. Но она так и не издала ни звука, только, как рыба, вытащенная из воды, хватала ртом воздух.
Сообщив своё безумное решение, барон, наконец, прервал созерцание пламени и перевёл взгляд на оцепеневшую у его ног молодую женщину. Его узкие губы искривились в змеиной улыбке.
– Вы, конечно же, подумали, что я собираюсь сделать его своим наследником? ― он скрипуче засмеялся. ― Но этого не будет. Нет! Чтобы это ничтожество представляло один из славнейших родов? Никогда!!! Я сам воспитаю того, кто будет достоин называться моим именем! Это должен быть МОЙ сын!
В гробовой тишине Анриетте казалось, что слышно биение её сердца.
– Надеюсь, мадам, ― продолжил барон после небольшой паузы, ― излишне напоминать Вам, что всё должно держаться в тайне? Строжайшей тайне!!! ― он сделал особый акцент на слове «строжайшей».
– То есть, к-к-как это ― родить? ― смогла, наконец, несколько запоздало выдавить из себя потрясённая Анриетта.
– Как, как?!! ― барон начал выходить из себя: слишком уж затягивалось это её непонимание. ― Как все рожают! Будете рожать до тех пор, пока не родите мне наследника! Сына! Слышите?! Мне нужен сын!
– Но это… невозможно!!!
Анриетта отказывалась поверить в реальность происходящего.
– Почему же это невозможно?! Оч-чень, оч-чень даже возможно! В его жилах течёт кровь моего рода! А вот вас, душечка, я и взял только лишь потому, что семейство ваше отличается отменной плодовитостью. Иначе грош цена была бы вам с вашим «роскошным приданым»! Господу угодно было лишить меня мужской силы, но я не допущу, чтобы мой род угас. Не допущу! Слышите?!
В голосе барона послышались истерические нотки. Издевательский поначалу тон, в котором насмешка сплелась с бессильной яростью и стыдом за своё вынужденное унижение, едва не сорвался на визг.
Но он быстро взял себя в руки, спрятавшись за спасительным сарказмом:
– А что, собственно, Вас так беспокоит, мадам? Вас же оплодотворит человек, в котором течёт самая, что ни на есть, благородная кровь!
Комната поплыла перед глазами молодой женщины. Страх и отвращение объяли всё её существо.
Да её муж попросту выжил из ума! То, что он требует от неё, ― чудовищно и омерзительно! Не может же он, в самом деле, предлагать ей это всерьёз?!
Анриетта попыталась заглянуть в глаза барона, надеясь уловить в них хоть какой-то намёк на то, что он шутит.
А, может, он просто испытывает её?
Внезапно, совершенно неожиданно для себя, Анриетта осознала, как несчастен этот старый уставший человек. С потрясшей её очевидностью она буквально нутром почувствовала, каких усилий стоило ему, надменному гордецу, прийти к подобному решению. И, невзирая на собственные обиды и бесконечные унижения, острая жалость пронзила ей сердце.
Да ведь он же просто нуждается в сострадании! Может, сострадание ― это как раз то, что может смягчить его?
Руки сами собой сложились в молитвенный жест, обращённый к мужу, взывая к его благоразумию:
– Не может быть, Ваша милость, чтобы Вы, и в самом деле, решили сделать такое! Вы же ― благородный человек! Вы говорите это просто от отчаяния!
– Дело ― решённое, мадам! ― барон с усилием выпрямил негнущуюся спину. ― Вы принесёте мне сына или я вышвырну вас вон!
– Но я не стану этого делать! ― вскричала Анриетта, впервые за годы супружества повысив голос. ― Я ― Ваша супруга перед Богом и людьми! Это же грех!!!
– Аврааму Бог простил, ― ледяным тоном возразил барон, ― и нам простит! Это ― куда меньший грех, чем позволить прерваться благородному роду. Так что, это прегрешение Господь уж как-нибудь стерпит!
Анриетта нашла, наконец, в себе силы, чтобы подняться.
Потревоженный пёс недовольно заворчал.
Будь здесь в этот момент художник, в молодой женщине с пылающим от жара и гнева лицом, разметавшимися по плечам медными волосами, в отблесках пламени казавшимися огненными, он увидел бы прекрасную языческую богиню.
– Нет! Я не могу, понимаете! И не стану! Ни за что, ни за что! Ни за что!
Она повторяла эти слова, как заклинание, словно пыталась воздвигнуть из них стену, которой могла бы отгородиться от ужасающей действительности.
– А Вас никто и не спрашивает! ― отрезал барон.
Он чувствовал себя хозяином положения. За своё унижение он теперь отыгрывался, упиваясь своей безграничной над нею властью.
– По-видимому, Вы запамятовали, мадам, что являетесь моей собственностью? Так вот, Вы будете делать всё, что я велю! Всё!!! Слышите? А не то…
Он не договорил, но Анриетта и без того достаточно хорошо усвоила, на что способен её супруг в гневе.
– Всё! Вы утомили меня. Ступайте к себе и молитесь, чтобы Господь помог Вам поскорей исполнить свой долг перед славным родом, к которому Вам выпала честь принадлежать. И не забывайте: именно для этого я взял Вас, нищенку, в жёны! Я извещу Вас, когда Вы должны быть готовы. А теперь ступайте, ― уже с нескрываемым раздражением махнул он рукой, ― я не желаю больше Вас видеть!
Анриетта сжала пальцами виски, пытаясь унять бешеную пульсацию крови, и, пошатываясь, покинула залу, направляясь наверх.
Невозможно передать охватившее её смятение. Разве в такое можно было поверить? Муж, данный ей Богом, сам, по своей воле! принуждает её к отвратительному греху, к прелюбодеянию! И это тот, кто держал её взаперти на протяжении всего замужества, сторожевым псом следя за каждым её шагом?! Разве не он закрыл двери своего дома для гостей и подозрительно косился на любого, кто, как ему казалось, бросает на его жену фривольные взгляды, будь-то на улице, в харчевне или в храме?! И вот теперь он сам отдаёт её другому, собирается использовать её, свою жену, баронессу(!!!), как племенную кобылу на расплод?!
Анриетта задыхалась от возмущения, стыда и собственного бессилия.
Как и всякая девушка благородных кровей, она была воспитана в христианских традициях понимания добродетели.
О, лицемерное противоречивое время, пронизанное фанатичным благочестием одних и грубыми животными инстинктами других! Благородство происхождения вполне уживалось с самыми примитивными сторонами человеческого бытия. Хозяева родовых замков и их слуги, люди и домашние животные жили бок о бок, зачинались, рождались, трудились и умирали на глазах у всех. И не было, да и не могло быть, тайн в этой единой для всех повседневности. В ней жили, с ней срастались кожей, как с одеждой, которую донашивали до дыр, не замечая её ветхости и убогости. С малых лет обитатели поместий, будь-то господские отпрыски или сопливые золотушные ребятишки самого жалкого из сервов, узнавали жизнь во всех её проявлениях. Они рано начинали вкушать её тяготы и примитивные радости, не особо мучаясь дилеммой: хорошо это или плохо? Слава Богу, всегда находился тот, кто решал за тебя, что для тебя хорошо, а что ― нет: отец, священник, муж, сеньор…
И только к благородным девицам было особое отношение и особые требования.
Это девчонки-простолюдинки, едва достигнув двенадцати-тринадцати лет, а то и раньше, заваливались где-нибудь на сеновале со своими сверстниками или ублажали в постели хозяина, с незапамятных времён сохранявшего «право первой ночи». А дворянские дочери обязаны были беречь свой «бутон юности и невинности», как называли трубадуры главное их сокровище. Целомудренность их ценилась, была капиталом, достоянием семьи, их непорочность ревностно оберегалась до того самого порога, за которым начиналась семейная жизнь. А там уже на пост защиты целомудрия заступал супруг, получавший у алтаря в собственность и тело, и помыслы, и душу своей избранницы.
Анриетту, несмотря на бедность её семьи, воспитывали, как и подобает женщине её положения. Она хорошо усвоила свои права коих было не так уж и много, но и что гораздо важнее! свои обязанности. В их числе, после, конечно же, почитания Бога, на первом месте стояли послушание мужу и супружеская верность.
Главная добродетель замужней дамы ― её… добродетель! Долг жены ― беречь незапятнанной свою честь и честь супруга, свято соблюдая завет Всевышнего: «Не прелюбодействуй!»
И вот теперь её супруг, которому она благословлена родителями и Господом, сам принуждает её к супружеской неверности! Отдаёт её какому-то слуге, серву, пусть даже с каплей благородной крови в жилах! Отдаёт, как простую служанку, как безгласную рабыню …
Но ведь она ― не служанка! Она ― благородная дама!
«Ну и что? ― сама себя безжалостно одёрнула Анриетта. ― Ну и что?! Ты ― такая же его собственность, как и любая из женщин, живущих в этом доме. Такая же, даже больше! Твои служанки имеют куда больше возможностей распоряжаться хотя бы своим телом. А ты ― его полная, аб-со-лют-на-я собственность до конца дней своих!!!»
Анриетта не выдержала и разрыдалась.
Что ей оставалось? Разве что уповать на ту единственную, которая не могла, не должна была оставить её один на один с этой бедой. К ней, Заступнице, её мольба!
Униженная, растоптанная, Анриетта, захлёбываясь слезами, взмолилась Матери Божьей об утешении и защите.
Но слёзы, пусть даже самые жгучие и обильные, рано или поздно иссякают. А вот душа может кровоточить бесконечно…
…Анриетта приподняла голову, огляделась.
Глаза мучительно резало, как будто их засыпало песком. Она ещё окончательно не пришла в себя и потому не сразу сообразила, что сидит на холодном каменном полу. Тело затекло и окоченело.
Дом был погружен в непроницаемую тишину.
Огонь в очаге погас. Только угли ещё тлели, сохраняя в комнате жалкие остатки тепла.
Анриетта с трудом поднялась с пола, на котором так и уснула в слезах и молитве. Разворошив угли, она раздула огонь и сунула в разгоревшееся пламя пару поленьев из поленницы, которую служанка ежедневно пополняла в углу комнаты.
Озябшее тело с жадностью впитывало желанное тепло.
Немного отогревшись у очага, она юркнула в постель. Но спать уже перехотелось. Закутавшись с головой в одеяло из мягкого и густого бобрового меха, Анриетта свернулась калачиком, подтянув колени почти к самому подбородку и обхватив их руками. Её всё ещё била дрожь.
Мысли сами собой вернулись к состоявшемуся несколько часов назад разговору. Но теперь, выплеснув в слезах отчаяние, охватившее её в первые минуты, Анриетта обрела способность бесстрастно и даже как-то отстранённо, будто речь шла вовсе и не о ней, размышлять о том, как же ей быть.
Сопротивляться, отстаивая свою честь?
Но что она может? Да он попросту её выгонит! Или прикажет связать, и всё равно добьётся своего… силой!
Бежать из этого ненавистного дома, вернуться домой к родителям?
Но они не захотят, да и не посмеют принять её назад. Они с такой радостью пристроили её, избавившись от лишнего рта и хлопот о её будущем, что без колебаний отошлют блудную дочь обратно. Права супруга священны! А когда её вернут к мужу, пощады ей не видать…
Может, попробовать обратиться к кому-нибудь за помощью? Вопрос только: к кому?
К сеньору ― герцогу Филиппу? Только как ей признаться в таком позоре?! Вдруг это станет для герцога поводом для очередных насмешек над ней? И, даже, если он примет её сторону, что потом? Вполне вероятно, что Его Светлость не преминёт воспользоваться возможностью насолить упрямому барону. Но, вспомнив его наглое окружение, его издёвки и двусмысленное предложение присоединиться ко двору, Анриетта даже замотала головой. Нет, только не это! Где гарантия, что всевластный сеньор сам не захочет воспользоваться тем, что она ― в его руках. В таком случае, какая разница ― постель герцога или постель серва? А, если потом, натешившись вдоволь, он всё равно вернёт её мужу?..
Самым правильным было бы признаться духовнику, что муж принуждает её к греху. Священник не имеет права разглашать тайну исповеди, следовательно, можно не бояться позора.
Но, к чему это приведёт? Если даже святой отец по её просьбе попробует повлиять на барона, тот просто-напросто обвинит жену во лжи. А то и, в свою очередь, предъявит обвинение в супружеской неверности. И никто не поверит ей ― что стоит слово женщины против слова дворянина? Никакой суд, ни Божий, ни человеческий, не защитит жену, восставшую против мужа. Ведь Церковь требует от жён быть смиренными и не жаловаться на свою долю.
Знай бедняжка, что закон всё же давал право жене подать в суд на развод в случае, если муж несостоятелен в постели, осмелилась бы она на это? Ведь обвинённый должен был прилюдно! доказать свою мужскую состоятельность по отношению к супруге в присутствии судей, священников и зрителей. Пошла бы она на такое, чтобы обрести свободу, а вместе с ней нищету и позор, который преследовал бы её до конца её дней?
Анриетта затравленно оглянулась вокруг, ища ответа у безмолвных каменных стен.
Она ― в ловушке! Ей остаётся только смириться или…
О, нет! На это она никогда не решится. Ревностная католичка, она знает, что из всех грехов самый тяжкий ― самоубийство. Многое могут простить Церковь и Бог грешному человечеству. Даже ведьмам, которые вступают в связь с Дьяволом, Святая Инквизиция прощает грехи, если те раскаются и отрекутся от Князя Тьмы. Даже на костёр возводя, Церковь продолжает молиться за грешников, чтобы, пусть хоть в последний миг, хоть посмертно, спасти заблудшую душу от скверны, чтоб вернулась она к Отцу своему Небесному. И только самоубийцам нет прощения! Ни один священник не отпустит грехи и не станет отпевать того, кто взялся за самого Господа Бога решать, когда окончить свои грешные дни на земле. Их не хоронят в освящённой земле. Их душам нет пристанища ни на этом свете, ни на том.
Нет! Анриетта ни за что не решилась бы наложить на себя руки, так велик был её страх перед гневом Божьим и неприкаянностью своей души, соверши она этот тягчайший из человечьих грехов.
Выходит, остаётся одно ― смириться…
Анриетта даже удивилась тому, как спокойно прозвучал её приговор самой себе.
В любом случае, её-то вины в этом нет. Это было хоть слабое, но утешение ― грех этот будет на совести её мужа. А она… Ну, что она может сделать? Она ― всего лишь его собственность ― вещь. А, стало быть, ни за что не отвечает и ни в чём перед Богом не виновата.
Да, но как же её честь?
А разве у неё осталась честь?
К тому же, ведь об этом всё равно никто не узнает. Он сам так сказал. Ведь это именно ему, больше, чем кому бы то ни было, следовало беспокоиться о своей чести. Ведь он всегда так о ней печётся! Это он должен остерегаться, чтобы тайна происхождения ребёнка, если тот, конечно, родится, не была раскрыта.
Вот только как вынести всё это? Сможет ли она это сделать?
Боже, как же противно!
Что ж, значит, придётся стерпеть! В конце концов, вряд ли это будет более омерзительно, чем с собственным мужем. Анриетта зябко передёрнула плечами, вспомнив прикосновения слюнявого рта, мусолящего её губы, дряблую бессильную плоть и злобную ярость, которая захлёстывала барона после очередного разочарования. Бр-р-р!!!
Будь, что будет! ― молодая женщина окончательно отбросила сомнения. Она сделает то, что требует от неё мерзкий старик. И чем раньше она родит сына, тем скорей закончатся её муки. Барон получит желаемое ― наследника, а она ― дитя, которому сможет отдать свою нерастраченную нежность, свою любовь.
Анриетта поправила подушки и вытянулась под одеялом. Тело приятно разомлело в тепле.
Она больше не боялась. Она обрела желанную решимость, а с ней и долгожданный покой…
Наутро юная баронесса с гордо поднятой головой спустилась вниз к завтраку. Она была спокойна и исполнена достоинства. И только по припухшим векам и жёстко поджатым губам можно было догадаться о том, какую тяжёлую ночь она провела, и чего стоило ей принятое решение.
К счастью, в зале было недостаточно светло, чтобы это заметить. Да и кому было дело до подобных мелочей?!
…Время тянулось бесконечно. Однообразные дни, привычные скучные дела…
Между бароном и баронессой свинцовой тяжестью повисло напряжённое молчание. Барон больше не возвращался к мучившей его жену теме. Она же замкнулась в себе, ни о чём не спрашивала, ограничиваясь односложными ответами, когда муж к ней обращался.
Неотвратимо приближающаяся развязка превращала каждый день Анриетты в нескончаемую пытку. Не выдержав томительного ожидания, она впала в оцепенение. В ней будто оборвалась какая-то струна. Правда оставалась ещё робкая надежда, что всё это непотребство произойдёт нескоро: приближался адвент ― предрождественский пост. В дни поста Церковь требовала от паствы жёсткого воздержания, в том числе, и от плотских утех…
Но в один из вечеров за ужином, отослав прислуживавшую за столом служанку, барон обратился к жене:
– Ну, как, мадам, Вы готовы исполнить свой долг?
Как ни готовила себя Анриетта к продолжению гнусного разговора, вопрос мужа прозвучал для неё, как пушечный выстрел. Она так и застыла, не донеся ложку ко рту, не отрывая глаз от тарелки.
– Ну? ― переспросил барон, выжидающе уставившись на жену холодным немигающим взглядом.
Жирная от соуса нижняя губа недовольно оттопырилась. На дряблой шее пульсировала напряжённая жилка.
– Д-да, Ваша милость, ― наконец, выдавила из себя Анриетта.
Она всё же сумела взять себя в руки. В ней вдруг заговорила дворянская кровь. Горделиво вздёрнув голову, юная баронесса с вызовом посмотрела прямо в глаза своему мучителю.
– Я исполню Ваше желание, ― Анриетта сделала заметное ударение на слове «ваше».
Отчаянная решимость зажгла румянец на нежных щеках. Она с ненавистью и брезгливостью сверлила взглядом выцветшие глаза барона. В эту минуту Анриетта выглядела, как королева, вынужденная подписать капитуляцию, но не утратившая, при этом, своего царственного величия.
Такой барон видел жену впервые. Он не выдержал и отвёл взгляд.
Повисла неловкая пауза.
– Что ж, Вы приняли верное решение, душечка, ― в тоне, каким супруг, наконец, обратился к ней, вкрадчиво звучали примирительные нотки.
Анриетта не ответила, всем своим видом выражая неприкрытое презрение.
– Раз так, мадам, не станем откладывать. Будьте готовы сегодня ночью.
Сердце Анриетты оборвалось. Где-то в глубине души, видимо, всё же теплилась надежда, что всё это не может происходить на самом деле, и в какой-то момент весь этот кошмар кончится.
Однако ЭТО всё же произойдёт. Сегодня ночью…
Несчастная изо всех сил старалась сохранять внешнее спокойствие.