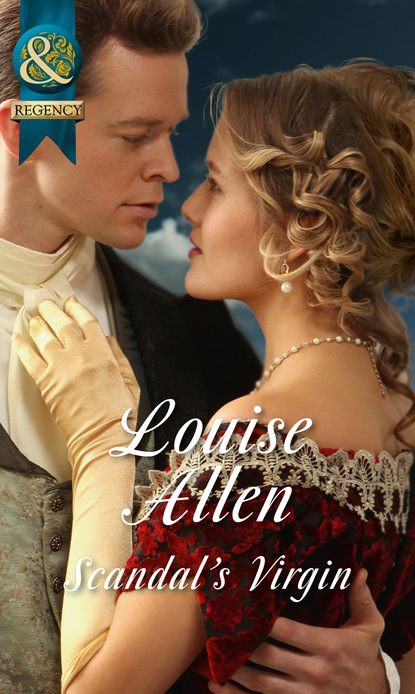- -
- 100%
- +

© Павел Соколов, 2025
ISBN 978-5-0067-0603-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Сын вернулся
Назначение в корпункт в Токио стало для него неожиданностью. Приятным и неприятным сюрпризом одновременно. Уже через неделю пребывания в Японии у Мельникова сгорела кожа на лице, ушах и шее. «Достать бы сметану!» – думал он. Но негде. К красной шее прибавились и потрескавшиеся от сильного тихоокеанского ветра губы. Но куда больше удручал его квартирный вопрос. Словно мячик в игре, Мельникова перекидывали с одного места на другое.
Токио активно отстраивался, раны прошедшей войны были почти что зализаны, но домов на всех не хватало. Да и домами многие хибары назвать было нельзя. И вот удача – один японец, отвечавший за уборку территории, сказал, что может помочь с квартирой. Под ней подразумевалась комнатка на втором этаже старого, чудом уцелевшего во время бомбежек дома (1924 года постройки). Хозяйка была вдова, ее муж погиб на фронте еще в 1938 году, а сын пропал без вести в 1945 где-то в Маньчжурии.
Недавно прибывший сотрудник советского корпункта не мог поверить своей удаче. Хозяйка говорила на непонятном ему кансайском диалекте, так что пришлось прибегнуть к помощи блокнота и карандаша. Благо читать она умела. Цена оказалась вполне приемлемой. Комната, отведенная Мельникову, когда-то принадлежала сыну женщины. Это была настоящая капсула времени. С 1941 года, то есть с момента призыва Хаятэ (так его звали), в ней ничего не менялось: книжный шкаф, забитый книгами и журналами 20-х и 30-х годов, на стенах развешаны плакаты японских и зарубежных фильмов, а также реклама алкогольных напитков, на которой были изображены прекрасные японки. В ящичке для одежды Мельников обнаружил новехонькие студенческую форму и фуражку.
Хозяйке было за 50, но выглядела она старше. Состарили ее, как и многих других, война и ожидание. Ждала она 9 лет. Но, судя по тому, что решилась сдать комнату сына, отчаяние и нужда взяли верх. Прошло уже 5 лет со дня капитуляции, но жизнь легкой отнюдь не становилась. Вот и пришлось пустить в дом гайдзина, да еще какого…
Впрочем, «дома» Мельников практически не появлялся, лишь поздно вечером приходил ночевать – а с утра снова прорываться на службу. Пыль, грязь, шум и толпы-толпы-толпы. Больше всего раздражали американцы, которые были особенно громкими. Он смотрел на них подозрительно, да и они платили ему той же монетой. Фултонская речь уже была давно произнесена. Холодная война становилась не такой уж и холодной, по Токио ползли слухи, что в бывшей японской колонии – Корее – вот-вот начнутся боевые действия. Но на лицах американских солдат, слоняющихся по столице в поисках приключений, читались лишь безмятежность и веселье победителей.
Шел уже май месяц, и в Токио снова воцарилась жара. Вернувшись относительно рано со службы, Мельников услышал в доме ругань. Он узнал голос хозяйки, еще звучал чей-то грубый мужской бас. Подумав, что это может быть вор, Мельников взял большую трость, лежавшую в прихожей, и осторожно пошел по коридору в сторону кухни. Посреди помещения стоял мужчина лет тридцати пяти в грязной поношенной японской военной форме без знаков отличий. На полу, обхватив его ноги, сидела хозяйка.
Было темно, со стороны могло показаться, будто у Мельникова в руках меч. Мужик, увидев гайдзина в советской форме, тут же снял свою ветхую кепку, вытянулся по стойке и произнес: «Гряздаа-нин наа-шарник, бивсий заакрюченний Судзуки прибир».
Мельников застыл на месте. Женщина, увидев в руке у постояльца трость, бросилась к нему с просьбой не бить сына. Причем уже на токийском диалекте. Разрядил обстановку смех Хаятэ. Уже через полчаса они сидели втроем, отмечая возвращение солдата сохранившейся с довоенных времен бутылкой дорогого сакэ.
Рядовой первого класса Судзуки Хаятэ сдался в плен в августе 1945 года, после чего на пять лет стал одним из миллионов узников ГУЛАГа. Личный номер военнослужащего императорской армии 140—578 сменился на лагерный Л-34094. Своеобразной формой издевки была буква «л», произнести которую большинство подданных императора Хирохито не могло по причине отсутствия ее в языке Басё и Мурасаки Сикибу.
За годы, проведенные на зоне, Хаятэ успел побывать в Сибири, на Урале и в Средней Азии. Он уже особо не надеялся вернуться на родину, когда на него пришла разнарядка. Поначалу даже решил, что его и еще пару сотен таких же заключенных везут в новый лагерь на работы, но эшелон двигался все дальше и дальше на восток. А там исхудавших японцев погрузили на японский транспорт и, словно лес, отправили в Йокогаму. Бывший солдат Квантунской армии не мог поверить своей удаче. Из их взвода в той партии был только он один. Хаятэ пил и рассказывал, заливаясь каким-то жутким красным смехом. Репатриант то и дело вставлял в свое повествование лагерные слова, прочно вошедшие в повседневный русский язык: братари, дохо-дяги, ур-ки… И самое страшное слово: норма. Оно произносилось четко и без акцента. Норма, норма, норма. Попробуй – не выполни! Сразу узнаешь, что такое урезанный паек.
Хозяйка во время всей беседы не переставала плакать. Мельников был удивлен такому поведению, ведь он слышал о сдержанности японских женщин, в голове у него то и дело всплывали сцены из новеллы «Носовой платок» Акутагавы Рюноскэ.
Когда бутылка была выпита, Хаятэ встал и поднялся наверх. Вернулся он спустя пару минут в студенческом кителе, накинутом на голое тело. Вся его грудь была в шрамах. Сам китель свисал с него мешком. Бывший рядовой первого класса Императорской армии Японии и заключенный ГУЛАГа продолжал смеяться, приговаривая, что ему всего 30 лет, что он обязательно восстановится в университете. Обязательно.
Мельников предложил вернуть хозяину его комнату, но хозяйка сказала, что сын будет спать в бывшем кабинете ее мужа, святая святых, еще одной капсуле времени.
К сожалению, об университете Хаятэ явно не думал. Он редко бывал дома, а когда возвращался, то был пьяным и грязным. Мать терпеливо укладывала сына в постель, меняла ему белье и обмывала его тело так, словно тот уже умер. В один из вечеров Мельников застал хозяйку сидящей на пороге. Она повторяла про себя, словно мантру: «Это не мой сын. Это не мой сын».
Очень скоро из дома стали пропадать вещи. Но женщина сносила все выходки своего отпрыска. И случилось то, что должно было произойти. У Мельникова исчезли его вещи: американская лендлизовская зажигалка и перьевая ручка. Кстати, также американская. Пропажу он обнаружил в день разноса на работе. Вернее, вечером.
Его начальник случайно обнаружил в столе своего подчиненного роман «Шанхай» Ёкомицу Риити. Мельников долго не мог забыть, как ему зачитали вслух начало этой книги: там главного героя в порту встречали « русские проститутки». Припомнили всё: каждую опечатку, каждое неосторожно сказанное Мельниковым слово. И то, кем был его настоящий отец. Невольным свидетелем разноса стал журналист Федин, недавно прибывший в Японию. Тот неожиданно заступился за молодого переводчика. Грозный начальник тут же отступил под давлением авторитета. Федин успел прославиться еще в Испанскую кампанию, каким-то чудом избежал чисток и сделал себе имя во время войны.
Мельников же с тяжелым сердцем вернулся домой. Что примечательно, книжка, из-за которой он получил по шее, была из библиотеки Хаятэ. Еще до возвращения бывшего лагерника молодой сотрудник иногда брал почитать кое-какие издания. Хорошо пошел Кавабата, тяжело Дадзай, потряс Тосон, и вот очередь дошла до автора «Шанхая», которого считали едва ли не военным преступником.
Утром к Мельникову пришла хозяйка. Она знала, что произошло, и просила не обращаться в полицию, предлагая деньги в качестве компенсации. Мельников не знал, как реагировать. Он лишь сказал, что всё понимает. Женщина постоянно повторяла: «Простите!»
На работе молодого переводчика ждал сюрприз: его приписали к журналисту Федину. Завтра они должны были ехать в Киото, а уже оттуда направиться в Нагасаки. «Подальше от начальства, и на том спасибо», – подумал Мельников и обрадовался нежданной удаче.
Вечером он предупредил хозяйку, что утром уедет где-то на неделю и попросил приглядеть за ценными вещами, коих осталось не так много. Женщина понимающе кивала. Изрядно уставший молодой человек хотел было пойти спать, но хозяйка передала ему конверт. Внутри была записка от Хаятэ: «Жду вас в восемь вечера в баре „Феникс“. Простите».
«Вот придурок! Нашел время», – по-русски произнес Мельников. Хозяйка всё поняла без перевода.
Часа в три ночи сёдзи в комнате Мельникова громко распахнулись. Озадаченный жилец включил свет. Перед ним в ослепительном белом смокинге и гладко выбритый стоял Хаятэ с бутылкой американского виски в руке. Он присел на пол, достал из внутреннего кармана зажигалку и ручку и положил их перед собой, после чего поклонился в пол и несколько раз произнес: «Простите!»
Мельников был в шоке. «Какой-то ненормальный!» – подумал он, но все-таки поблагодарил нежданного гостя.
– Вы так и не появились, очень жаль. Я уже рассказал о вас девочкам. Они так ждали вас. Ваши вещи меня сильно выручили. Я обыграл сразу троих американцев. Как мы им вообще проиграли войну? А дальше фортануло. Хоть чему-то лагерь меня научил, – смеясь, но при этом быстро и без запинки на токийском диалекте говорил Хаятэ. – Возвращаю долг. И небольшой сувенир.
Оставив на полу бутылку виски, японец резко встал и вышел из комнаты, насвистывая «Купите бублики».
В поезде
Утром Мельников попал под тропический ливень. Капли дождя были похожи на трассирующие пули. Они нещадно били всех, кто оказался тогда на улице. Даже зонт не уберег бы от их попаданий.
Из-за ливня молодой переводчик едва успел на вокзал. Его уже там ждал Федин с трубкой в зубах, в американской кожаной куртке и ковбойской шляпе. У ног валялся лендлизовский рюкзак. Журналист явно прибыл сильно заранее.
– Я думал, ты опоздаешь. Поспорил сам с собой, – произнес журналист и сплюнул на пол. – Поторопимся, а то все места займут.
То ли из-за дождя, то ли еще по какой причине, но вагон, в котором они ехали, был заполнен всего на две трети, что для послевоенной Японии было редкостью. Также бросалась в глаза грязь: шелуха, бумага, окурки. Все это «богатство» валялось на полу. Сам поезд отправился с опозданием. Ливень усиливался. Капли били по вагону так, что казалось, будто это уже град.
Мельникова знобило, одежда отказывалась сохнуть. Заметив это, Федин достал из внутреннего кармана фляжку и протянул ее своему товарищу.
– Выпей, а затем переоденься, – сказал журналист.
– Спасибо, но как-то неприлично, – ответил переводчик, глотнул из фляжки и раскашлялся.
– Ты не баба. Давай, хоть рубашку и майку смени, а то еще простудишься. И мне одному придется выполнять задание.
Мельников все-таки послушался старшего товарища, достал с полки чемодан, нашел нужные вещи и стал переодеваться. На некоторое время он приковал к себе внимание всего вагона. Пассажиры, хихикая, наблюдали за неуклюжим гайдзином. Не смотрела на них только сидевшая справа красивая девушка в изящном кимоно с гербом. К ней почему-то никто не подсаживался.
Федин потихоньку попивал из своей фляжки. Это был коньяк, семизвездочный. Журналист объяснил: все, что моложе семи лет и слабее сорока градусов, – это не алкоголь, а так, компот. А после рассказал о том, о чем Мельников и так догадывался. Под него копали, и уже давно. Командировка в Японию, казавшаяся приключением, была лишь отсрочкой неизбежного.
– Я просмотрел твое личное дело, мне настойчиво рекомендовали другого переводчика. Но я привык доверять своему чутью.
– Что стало с моим предшественником? Почему меня вообще так резко перевели сюда? – спросил Мельников.
– А я тебе рассказывал, как пил с Хемингуэем? – и Федин начал травить байки о своей бурной молодости. Вопросы к нему были, но задать их было нельзя. За журналистом тянулся целый шлейф из поломанных судеб, с одной стороны, и облагодетельствованных – с другой. По какому принципу этот веселый человек выбирал, кому помочь, а кого «переехать», было непонятно. Его иногда спрашивали, не родственник ли он того самого писателя Федина, на что журналист отвечал то «да», то «нет» в зависимости от собеседника и того впечатления, которое хотел произвести. Но даже когда обман раскрывался, облапошенный чаще улыбался, чем злился.
Неожиданно к советским гражданам подсел европеец – француз Гастон, с которым Федин тут же начал болтать, забыв о своем товарище. Мельников не знал языка Дюма и Бальзака, но о теме было нетрудно догадаться. То и дело в диалоге мелькали названия городов: Париж, Лион, Марсель… Везде Федин побывал в свое время. А в столице Франции восстанавливался после Испании (по слухам, его ранили во время рискованной операции по подрыву моста).
Гастон недавно приехал в Японию работать в католической миссии. Он долго рассказывал о тех гонениях, которым подвергалась церковь в эпоху Эдо и о том, как они повторились в эпоху милитаристов. В 30-е годы многих католических священников выслали из страны, а придерживающихся пацифистских взглядов верующих прихожан арестовали и продержали в тюрьмах аж до самого конца войны. Все это почему-то вызвало неподдельный интерес у советского журналиста. Еще Мельников заметил, с каким наслаждением его спутник смаковал французский язык, наслаждаясь не столько тем, что он говорил, сколько тем как. Мол, какой же я молодец! Федин любовался собой и тем, как за ним наблюдали окружающие.
Неожиданно сильный сквозняк прервал разговор. Кто-то впереди вагона открыл окно. Болтать, уворачиваясь от ветра, стало трудно. Пришлось пересесть на другие места – прямо напротив красавицы. Ведь их так никто и не занял.
Веселая болтовня тут же стихла. Девушка все время сидела к путникам в профиль. И вот они увидели ее лицо целиком. Вся левая сторона была выжжена. Она, стыдясь, прикрыла изуродованную часть веером, который достала из своей сумочки (подобные предметы были в моде в Европе в середине 30-х годов).
Девушка вышла на следующей остановке. Лавку, на которой та сидела, тут же заняли три старухи, обсуждавшие цены на маринованную редьку.
– Всю судьбу поломали, сволочи, – произнес Мельников.
– К такому не привыкнешь, – сказал Федин и допил содержимое своей фляжки. – Никогда.
Гастон ничего больше не говорил. Он тупо уткнулся в окно, любуясь пейзажами, и вышел через две остановки, сухо попрощавшись со своими новыми знакомыми, будто в том, что произошло с той девушкой, были виноваты они.
Мельников почувствовал, что у него начало першить в горле.
Старая столица
К Токио невозможно было привыкнуть. Там повсюду царили шум, суета и пыль. И толпы. Толпы людей, пытавшихся построить то, что называется «мирной жизнью». Война закончилась пять лет назад: повсюду были видны ее шрамы. Ковровые бомбардировки сделали свое дело. Но «мирная жизнь» все-таки налаживалась вопреки всему. Жизнь побеждала смерть. Вернее, замещала. На место хаоса приходил какой-никакой, но порядок. То там, то тут на месте выжженных пустырей вырастали новые дома. Хлипкие, но новые. Особенно впечатлял центр с бетонными небоскребами. Сияли огни рекламы, по радио крутили эстрадные хиты, на улицах устраивались митинги различных партий, смех детей и подростков сливался с грубой речью пьяных американских солдат, которые все никак не могли допраздновать свою победу. На Гиндзу будто снова вернулся дух ревущих2 0-х. Лучше других было жрицам любви, коим оставалось работать по специальности всего несколько лет. Особо ярые борцы за нравственность вот-вот добьются запрета проституции. А пока праздник для одних и выживание для других.
Та Япония, что Мельников представлял, и та, с которой он встретился, сильно отличались друг от друга. Так было до Киото. Только в старой столице картинки из альбомов и образы в голове совпали, разочарование сменилось радостью узнавания той самой страны из книг. Музейный город, на который не упало ни одной бомбы.
На вокзале Мельникова и Федина уже ждал товарищ Сато, неплохо говоривший по-русски. Его отец и дед были православными (последнего лично крестил сам отец Николай Касаткин). Данный язык был знаком ему с детства. Но в 30-е годы Сато стало не до религии. Как и многие молодые люди, жаждавшие перемен и не получившие их в то мрачное десятилетие, он увлекся левыми идеями. На одном из собраний его и арестовали. Отсидев два года в тюрьме и подписав формальное отречение от своих взглядов, Сато вышел на свободу и тут же поступил в Киотский университет на филологический факультет. От армии и возможной работы на оборонных предприятиях его спасла травма, полученная в заключении. Левая нога стала короче правой на два сантиметра. Удивительно, но обходился он без трости, спасала ортопедическая обувь. Покалеченных людей было много, и Сато не слишком выделялся из толпы своим прихрамыванием.
Федин поздоровался с японцем так, будто они уже виделись когда-то. Сато сказал, что ему удалось достать машину, старую «Мицубиси», которой предстояло стать служебным транспортом на время короткого пребывания «советских друзей» в старой столице. Погрузившись, они медленно поехали в сторону Императорского дворца.
В этом городе войны будто бы и не было: старинные домики, сады, чистые улицы. Единственное, что косвенно напоминало о недавнем конфликте, – это люди в выцветшей военной форме, исправно служившей и после капитуляции.
Мельникову бросилась в глаза одна пара: американский офицер и японская девушка в изящном шелковом кимоно с зонтиком. Федин лишь усмехнулся:
– Был бы ты в Германии в 1945 году. Там таких картин было, хоть отбавляй. Тут хоть с чертом встречаться начнешь.
Сато будто не слышал того, что произнес советский журналист, он продолжил рассказывать про историю Киото, про императоров и сёгунов.
– Там за угром зивет сам Танидзаки Дзюнъитиро! – торжественно произнес японец по-русски.
– Кто-кто? – переспросил Федин.
– Это писатель, у нас его роман выходил. «Любовь глупца», – ответил Мельников и закашлял.
– Ооо, ви знаэтэ эго романы?
– Нет, читал только этот.
– Недавуно быр напечаатан эго новий роман. «Меркий снег», нет… «Снежуный пейзаж», – произнес Сато.
У Мельникова еще сильнее заболело горло. Он хотел было поддержать разговор, но начался очередной приступ сильного кашля.
– — Разболелись вы, товарищ переводчик, – саркастично заметил Федин и закурил.
Машина тем временем подъехала к дому с садом. На калитке была надпись: «Сато Рю, преподаватель словесности». Жить предстояло на втором этаже в комнате для гостей, которую Сато любезно предоставил своим советским друзьям.
Весь дом был похож на библиотеку. На полках стояли книги на русском, японском, китайском и европейских языках. На первом особенно бросались в глаза труды по богословию, наследие старших Сато, ушедших в мир иной и завещавших почему-то своему сыну-коммунисту фамильное собрание.
Федин нервничал, он предложил оставить здесь вещи, перекусить и ехать дальше на задание. Журналист хотел проинтервьюировать одного из последних участников Сацумского восстания 1877 года, переночевать и завтра же отправиться дальше на юг.
Сато быстро организовал трапезу. Из соседней закусочной быстро доставили горячую лапшу-удон. Федин поинтересовался у хозяина, далеко ли живет герой. Тот ответил, что на машине ехать всего двадцать минут на север от города. Старик давным-давно постригся в монахи и живет при каком-то малоизвестном храме. Пока все ели, Мельников все чаще кашлял, аппетита у него не было, а от запаха рыбного бульона, в котором плавала лапша, его вообще чуть не стошнило.
– Ви сэбя прохо чувствовать, оставаатэсь здесь, я моогу переводить, – вежливо произнес Сато.
– Ничего страшного, – ответил Мельников. – Это, наверное, аллергия.
– Аллергия, ну да, как же, – в очередной раз саркастично заметил Федин и отхлебнул из своей карманной фляжки, в которой таинственным образом вновь оказался коньяк.
Закончив есть, все трое снова быстро погрузились в машину, все еще ожидавшую их у входа. Водитель, словно статуя, сидел все это время на своем месте. Была видна его армейская выправка, он когда-то был шофером у господ-офицеров, но времена изменились. Офицеры исчезли, как когда-то самураи.
По дороге к старику Сато продолжал рассказывать о достопримечательностях Киото, о народных ремеслах, театре Кабуки. Федин лишь кивал, покуривая свои американские сигареты (трубку он набивать не стал). А Мельников все кашлял и кашлял.
До места назначения машина доехала даже быстрее, чем предполагалась. Молодой послушник встретил троицу у ворот. Храм располагался на холме, к нему вела крутая лестница. Предстояло взбираться наверх, Мельникову стало плохо от одной мысли о восхождении. Но проявить слабость он не решился.
Послушник довольно быстро перемещался по ступенькам, несмотря на то что был обут в гэта. За ним стоически следовала делегация. Мельников и здесь не переставал удивляться Федину. Тот, будучи заядлым курильщиком, словно не чувствовал физической нагрузки. Тяжелее всех пришлось Сато, ведь карабкаться по ступенькам в ортопедической обуви – то еще занятие. Сам же Мельников неожиданно почувствовал облегчение. Приступов кашля больше не было.
Достигнув вершины и не успев даже как следует отдышаться, все трое дальше последовали за молодым человеком, словно за Белым Кроликом в книге Кэрролла. Благо, идти оставалось всего ничего. Старик уже ждал их в саду. Он был так увлечен поливкой растений, что не сразу заметил гостей. Вместо лейки у него было небольшое деревянное ведерко с черпаком.
Обменявшись поклонами и стандартными фразами, собравшиеся в саду люди прошли в небольшую беседку рядом с прудом. Разувшись и расположившись на татами, Мельников, Федин и Сато, казалось, смогли наконец выдохнуть.
Пожилой монах отдал распоряжения послушнику, и тот тут же побежал за холодным чаем. Старик был лыс и беззуб. Сколько ему было лет, сказать было трудно, но говорил он довольно бойко. Скоро вернулся молодой человек с вожделенным напитком, столь спасительным после трудного подъема на солнцепеке.
Освежившись, Федин предложил начать разговор. Заранее было оговорено, что переводить будет Сато, Мельникова же «понизили» до стенографиста, он должен был записывать вопросы и ответы в блокнот журналиста. Это немного оскорбило самолюбие молодого переводчика, но возразить было нечего.
Старик говорил много. На момент восстания ему было всего двадцать три года, и однажды ему повезло увидеть самого руководителя мятежа – грозного Сайго Такамори. Тот был настолько жирным, что его несли в паланкине четверо слуг (если верить словам старика). Было много деталей: что у участников оказались разнокалиберные ружья, что раненым и больным приходилось туго, что не хватало еды. Собственно, болезнь и спасла жизнь человеку, сидевшему теперь в беседке неподалеку от Киото спустя семьдесят три года после подавления восстания. Он успел принять участие всего в одном сражении, но во время длинного перехода простудился и был брошен умирать своими же товарищами. Ему повезло, неудачливого мятежника нашел буддийский монах, принес его каким-то чудом на своих плечах в храм, располагавшийся неподалеку, и как-то выходил несчастного. Когда болезнь отступила, судьба восстания оказалась уже давным-давно решена. Мятежники были разбиты. Многие из уцелевших самураев, сражавшихся на стороне Сайго, покончили с собой.
– Моя битва все еще продолжается, все мои товарищи давно мертвы, а я все еще жив, – говорил старик. – Каждый год я пишу их имена на поминальных табличках, только я помню их имена. Это мой долг. Судзуки Сосэки, Оэ Кинноскэ, Огава Такеси… Этим троим было всего по 20 лет. Они погибли за то, во что верили, и не оставили потомства. Войны забирают самых молодых и лучших из нас.
– Это можешь не писать, – сказал Федин Мельникову.
Спустя пять минут разговор был окончен по инициативе советского журналиста. Сато поблагодарил старика от лица делегации, а после гости, раскланявшись, поплелись в сторону выхода. Старик же встал и пошел в сад дальше поливать растения.
Спускаясь вниз по лестнице, Федин с негодованием то и дело произносил вслух: «Как так можно? Живет он, ага! Говно, а не материал!»
Сато долго сдерживался, а потом произнес по-русски: «Эта хоросайя судиба».
Мельников представил себя на месте этого старика спустя семь десятков лет, и ему вдруг стало страшно. Голова у него раскалывалась, чувствовалось, что температура зашкаливает.
Путь до дома спутники проделали в абсолютной тишине. Беззубая улыбка старика застряла в памяти у всех, даже у водителя, чье лицо, как казалось его советским пассажирам, не выражало никаких эмоций.